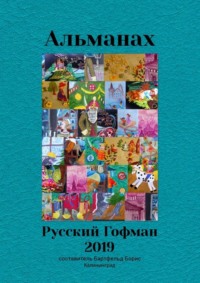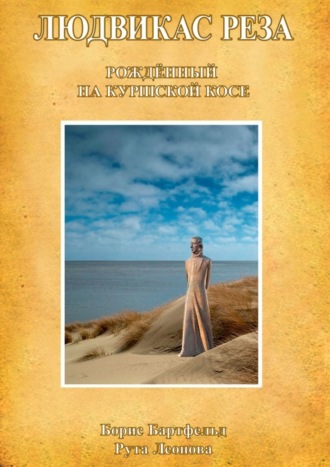
Полная версия
Людвикас Реза. Рождённый на Куршской косе
Реза исполнял полевые церковные службы на пространстве Балтии от Венты, Даугавы до Берлина и Парижа. На стоянке у Франкфурта-на-Майне 7 ноября 1813 года он записывает факт, что за один год прошёл от Даугавы до Рейна, проделав около 2300 км. «И куда Боженька меня ещё отправит?» – восклицает Реза. На поле боя и в окопах он не демонстрировал свои академические взгляды профессора богословия университета. Он честно нёс тяжёлую службу военного пастора, проповедовал людям, которые в течение нескольких дней или даже часов могут потерять свою жизнь на поле боя. Это была служба, где надо было укреплять и спасать души солдат, проходящих тяжелейшие испытания духа и тела. В их окопах Бог и дьявол ежечасно встречались в открытом конфликте. Повсюду – в чистом поле, в дороге, в разорённом школьном здании или в другом доступном укрытии, где бы Реза ни устанавливал свой полевой алтарь и читал проповедь или проводил литургию, он утешал страждущих, освобождал кающихся и провозглашал спасительную идею Христа.
Свой родной край в походе он вспоминает не раз, в том числе и через анекдотический случай, произошедший у одного пастора на земле Гессен. Реза подаёт его как пример необразованности:
«Один пастор, у которого 2 декабря 1813 года побывал я, спросил меня, откуда я родом.
Ответил, что из Мемеля (Клайпеды). Из Мемеля, сказал он, а где Мемель? Я со смехом ответил, что у Каспийского моря. О Боже, крикнул он, как издалека вы сюда прибыли!»
В крае Гессен каждая деревня и деревенька имеют свои церкви, но очень маленькие и тёмные. Реза отмечает:
«Бога прославлять нужно в величественном храме, а не в карточном домике. Намного лучше в старой Пруссии, где 20—30 деревень имеют одну церковь, большую, в центре окрестностей. По воскресеньям все отправляются в святую дорогу, словно в Иерусалим».
Без сомнения, здесь Реза вспоминает о Родине.
Будучи во Франции, вблизи города Нанси, он снова находит повод вспомнить земляков-летувников, когда в гостинице ему подали кофе в большой миске с большой ложкой, как суп. Реза толерантно, но всё-таки отмечает, что маленьких чашек, «как у нас», здесь никто не употребляет. Каждый край имеет свои обычаи: «Но ведь и в Литве есть обычай – водку есть ложкой».
Реза внимательно изучал и знал историю не только Литвы, но и Польши. В его записках это подтверждается многократно. Например, будучи во время похода во французском городе Нанси, он посчитал обязательным написать о вельможе Станиславе Лещинском, который в первой половине XVIII века был выбран королём Польши и Великим Литовским князем. Реза отмечает, что в 1725 году на его дочери Марии женился король Франции Людовик XV, который через некоторое время одарил своего тестя Лещинского княжеством Лотарингии, центр которого и есть Нанси.
Важным событием для Резы стала встреча с королевским послом Пруссии в Великобритании Вильгельмом фон Гумбольдтом. Это произошло, когда, закончив свою работу священника в действующих военных частях, Реза вернулся в Париж в мае 1814 года. Гумбольдт помог ему получить дорожный паспорт в Лондон, где от общества распространения Британской Библии Реза получил 200 фунтов стерлингов для выпуска литовской Библии. В Дневниках капеллана он не пишет, что тогда в Париже Гумбольдт ему сказал: «Не думайте, что я литовский язык забыл, наоборот, я и сегодня остался таким же сердечным любителем этого своеобразного идиома, как и в 1809 году» (речь идёт об их встрече в Кёнигсберге, когда они обсуждали планы публикации поэмы «Времена года» К. Донелайтиса). Эту беседу с Гумбольдтом в Париже Реза позже упомянет в письме к влиятельному общественному деятелю Кенигсберга Иоганну Георгу Шефф-неру (в Кенигсберге с 1909 года работала школа имени Иоганна Шеффнера, ныне это школа №14 по ул. Радищева). В 1818 году именно Гумбольдту, как выдающемуся гуманисту и покровителю литовского языка, Реза в стихах анонсировал первый выпуск поэмы «Времена года» Донелайтиса.
Проезжая мимо Браунсберга (ныне Бранево, Польша), Реза вспоминает, что историки до сих пор спорят – название столицы Вармии произошло от имени мученика Бруно-на или от имени рыцаря Бруно фон Кверфуртского (Bruno von Querfurt, около 970 г. 14 февраля (?) или 9 марта 1009 г. Пруссия, святой апостол Пруссии, граф). Реза тогда ещё не мог знать, что существует запись в анналах города Кведлинбург (Quedlinburg, Германия) о том, что в 1009 году на границе Литвы был убит немецкий вельможа, проповедник христианства, миссионер Брунон (монашеское имя – Бонифаций), первый раз упомянувший имя Литвы – Lituae. Этот св. Брунон – Бонифаций убитый мученик, также по происхождению из немецкого города Кверфурт (Querfurt).
В Лондоне Реза пробыл с 22 мая до 3 июня 1814 года и там посетил библиотеку музея Британии, где работал в отделе рукописей. К сожалению, ни Реза, ни библиотекарь не знали, что там, среди беспорядочно сложенных бумаг, хранится и часть Старого Завета, переведённый на литовский язык Самуэлем Богуславом Чилинскисом. Её начали печатать в Лондоне в 1660 году, но в 1662 году работа была прервана.
В апреле 1813 года, в самом начале военного похода, прежде чем уехать из Прусского Старгарда (теперь Starogard Gdanski, Польша) к войскам в Берлин, Реза навестил жившего за городом родственника. Это был брат того самого священника Христиана Витиха, который жил в Каукенай (п. Ясное, вблизи дельты Немана) и к которому когда-то родственники привезли девятилетнего сироту Людвика Резу. Мальчика пастор Витих растил и учил, а в 1791 году отправил его в Кёнигсберг, где имелся дом для бедных. Воспитанники этого дома имели право бесплатно посещать латинскую школу, а по окончании её поступать в университет. Витих юношу направил в дорогу к науке. Реза весьма уважал почтенного пастора и считал себя обязанным нанести визит его брату. Позже Витих участвовал в создании литовской письменности. Он помогал подготовить некоторые литовские пиетистские произведения в первом десятилетии XIX века, так же помогал Резе собирать литовские народные песни для первого сборника. Образ жизни брата Витиха, жившего в пригороде Прусского Старгарда, Реза оценивает, вспоминая античную мудрость и цитируя Горация, который счастливыми считал деревенских жителей, они отдалены от суеты, работают, как и предки, на своей земле.
Реза начал вести свои Дневники, в первый раз сев за них неподалеку от Кёнигсберга в местечке Бранденбург (п. Ушаково, 18 км от города) 8 апреля 1813 года, и закончил в Брюсселе 16 июня 1814 года. Свои Дневники, будучи литовцем, он писал, как настоящий патриот Пруссии. Конечно, не очень понятно, почему он свою книгу выпустил под анонимным именем. Ведь множество офицеров Прусской армии – от главнокомандующего Блюхера до солдат из Кёнигсберга, встреченных на дорогах войны университетских друзей, студентов, слушавших лекции Резы – каждый из них знал, кто такой «проповедник Прусской армии». Такими словами автор представил себя в заголовке книги, скрыв свою фамилию. Возможно, причиной было то, что в книге Реза не раз положительно представляет католическую веру, их церкви и ритуалы, хотя сам он был лютеранским священником. А возможно, скромность священника побудила его не объявлять свою фамилию.
Из статей и записок Резы можно сделать некоторые заключения о его политической позиции, сложившейся после окончания им университета и во времена службы военным священником. Война с Наполеоном воспринимается Резой как война народов против тирании. Реза отмечает активное участие в войне жителей Пруссии и, особо, прусских литовцев. Патриотическое настроение подействовало на ле-тувников, они участвовали в боях, многие погибли. Пастор из Пиктупен (Пиктупенай, Литва) Христиан Дитрих Хасен-штейн (1756—1821) написал первую историческую книгу на литовском языке «Рассказы о священной войне, в которой прусские литовцы и другие христиане освобождались от страшного разбоя». Эта книга с историей о наполеоновских войнах вышла в Гумбинене (теперь Гусев) в 1814 году. Ха-сенштейн был хорошо знаком с Резой. Им написана ещё одна книга «Песня ландштурма» (Гумбинен, 1813), в которой автор высмеивает Наполеона, называя его «Напыщенный завоеватель мира». Произведения Хасенштейна были любимы и читаемы литовцами Пруссии.
Этот всеобщий прусский патриотизм отражается и в «Дневнике капеллана». В начале апреля 1813 года поблизости от Бранденбурга (Ушаково) в гостинице «У высокого кувшина» Реза встретил десять «сыновей музы» – студентов университета. Некоторые из них ранее были слушателями его лекций. С саблями на ремнях, в качестве стрелков-добровольцев они шли с армией на Эльбу. Усевшись за круглый стол, они грустно пели песню «Pro salute» (За жизнь), в тексте песни слышались и отголоски текстов Резы:
«Из тихой тени науки идут эти воспитанники Минервы в бурное поле боя, чтобы отвоевать веточку мира оливы, потом закончить свою учёбу. Опять возвращаются времена древней Греции, когда все, оставляя Афины, шли в Саламину».
Почему Реза начал вести дневник военного похода? Несомненно, потому, что он понял – начинается судьбоносный исторический период для многих государств Европы, в том числе и для его Родины – королевства Пруссии. Он понял, что господству Наполеона приходит конец, и эти необыкновенно важные события необходимо детально зафиксировать. Наконец, это был грозный и особенный эпизод его жизни – участие в кровопролитной войне.
Реза воспринимал императора Франции как тирана. Позже, в своей «Истории литовской Библии», вышедшей в 1816 году, годы оккупации с 1807 по 1812 год Реза называет «тиранией Наполеона». Имя Наполеона часто упоминается в его Дневнике в отрицательном контексте. Французская армия обвиняется в разорении Восточной Пруссии, в превращении церквей в конюшни, чего не делали даже средневековые вандалы. В стихотворении Резы «Песня победы у Лейпцига» (октябрь 1813 г.) Наполеон изображён как поработитель мира, огнём и мечом несший смерть до самой Москвы. Но Бог покарал этого вечного врага немцев. Первый день Лейпцигской битвы (16 октября 1813 г.) погубил ненасытные планы французского императора, растоптал его надежды. Прикрывая позорное отступление, Наполеон пожертвовал в Лейпцигской битве третью своей армии, подставляя воинов вместо щитов. «На следующий день наблюдал последствия битвы, – с ужасом пишет Реза, – трупы без рук, без ног, без голов. Разорванные куски рядами разбросаны, тела лежали друг на друге». Наполеон ценил античную архитектуру, но был бессердечен. Франция во главе с Наполеоном более 20 лет разоряла, мучила контрибуциями Европу. Однако союзники, вошедшие в Париж, не требовали от грабителей даже стакана воды. «Об этом я свидетельствую для истории». Характеристику Наполеона Реза заканчивает документальным и одновременно назидательным рассказом о том, как парижане свергли статую Наполеона в столице Франции.
Интересно посмотреть, какую оценку в Дневнике даёт Реза европейским народам в первой четверти XIX века. Он, безусловно, учёный, хотя в своих публикациях представляется как «тихий исследователь людей и их наблюдатель». Он не пропускает случаев сравнить людей разных народов или просто предъявить обобщённые характеристики разных наций. Побывав в Париже и Лондоне, он подробно описал отличия образа жизни, характер французов и англичан и, более коротко, другие народы. Мнение Резы часто субъективное, но очень чёткое и значимое, поэтому может послужить не только для того, чтобы узнать мировоззрение автора, но и как научный отчёт. В его публикациях отражается представление тех времен об особенностях народов, дух эпохи. Например, что касается литовцев, Реза, как и Мил-кус в «Литовско-немецком и немецко-литовском словаре» (Кёнигсберг, 1800 г.), пишет, что для литовцев характерны чувство собственного достоинства, открытость, смелость, искренность, верность. И сам Кант так же писал о летувни-ках в своей «Переписке друга». Реза последовательно фиксирует географические, экономические, культурные, этнографические данные разных стран. Народы он оценивает не одинаково, очень часто метко отмечая их особенности.
Немцев Реза сильно идеализирует, настолько сильно, что они теряют свою аутентичность. Иногда он называет их пруссами. По его мнению, рыцари немецкого ордена (тевтонцы) заслужили благодарность, «ибо они положили основание культуры Пруссии». Таким образом, он разделяет те положения, которые в то время существовали в немецкой историографии. В тексте Резы немецкий, точнее прусский патриотизм проявляется во многих местах. То автор упрекает богатое сословие Силезии, которое отдалилось от третьего сословия и живёт по французской моде, стесняясь говорить по-немецки, то радуется, что в 1813 году Австрия перешла на сторону союзников и неподалеку от Праги соединились Прусская и Австрийская армии, северные и южные немцы опять вместе, одна нация, один братский народ. Реза восклицает: «Какое важное событие! Преодолён долгий разрыв от Карла V до времён Реформации, да ещё и выросшая антипатия между католической и протестантской частью земель Германии исчезла». Реза подчёркивает, что под Дрезденом прусское оружие заслужило большую славу, ибо всех спасла победа прусских солдат у Кульма. В своем произведении «Песня победы у Лейпцига» он воспевает героев ещё и потому, что судьбоносная битва выиграна под руководством главнокомандующего Прусской армии Блюхера, с которым он знаком лично. Он первый раз увидел командующего и был ему представлен ещё по прибытию в Штрелен (Strehlen, теперь Стшелин, Польша). О Блюхере Реза пишет, что он мужчина военной выправки, «настоящий немец словом и делом. На его лице словно написано – не могу лгать и уступать». Возвышает немцев Реза и в своей песне о вине Мозеля, которую он написал у реки Мозель, вблизи Триера, в то время ещё принадлежащего Франции. Песня начинается со строки «Звени немецкая песня в лучах побережья Мозеля». Реза пишет, что в Лондоне трудяге-немцу платят в три раза больше, чем англичанину.
В Дневнике капеллана Реза не даёт обобщающих характеристик и деталей о летувниках и обо всём литовском народе, но в более поздних работах (о Донелайтисе, о народных песнях, языке, письменности) им сказано о них много хороших слов. Его важнейшие научные работы связаны с литуа-нистикой. Такое двойственное отношение можно объяснить сложностью национального сознания Резы, он чувствовал себя человеком двух культур – литовской и немецкой.
Реза отрицательно характеризует кашубов – этническую группу поляков, жившую в королевстве Пруссии у Балтийского моря. Он их называет вендами и добавляет, что их язык похож на польский, с которым Реза был знаком, ибо в университете Кёнигсберга действовал и семинар польского языка.
«Так как они католики, – пишет Реза о кашубах, – на их лицах заметны покорность и лицемерие. Они не могут спрятать трусости и ненависти к немцам, демонстрируют, что не знают немецкого языка. В их избах стены обвешаны иконами Девы Марии и господствует страшная беднота. Нет никакого сравнения с немецким трудолюбием и умением вести хозяйство. А у кашубов ни одного стула в доме, ни одного плодового дерева в саду. Кажется, что этот народ, живя среди немцев, за пять столетий не изменился, остался тем же, без бытовой и высокой культуры, ибо немцы ненавидят их, а они – немцев. Они не будут воевать и защищать Прусское государство. В лесах собираются вооружённые кашубы-крестьяне, которые несколько дней назад напали на прусский военный транспорт и освободили 20 рекрутов. Они не идут служить в армию».
Интересно, что Реза, подчёркивая противостояние между кашубами и немцами, частично оправдывает аналогичное недружелюбие в Прусской Литве между летувниками и колонистами из немецкоговорящей Европы, которое показано во «Временах года» Донелайтиса.
Довольно доброжелательно Реза пишет о главной силе союзников – русской армии. Правда, в дневнике он отмечает, что иногда русские опустошают дом или огород какого-то духовника. Он сочувственно пишет, как тяжело военные повозки русских поднимались по крутым и узким дорогам Рудных гор, жалеет солдат и отмечает, что «в лесу слышны дыхания и ругательные слова». Не раз Реза пишет о необыкновенной воинственности и мужестве казаков. Их очень боялась кавалерия Наполеона. Придаёт чести русским джентльменство офицеров – так русский офицер, присланный на жительство в то же самое место, что и проповедник Реза, ему уступает место. Реза пишет, что русские удивляются, почему французы даже своих храмов не почитают:
«Рядовой русский солдатик, войдя в церковь, перекрестится, прочитает короткую молитву и только тогда там возьмёт охапку сена – осквернённая святыня для него всё равно остаётся святой». Но с другой стороны, русские солдаты так «обчистят» французов, что у тех «нет даже штанов свой стыд прикрыть». Реза высоко оценивает боевые качества русской армии, не случайно, желая показать в своей песне о Лейпцигской битве её сокрушительность для Наполеона, он вспоминают знаменитую Березину, где русские окончательно сломили хребет Великой армии французов.
Особенно хорошего мнения Реза о чехах. Чешский язык он характеризует как «гармонический и звонкий, а пение в церкви особенно волнующее». С симпатией им описана красота Праги и её достопримечательности – университет, его библиотека, мосты через Влтаву, Кафедральный собор. Императора империи Рима, короля Чехии и Германии Карла IV, который в 1348 году создал Пражский университет, Реза называет Чешским Соломоном. Предки чехов на вершинах гор настроили множество замков и крепостей. Это показывает, что это смелый, благородный и великодушный род. Однако Реза осуждает гуситов из-за их буйного характера, жестокости, они когда-то не жалели даже младенцев. Глядя с горы на город, где стоит королевский замок, он отмечает: «Если бы когда-нибудь с Небес опустился небесный Иерусалим, он обосновывался бы именно здесь, в одарённой природой всякими богатствами долине». Ещё сердцу Резы мила Чехия из-за её исторической миссии в борьбе с язычниками-пруссами. Здесь он опять занимает сторону Немецкого ордена, забыв, что совсем недавно поэтизировал борьбу пруссов за свободу. Наверное, так должно быть, когда интеллектуал принадлежит двум культурам, как в случае с Резой, – тогда противоречия, особенно в оценке исторических процессов, неизбежны. Основателем Кёнигсберга был король Чехии Оттокар (Пшемысл II Оттокар, король Чехии с 1253 г.). Он руководил крестовым походом против пруссов, начавшимся в конце 1254 года и завершившимся в середине января 1255 года. В его честь в 1255 году на горе близ слияния двух рукавов Преголи был заложен замок. Этот замок, построенный на месте прусского поселения Твангсте, служил для борьбы с пруссами в землях Самбии и назывался Кёнигсбергом (Королевской горой, Караляучусом, Королевцем). Реза пишет:
«За начало религиозного и политического просвещения мы должны быть благодарны чехам».
Мнение Резы о славянах особенно противоречивое и субъективное. О чехах и русских он имел положительное мнение. Переехав из Праги в сторону Дрездена, Реза попал на границу между чешским и немецким языками. Жители этого края использовали смесь немецкого языка и славянского или были славянами, которые говорили по-немецки. Он пишет, что у этих жителей «больше славянских признаков, хотя они себя и называют немцами». Здесь можно вспомнить и аналогичные процессы германизации в Прусской Литве. Реза здесь отмечает признаки славян, при этом унижая евреев: грязь и нечистоты (в этом краю евреи «кишат»), у славян тупой нос, поднята верхняя губа, широкий лоб, они отрицают ремёсла и художества – славянин сам себе и колесник, и портной, и плотник, и сапожник, и пекарь – всё в одном лице. Отмечены они национальной гордостью и борьбой против онемечивания, против всего, что немецкое. Этот национальный эффект автор поясняет психологически: национальная гордость и отрицание всего, что немецкое, – это признак народов, разговаривающих не на своём родном языке, это психологически легко поясняется: природа дала народам это чувство, как сосновую иголку, которой они могли бы защищаться от «опеки» чужих и их «гнёта». Эта мысль Резы требует разъяснения. Он как будто хочет сказать, что чех, хотя и разговаривает по-немецки, но противостоит онемечиванию. Конечно, история показывает другое: человек, ассимилировавшийся, забывший родной язык, часто становится ярым распространителем нового национального самосознания.
В дневнике Реза много пишет о французах и Париже, об англичанах и о Лондоне. Всё-таки больше всего критики подвергается французский народ. По мнению Резы, французский народ легкомысленный, ему не хватает бого-боязни. Французские солдаты до фундаментов разрушали деревни Пруссии, выкапывали гробы, в церквях держали лошадей. Французские моды, привезённые из Парижа в стародавние времена (завивание волос на горячей железке, короткие жакеты и узкие брюки), испортили чешскую народную культуру. Характерным представителем национального французского характера Реза считал своего хозяина в городке Лигни (теперь Бельгия). По его описанию, тот имел весёлый нрав, доброе сердце, но ничего не говорящее лицо, без образования и следов более глубоких чувств, с пустой душой. Настоящий угодник, он, общаясь с немцем, говорит, что хочет быть немцем, а перед Резой божится, что протестантизм лучше католицизма. Реза был убеждён, что французскому офицеру он сказал бы точно наоборот. По мнению Резы победители-союзники выделялись благородством, правдивостью и откровенностью, а французы «болеют пустым детским высокомерием, не умеют спрятать обиды из-за поражения. На их лицах видны знаки зависти, безволия, презрения, попустительства». Реза отмечает, что характер парижан раскрывается в театре: смеются лишь от дурного остроумия. В спектаклях зрители сидят по 8—10 часов, глядя на глупый юмор и кривляние. Когда утром 31 марта 1814 года союзники вошли в Париж и Сенат объявил, что Наполеон отправлен в отставку, начался новый спектакль. Как пишет Реза, на улицу вышли толпы людей, они кричали: «Да здравствует Людовик XVIII! Да здравствуют Бурбоны!» На Бонапарта посыпалась ругань.
Не нравится Резе и французская женская мода, и одежда, и манера глядеть на человека сквозь очки, встав вплотную, даже уличные фокусники не нравились ему. Со всем своим морализаторством Реза восклицает: «Что это за народ, который ум променял на веру в глупости, нравственность – в пороки, работу – на безделье». Хотя он много плохого пишет о жителях Парижа, но признаёт, что это особенный город во всём мире, который выделяется достопримечательностями, их Реза перечисляет:
– Национальный музей, в котором собраны скульптуры, картины всех художественных школ Европы.
– Королевский дворец (Palais Royal), знаменитый не только прекрасной архитектурой, но и тем, что он для Парижа то же, что Париж для всего мира – место для встречи людей всех сословий, место празднества и роскоши. Реза многократно подчеркивает мысль общения сословий: лишь народ, ценящий общение, мог создать Palais Royal.
– Катакомбы – подземелья, разукрашенные более чем двумя миллионами людских костей. Они появились в 1763 году, когда власть решила все кладбища перенести за черту города, а вместо них обустроить парки и базары.
– Французский музей искусств, дающий возможность изучать развитие французского искусства.
– Фабрика обоев и гобеленов – единственная в Европе.
Реза осмотрел много других знаменитых мест Парижа, конечно, и библиотеку, имеющую 80 000 древних рукописей, среди них – много восточных. Для него, как специалиста по восточным языкам, это представляло большой интерес. Желая осмотреть весь город, Реза отправился на Монмартр и поднялся на башню телеграфа. Он очень эмоционально передал эти впечатления: «У ног моих простиралась солнцем позолоченная, объединяющая народы столица континента». На фоне этой красоты Резе показалась ужасной грязь на улицах Парижа и в домах парижан. Его вводили в сокрушение одетые в лохмотья, грязнущие чистильщики обуви. Он считал, что Парижу более подходит старое его название Lutetia (lot. грязь) и ещё добавляет, что французов, как поляков и евреев, можно причислить к самым грязным народам мира.
Наблюдая жизнь Парижа, Реза предъявил серьёзные, морального характера, претензии: множество нищих, подкидышей, которым французы обязаны создавать приюты, а вершина всех пороков – публичный промысел проституток. Они «у двенадцати парижских театров ровными рядами выстраиваются». Поэтому Париж можно назвать «театром сумасшедших всей Европы».
В Лондон Реза приехал 1 июня 1814 года и невольно сравнивал эти две страны. «Приезжим из Франции в Англию, – пишет он, – бросается в глаза серьёзное отличие этих стран. Во Франции деспотизм заглушил правду, её место занимает этикет, который требует лишь вежливости и косметического грима. Парижская революция (Великая французская революция началась в 1789 г.) и военный деспотизм вытеснили классические науки. Люди не развиты, поголовно не знают географии и истории – двух самых главных в жизни предметов. Из тысячи посетителей музея ни один не знает, что символизирует скульптурная группа Лаокоон». Позже, в книге «История литовской Библии» (1816) Реза охарактеризовал французский язык, как изнеженный, элегантно-пышный.