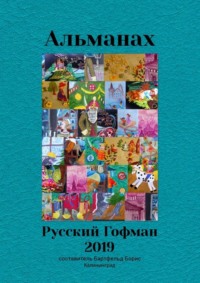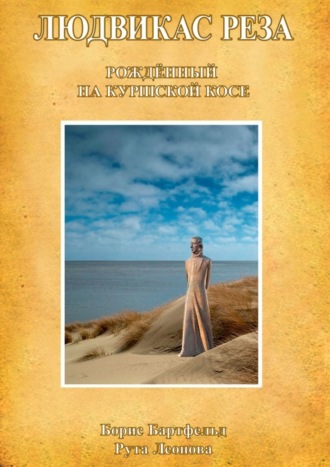
Полная версия
Людвикас Реза. Рождённый на Куршской косе
После смерти Канта в 1804 году в Пруссии его стали забывать. К этому привело и тесное соприкосновение его философии с нежеланным в Пруссии этого времени Просвещением. Заново его стали открывать лишь в середине XIX века. Лозунг «Назад к Канту!» задействовал философию религии. В 1838 году в третий раз была издана работа «Религия в пределах только разума». Выбор Резой данной темы диссертации показывает, что в Кёнигсберге Кант всегда оставался великим философом. В те времена, обычно, на смерть известных людей писали оды. Таких стихотворений было много, Реза тоже написал поэму, назвав её «Преголя рыдает по Иммануилу Канту». Эта поэма – одно из самых ярких поэтических произведений, написанных Резой. В ней он прославляет разум Канта и его неординарность, причисляет его к «великим мудрецам» и «народным вождям». Он рассказывает, как он видит покойного Канта, поднимающимся к трону Божьему, а вокруг него собирающихся мудрецов древности: Сократа, Платона, Зороастра, Коперника, Бэкона, Ньютона. Там он видит коронацию: профессору на голову надевают корону из пальмовых веток, а живые эту сцену наблюдают из тёмной долины. Знак великого уважения Канту и те слова, которые Реза посвящает философу, – самые высокие отблески той самой оценки, которая есть и в тексте диссертации, где идеи Канта связываются с философией Платона, а для полемики Реза привлекает Мозеса Мендельсона и апостола Иоанна Богослова. Идею чистого разума Канта соискатель приблизил к лично представляемому Богу. В политическом и академическом мире во избежание обвинений в неприемлемом влиянии на теологию со стороны Просвещения человеку, старавшемуся получить место преподавателя в университете, было бы тактически неосмотрительно однозначно возносить хвалу разуму.
В части текста «Религия в пределах только разума», на которую Реза опирается в диссертации, Кант классифицирует и оценивает позиции толкования Писания своего времени.
Важно понять, почему для темы диссертации он выбрал именно это произведение Канта, которое ещё недавно было под запретом? Можно предположить, что тема диссертации не совсем личная задумка Резы. Это мог быть и политический заказ самого университета. Для того чтобы Канту, гордости университета, предоставить «легальное» место в контексте теологических обсуждений, надо было смягчить упавшую на него тёмную тень Просвещения. Работа «Религия в пределах только разума» – позднее произведение, в котором Кант с позиций морального идеала разъясняет основные христианские понятия и утверждения. Для Канта такая практика, как ритуалы религии и все внешние выражения религиозности, очень важна, но только как форма поведения, как дисциплина людей, как усовершенствование человечества, как стимул к моральному совершенству. Пока исторически человек слаб, чтобы положиться на разум, он старается опереться на религиозные устои – веру, участие в религиозных обрядах. Вера и участие в ритуалах побуждает человека вести себя морально и из этого не извлекать никакой выгоды в жизни. Иногда Канта называют «философом протестантизма», ибо для него явление Бога, это чистая идея, своеобразное «божество в нас», которое следует найти и раскрыть. Однако чистый разум Канта всего лишь с изнанки похож на Бога, а категорический императив – на божественные наказы. Из несколько сотен страниц произведения Канта «Религия в пределах только разума» Реза для темы диссертации выбрал главу всего лишь в несколько страниц, где Кант изложил программу толкования Святого Писания. В этом разделе произведения цель Канта не обосновать доводами своеобразную интерпретацию Св. Писания, его больше заботят практические возможности людей, победа добра над злом. Реза анализирует в том числе ту часть текста, которую Кант посвящает описанию трёх типов толкователей Св. Писания, это – просветители, лютеране-консерваторы и пиетисты. Первый тип толкователя, по мнению Канта, «моральный исправитель с самым высоким принципом из всех толкователей Писания». Второй – эрудированный теолог. Его Кант называет «ученым знатоком Св. Писания». Такой человек очень нужен для морального состояния народа. Третьего толкователя философ отождествляет с проявлениями религиозного аффекта. Его Кант характеризует с насмешкой: «ему не нужны ни ум, ни образование, а требуется внутреннее чувство, чтобы познать истинную суть Св. Писания, а вместе с ней божественное происхождение». Классификация толкователей наводит на мысль, что есть всего два обоснованных толкования: истинная религия разума и библейская наука.
Кант, ещё до начала развития своей философии чистого разума, понимал чувства как преграду для познания, ибо они как бы искажают принципы разума и морали. Чувства для Канта – субъективное проявление ненужных эмоций, которые не вписываются во всеобщие существующие вещи, например, разум. Чувства не могут быть доверительной опорой и для толкования Святого Писания.
Кант делает очень важный философский шаг: в делах толкования религии и Св. Писания он не столько защищает право философии объяснять, сколько стремится показать, что философское толкование более совершенное, чем теологическое. В иерархии толкователей Писания он ставит философа выше эрудированного теолога. Диссертация Резы «Толкование морали в Священном писании с позиции кантовского учения» – это есть ответ на рассуждения Канта, однако также и частичное следование этим рассуждениям в выборе структуры аргументации похожей на ту, что предложил Кант. В диссертации напрямую декларируется критика толкования Святого Писания, предложенная Кантом: «не могу не признать неприемлемым его отношение к толкованию Святого Писания». Возможно, самая интересная и ценная сторона диссертации – это оценка толкования религии собственно Кантом, которую соискатель даёт перед тем, как предъявить критику толкования: «первым делом я должен обсудить, в чём суть его подхода, а затем – какие трудности возникают». Реза не напрямую критикует попытки некоторых учёных причислить Канта к обыкновенной философии Просвещения. Он отрицает существующее мнение, что якобы Кант «совершенно не обращал внимания на исторический и лингвистический контекст, так как признавал единственную мораль и поэтому не хотел вкладывать усилия в изучение археологии, языков и других предметов для общего развития». Это ложное мнение Реза отбрасывает, опираясь на авторитет самого Канта и его философский разум, и утверждает: «этого не могло случиться с „мужем такого таланта“». Реза утверждает, что Кант интересовался древними источниками и находит точку зрения, глядя с которой, он особым образом реабилитирует Канта как философа, обдумывающего религию. Вместе с тем, он показывает, что идеи Канта расходятся с приемлемой лютеранско-теологической традицией. «Неподходящее» толкование Святого Писания Кантом он старается смягчить, позиционируя его по ту сторону идей Просвещения, этим оберегая авторитет Канта и даже более ярко его выражая. Этим вопросам посвящена первая часть диссертации.
Стараясь решить свои диссертационные задачи, Реза укладывает методы толкования в своеобразную классификационную схему. Но уже само намерение классифицировать – это кантовское влияние. Кант в своих теоретических и практических работах, стараясь до конца разъяснить свои мысли, представлял не одну классификацию, а набор классификационных системных таблиц. Реза по сути обсуждения выделяет такие смысловые значения: теоретические (вера), практические моральные (набожность) и эстетические (ощущение или переживание). Такое разделение значило, что для одних толкователей Святое Писание – источник веры, для других – моральные поучения, для третьих – источник эстетического или религиозного чувства. Здесь же можно видеть, каково влияние на Резу критической философии Канта, в которой философ как способности человека выделил чистый разум, практический разум (мораль) и силу суждения (эстетику). По форме Реза выделяет четыре смысловых значения: аллегорические, исторические, языковые и мистические. Последний, мистический, смысл он объясняет как соотношение души и Бога. Таким образом, он сформулировал схему, по которой каждый конкретный толкователь может быть идентифицирован как выбирающий один или другой смысл по содержанию или форме. По такой же схеме классифицировано и толкование Канта. Реза перефразирует мысль Канта так, что толкование Святого Писания поддерживается «верой, основанной на практическом разуме». Толкование Канта Реза встраивает только в сферу практических действий человека. Для этого он берёт в помощь формулу категорического императива Канта из «Критики практического разума». Её он преподносит своеобразно, сделав более практичной, так как наряду с разумом как универсальный принцип тот же самый статут он предоставляет и воле. Реза уже в начале диссертации упоминает, что Кант к предметам, которые сугубо «теоретические» (для Резы это – вероисповедание), причисляет моральную суть. Так он именует самый большой, с его точки зрения, недостаток подхода Канта: как проповедник (моралист-практик) он берётся толковать Святое Писание по форме (аллегорическое толкование), что было бы под стать делать теоретикам веры (теологам). Он признает Канта как моралиста-практика, но отсеивает его теоретические претензии, чтобы разъяснять Святое Писание. Для проповедников-практиков он даже предоставил возможность «подтянуть» толкование: «Учителям христианских религий даём разрешение и просим, чтобы при воспитании народа моральный смысл как раз был бы употреблён в таких местах, где нет ничего, что поощряло бы нравственность». Аргумент, характерный для Канта, поддержанный отдалением теоретика от практика, особенно виден в его аргументации о главенствующей позиции философии над теологией при толковании Святого Писания. Кант, рассуждая о религии, разделил как отдельные специализации между священником-практиком и священником-учёным. Он утверждал, что один и тот же человек как священник-практик должен подчиняться церковному порядку, а как учёный теолог может выражать индивидуальное мнение, которое не совпадает с общей церковной позицией. Реза это использовал, но переосмыслил по своему: «если проповедуешь в церкви, то есть оправдание, чтобы приблизить толкование Святого Писания к цели морали, а значение морали можно употребить в тех местах, где нет прямых указаний на то, чтобы что-то изменить. Однако, при толковании Священного Писания теоретически, надо объяснять только то, что автор по своему понятию и в своем времени смог и хотел сказать». В своей диссертации Реза решает несколько задач: выделяет Канта из общего просветительского контекста, ставя его в ряд алегориков, прославляющих Античные времена, а также в ряд алегорических толкователей Святого Писания; отвергает попытки Канта толковать Святое Писание по философски, однако признает его как практического проповедника; пытается примирить пиетическую и консервативную лютеранскую практики действий.
Реза стремится показать, что кантовский практический разум действует как инструмент и не может быть основой для практики. Он доказывает, что попытка Канта нравственность через категорический императив связать с разумом не имеет под собой основания. Соискатель берёт в помощь в качестве авторитетов авторов Священного Писания, которые указывают, что «счастье, слава, выгода – надежда вечного спасения души» и составляют основу нравственности. Диссертант старается показать, что Кант понимает практический разум как инструмент для толкования Святого Писания, отказываясь от «теории» Святого Писания. Реза по-своему употребляет понятия «теории» и «практики». Здесь ему пригодилось высказывание Канта, что теоретическая часть церковной веры настолько выгодна, насколько может помочь человеку выполнять обряды как «божественные наказы». Так как Кант и сам отмежевался от теории, значит, он и сам стремился к практическим целям. Но Кант не был теологом, он даже не был религиозным философом, он со своими идеями сознательно шагнул по ту сторону христианства.
Реза, как преподаватель Кенигсбергского университета, а до этого студент университета, был ближе к пиетистам. Однако тогда это был тот пиетизм, что опирался на консервативную теологию. Пиетизм, воинственность которого уже угасала, вряд ли мог устоять пред всякого рода влияниями, в том числе и влиянии Просвещения. Не имея своего теологического основания, он опирался на практику консервативного лютеранства. Старания Резы создать единодушие идей можно считать знаком завершения бурного процветания эпохи пиетизма. В диссертации автор стремился выдвинуть в качестве основы теории пиетистскую и консервативную теологию, но это двойственная идея. Она сформировала происходивший в этой эпохе разлом мышления и мировоззрения. Все-таки это можно оценить и как личное свойство подхода Резы – сочетать тяжело сочетаемые вещи.
10 апреля 1810 года профессор Вальд, декан факультета, официально объявил о том, что Резе присвоено звание «Доктор богословия» вместе с правом преподавания. После этого Реза объявил свои инаугурационные лекции в университете, назначив их на 14, 15, 16 и 17 апреля 1810 года. В их числе лекция о своей работе на латинском языке «О первых шагах христианства среди литовцев». После этого он стал полноправным экстраординарным профессором университета. В этом же году Реза начал публиковать короткие работы, касающиеся первых шагов христианства среди литовцев. Позже он напишет, что взялся за эти вопросы потому, что много историй о начале христианства в Литве окутаны таинственным мраком.
Теперь Реза стал получать в университете небольшое жалование за чтение курсов лекций «Церковная история» и «Введение в Старый и Новый Заветы». Реза подготовил ещё две диссертации на тему библейской герменевтики в 1811 году. Первая называлась «Параллелизм поэтики в книгах Нового Завета» и была защищена в университете 19 апреля. Вторая диссертация, посвящённая толкованию использования поэтического параллелизма в книгах Нового Завета, была прочитана им 26 апреля 1811 года. После этого он стал одним из самых авторитетных богословов в Восточной Пруссии.
В это же время Реза приступил к литуанистической деятельности, которая раскрыла его демократические воззрения, его современный взгляд на значение третьего сословия. Литовское третье сословие составляли не только крестьяне и городские жители, но и близкая им по своим взглядам немалая часть деревенских лютеранских священников Пруссии. Ещё ранее, до 1807 года, Реза с помощью многих добровольных помощников начал собирать литовские народные песни. В 1809 году на немецком языке вышла написанная и напечатанная им первая часть сборника стихов «Prutena» (латинское название Пруссии), в которой многие стихи написаны по мотивам литовских народных песен, а иногда это просто обработка и перевод песен. Там же была напечатана статья Резы о литовских народных песнях. В ней он доказывал необходимость эффективной работы семинара литовского языка в Кёнигсбергском университете, а в 1810 году был назначен его инспектором. В 1809 году Реза встретился в Кёнигсберге с министром образования Гумбольдтом, который одобрил его идею напечатать поэму «Времена года» Кристионаса Донелайтиса. Министру Реза подробно представил планы выпуска заново переведённой Библии на литовский язык. В этом же 1810 году в Кёнигсберге Реза создал общество «Литовской Библии». Всю эту масштабную работу он делал, продолжая нести ответственную службу военного священника.
В 1809 году в Кенигсберге Реза подготовил и напечатал для военных прихожан проповедь «Об обязанностях воина перед Богом, своим королём, перед собой и Родиной». Видимо уже тогда он думал о сражениях за свободу Родины. Есть упоминание, что в 1815 году Реза сочинил стихотворение на литовском языке по случаю Парижского мира, заключённого после победы над Наполеоном. Долгое время достоверных сведений об этом стихотворении не было, пока, наконец, текст не был найден в вышедшем в 1818 году в Бреслау многоязычном сборнике стихотворений. На латыни он назывался «Воссоздан памятник мира вооружённым силам союзников 1814 г.». В этом стихотворении Реза в античном стиле прославляет монархов-союзников: прусского короля Фридриха Вильгельма III, императора Александра I и австрийского императора Франца I.
В 1811 году Реза стал проповедником уже не Кёнигсберг-ского военного гарнизона, а бригады – крупного военного соединения. Это значило, что дальнейшая его служба будет связана с армией и будущими военными походами, которых ждать пришлось совсем недолго, они начались летом 1812 года.
Прусский король Фридрих Вильгельм III, после подписания Тильзитского мира в 1807 году, был вынужден находиться в вассальной зависимости от Франции и помогать Наполеону, когда тот двинулся в Россию. В июне 1812 года основные силы Наполеона сосредоточились на территории Восточной Пруссии и после переправы через реку Неман, неподалёку от Каунаса, двинулись в сторону Москвы. А корпус маршала Макдональда, в состав которого вошли и прусские военные части под руководством генерала Йорка, из Кёнигсберга пошёл через Тильзит и Расейняй (Литва) в Латвию, по направлению к Риге, надеясь дойти до Санкт-Петербурга.
Корпус Макдональда пересёк Жемайтию (Литва), прошёл по Латвии до Даугавы, но не смог переправиться на правый берег реки и остановил наступление. С прусскими войсками на север отправился и Реза. Скорее всего, он двигался с левофланговой группировкой корпуса, которая от Расейняя повернула в сторону Шауляя, так как в своих «Рассказах и наблюдениях» он упоминает не только реку Даугаву, но и область Курземе с рекой Вента.
Не совсем понятно, что Реза видел в большой Литве, а ведь он был очень наблюдательный человек. О жемайтий-цах и католиках литовцах он никак и нигде в записках не написал, но, без сомнения, крестьянский быт произвёл на него удручающее впечатление. Скорее всего, Реза, описывая Россию, Польшу и Курземе, имел в виду и Литву:
«Хотя феодализм здесь (в Чехии) ещё твёрдо держится, но имение тут не сильно отличается от деревни, не так, как в других славянских краях – в Польше, России, Курземе. Здесь крестьянин, хотя и приписан к имению, но намного богаче, более самостоятелен, чем там».
А с другой стороны, Реза довольно высоко оценивал культуру литовского народа, в том числе и католической части литовцев. Конкретного мнения он по этому поводу не излагал, но косвенных аргументов достаточно. Например, позже, когда Реза в 1817 году собирался отправиться в Литву собирать литовские народные песни, в своих стихах он поэтизировал прошлое Великого Литовского Княжества (Баллады «Анна и Витаутас», «Сигалас и Инна», «Кястутис и Милине»). Поэтому в военном походе, видя бедноту литовских крепостных крестьян, он обвинял в этом не народ, а феодализм как таковой, экономические условия хозяйствования.
После неудачной французской кампании в декабре 1812 года корпус Макдональда отступал из России в сторону Восточной Пруссии, и Реза опять проезжал похожим маршрутом, только теперь на юг через Жемайтию. Наконец 30 декабря 1812 года генерал Йорк южнее Таураге (Литва) на старой мельнице подписал Пошерунскую конвенцию – мирный договор с Россией и вышел из военных сил Наполеона. Этот мирный договор не сразу, но все-таки одобрил король Пруссии. В этот день Реза, и так ненавидевший французских оккупантов, официально стал союзником России и противником Наполеона. Наконец исполнилось его желание – бороться с французскими захватчиками.
3 января 1813 года, как только французы оставили Кёнигсберг, сразу появился отряд казаков, а на следующее утро в город Кёнигсберг уже вошли два кавалерийских полка союзной русской армии. 8 января в Кёнигсберг вместе с прусскими частями возвратился и генерал Йорк. С этими частями на родину вернулся Реза. Наконец король Пруссии Фридрих Вильгельм III 17 марта 1813 года издал «Воззвание к народу» (его подготовил ровесник Резы, выпускник юридического факультета Альбертины Теодор Гиппель мл.), призвав подданных к борьбе с французами, а 19 марта король заключил союзный договор с Россией, и Пруссия официально объявила войну Франции.
Говоря о деятельности Резы во времена военной службы, выделим несколько моментов, связанных с его дневником капеллана «Рассказы и наблюдения о военных походах войны 1813—1814 годов» (смотри Приложение 1) и другими источниками этого периода.
В бой за свободу Пруссии от наполеоновских захватчиков своим литературным творчеством Реза особенно активно включился в 1813 году. В феврале в Кёнигсберге было решено сформировать национальный кавалерийский полк. Для этого полка Реза сочинил немецкие песни, широко известные как «Военные песни национального кавалерийского полка Восточной Пруссии, который покидает Кёнигсберг» («Kriegs – Gesange für das Ost-Preussische National-Kavallerie-Rogiment beim Ausmarsch aus Königsberg»). Эти песни были быстро напечатаны, так как 3 мая 1813 года полк выступал из Кёнигсберга на войну с Наполеоном. Сам Реза в это время уже был в Берлине, потому что ещё в начале апреля отправился на запад с армейским корпусом. Эти песни были его совместной работой с известным органистом Кёнигсберга, композитором и педагогом Вильгельмом Йенсеном, написавшим к ним музыку. В издании опубликованы ещё два стихотворения Резы. В одном из них описан подвиг спартанцев в ущелье Фермопилы в 480 году до нашей эры, когда король Спарты Леонид, с 300 воинами геройски защищая свободу, погиб в бою с огромной армией короля Персии Ксерксом.
В дневнике Резы литовцы и их край упомянуты несколько раз и это внимание понятно, ведь Прусская Литва и её жители летувники – земляки автора. Он щадит их, не подвергает обоснованной критике, но упоминает в связи с различными происшествиями и занимательными фактами. В дневнике, как и в сборниках стихотворений «Прутена», отражено уважение и к древним пруссам, отчаянно защищавшим землю своих предков от пришельцев – немецких рыцарей. Его удивляет и волнует великая борьба за свободу этого уже исчезнувшего народа, о котором продолжают говорить и через 600 лет, о чём ещё свидетельствуют оставшиеся городища, укрепления, рвы. Реза восклицает: «Как велик человек, который свободу почитает жизни! Намного лучше честному погибнуть, чем негодяем радоваться триумфу». Эти мысли напоминают идеи, изложенные в небольшой поэме Кристийонаса Готлиба Милкуса «Пилкалнис», описывающие отвагу пруссов во время защиты родного края от крестоносцев. Скорее всего, эту поэму нашёл, обработал и опубликовал сам Реза. Восхищается Реза и легендами о древних пруссах, о городке Хайлигенбайль (Мамоново), о гербе, на котором изображена секира. Он пересказывает легенду о том, как там когда-то, ещё с языческих времён, рос священный дуб. Язычники-пруссы поклонялись этому священному дубу. Немецкий католический епископ приказал дуб срубить, но топор рубанул не по коре дуба, а пал на макушку епископа. Дуб срубили лишь со второго раза, когда перед началом рубки освятили топор и перекрестились.
Мотивам Прусской Литвы уделено намного больше внимания, но они, как воспоминания, выплывают случайно по ходу изложения, без выделения в отдельный раздел. Например, Реза говорит о разнице между чтением и слушанием в церкви опубликованных произведений, о том, что у них разное эмоциональное воздействие, и для аргументации обращается к примерам из истории родного края. Известно, пишет Реза, что «глубокоуважаемый проповедник Пруссии» Йоганн Квант «не дал разрешения напечатать ни одну свою проповедь». Он говорил, что к напечатанным проповедям трудно подобрать свой голос, интонацию, волнение переживаний. Скорее всего, Реза вспомнил Кванта не только потому, что он с 1721 года был главным проповедником в кирхе Королевского замка и главным суперинтендантом Пруссии, но, прежде всего, потому, что в 1723—1727 годах он курировал семинар литовского языка Кёнигсбергского университета, способствовал опубликованию нескольких литовских книг, для которых на немецком языке написал предисловия. Для Резы это было очень важно.
Когда Людвикас Реза попал в край, где жили сорбы (Кот-бус, Дрезденский округ), он услышал славянскую речь (этот славянский народ им назван вендами). Реза заметил, что венды ставят ударения в своих словах так же, как литовцы. Некоторые слова даже совпадают, можно даже ошибиться, думая, что слушаешь литовскую речь. В Бреслау он посетил университетскую библиотеку, нашёл там книгу «История Литвы» Коялавичуса – Виюка, и тут же выписал из неё интересные места. Он пишет: «Как я радовался, что нашёл произведение, которое безуспешно искал в Кёнигсбергской библиотеке». Из этих записок видно, что даже захваченный военными вихрями, Реза не забывает научных интересов в области литу-анистики. Позже, ссылаясь на эту книгу, он будет теоретически разбирать вопросы литовской мифологии в своём втором поэтическом сборнике «Прутена» в 1825 году.
В дневнике капеллана Реза признаётся, что его предки – язычники-пруссы. Прусы, которые убили первого крестителя на этих землях – чеха св. Адальберта в 997 году в районе Fischhausen (теперь Приморск). Но в других местах дневника утверждает, что его предки литовцы. Он обоснованно считал, что и пруссы, и литовцы имели общие балтские корни.
Реза ничего не пишет о службе в походе по Латвии в 1812 году, возможно, потому что участие прусских войск Йорка в кампании на стороне Наполеона против России не делало чести королевству Пруссии. Из нескольких источников, в том числе из некролога Резе в 1840 году и из его биографии, представленной Францем Шубертом, профессором Кёнигсбергского университета в 1855 году, известно, что Реза в Курземе познакомился с директором общества Библии России Христофором фон Левеном. Он же в будущем куратор университета Тарту (1817—1828) и министр Просвещения России (1828—1833). Именно фон Левен в 1822 году пригласил профессора Резу поработать на теологический факультет Дерптского (Тартуского) университета, однако, Реза отказался, ибо не хотел уезжать из родного края. Реза понимал, что там он не сможет служить литуанистике. Из многих отрывков Дневника капеллана следует, что Реза – проповедник Прусской армии и в лихолетье военных лет постоянно помнил и заботился о проблемах науки и культуры Родины.