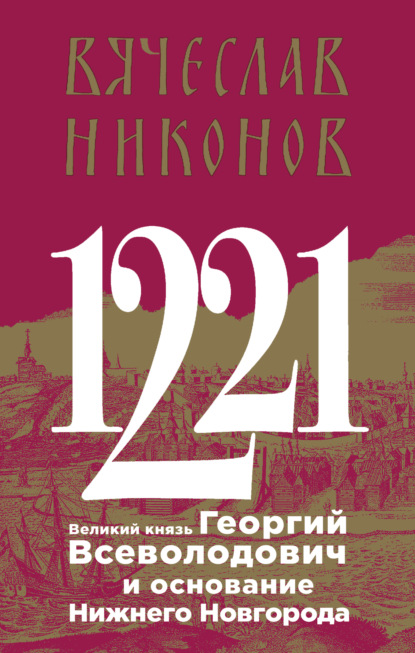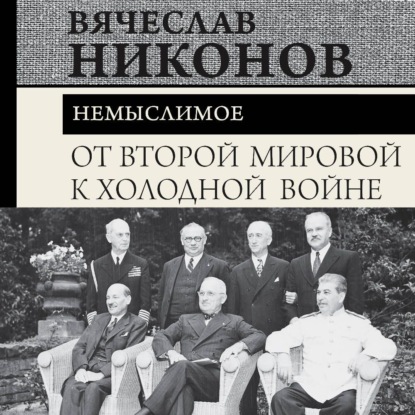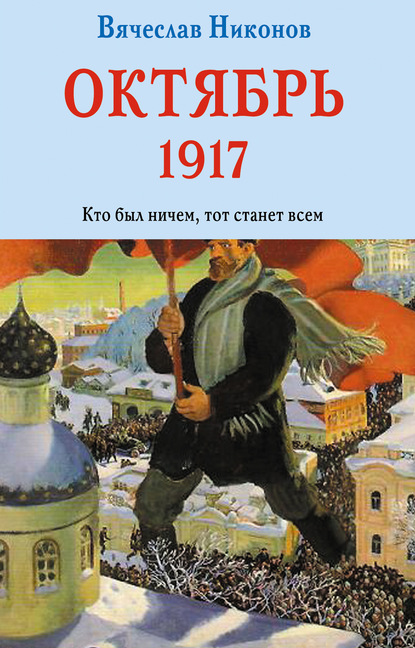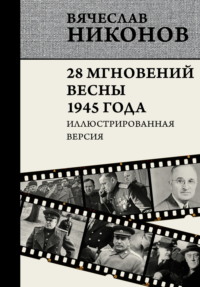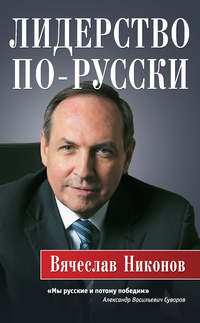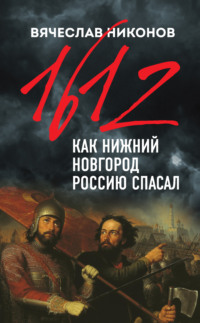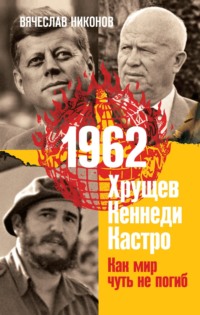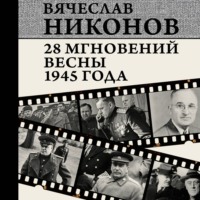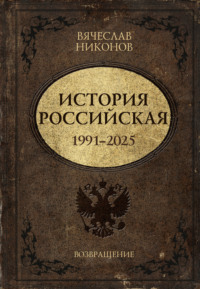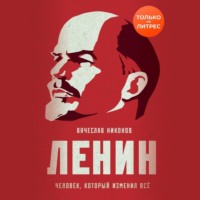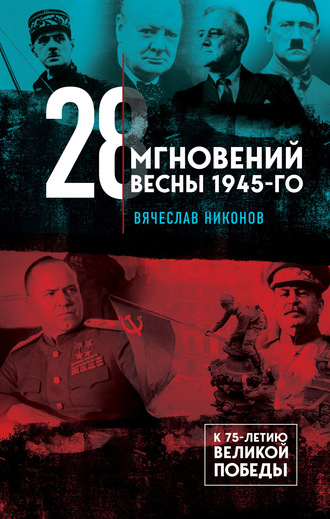
Полная версия
28 мгновений весны 1945-го
СССР был в первую очередь военной сверхдержавой. «Советские войска к тому времени превосходили врага по всем показателям, – писал маршал Жуков. – Наша действующая армия к исходу 1944 года насчитывала 6,7 миллиона человек. У нее было 107,3 тысячи орудий и минометов, 2677 реактивных установок, 12,1 тысячи танков и самоходно-артиллерийских установок, более 14,7 тысячи боевых самолетов…
В это время наша боевая мощь усилилась польскими, чехословацкими, румынскими и болгарскими войсками, которые успешно громили фашистов. Их общая численность к началу 1945 года составляла 347 тысяч человек, они имели около 4000 орудий и минометов и около 200 танков. В составе 3-го Белорусского фронта героически сражались французские летчики авиационного полка “Нормандия-Неман”».
Превосходство советских сил над германскими Черчилль оценивал как трехкратное. Гудериан называл его четырнадцатикратным. Как говорится, у страха глаза велики, да и как могла меньшая сила сломить самого Гудериана.
Но дело было не в цифрах. У нас была великая армия. И она была настроена на последний и решительный бой. Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский писал: «Бойцы, командиры и политработники были полны энтузиазма, горели желанием как можно лучше выполнить задачу. К этому времени мы уже имели хорошо подготовленные офицерские кадры, обладавшие богатейшим боевым опытом. Общевойсковые командиры научились в совершенстве руководить подразделениями, частями и соединениями в различных видах боя. На высоте положения были и командиры специальных родов войск – артиллеристы, танкисты, летчики, инженеры, связисты. А советский народ в достатке обеспечил войска лучшей к тому времени боевой техникой. Подавляющее большинство сержантов и солдат уже побывали в боях. Это были люди обстрелянные, привыкшие к трудным походам… В последних, завершающих боях наши люди проявили подлинно массовый героизм. Подвиг стал нормой их поведения».
Но Советский Союз выигрывал войну и экономически. Вся страна превратилась в единый боевой лагерь, живший под девизом «Все для фронта, все для победы!»
«Наша промышленность в труднейших условиях вооруженной борьбы с сильным врагом, который нанес нам такой огромный материальный ущерб, сумела за годы войны произвести почти вдвое больше современной боевой техники, чем гитлеровская Германия, опиравшаяся на военный потенциал Европы», – справедливо замечал Жуков.
СССР смог создать мощнейшую производственную, научную и опытно-конструкторскую базу, которая легла в основу нашего военно-промышленного комплекса. К концу 1944 года в систему советского ВПК входили 562 военных завода и 98 научно-исследовательских институтов и опытно-конструкторских бюро, в которых в общей сложности работало 3,5 млн человек, что составляло почти 15 % от всех занятых в народном хозяйстве страны.
Но ограниченность факторов силы тоже была налицо. Известный британский историк великих держав Пол Кеннеди замечал: «СССР действительно обогнал Рейх в гонке вооружений, а не только победил его на фронтах, но сделать это ему удалось за счет невероятного сосредоточения всех усилий на военно-промышленном производстве и резкого сокращения всех прочих секторов экономики – потребительских товаров, розничной торговли, сельского хозяйства (хотя спад в производстве продуктов питания объяснялся главным образом немецкими грабежами). Таким образом, Россия 1945 года была, в сущности, военным гигантом, но при этом страдала от бедности, лишений и дисбаланса».
Экономическая цена войны для СССР была колоссальной. Создание столь гигантской военной машины могло произойти только за счет многих других отраслей народного хозяйства, прямо не связанных с войной. А были еще и чудовищные потери от немецкой оккупации. Молотов в 1945 году называл цифры: «Немецко-фашистские оккупанты полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и более 70 тысяч сел и деревень, сожгли и разрушили свыше 6 миллионов зданий и лишили крова около 25 миллионов человек. Среди разрушенных и наиболее пострадавших городов имеются крупнейшие промышленные и культурные центры страны: Сталинград, Севастополь, Ленинград, Киев, Минск, Одесса, Смоленск, Харьков, Воронеж, Ростов-на-Дону и многие другие. Гитлеровцы разрушили и повредили 31 850 промышленных предприятий, на которых было занято около 4 миллионов рабочих и служащих. Гитлеровцы разорили и разграбили 98 тысяч колхозов, в том числе большинство колхозов Украины и Белоруссии. Они зарезали, отобрали и угнали в Германию 7 миллионов лошадей, 17 миллионов голов крупного рогатого скота, десятки миллионов свиней и овец. Только прямой ущерб, причиненный народному хозяйству и нашим гражданам, Чрезвычайная Государственная Комиссия определяла в сумме 679 миллиардов рублей (в государственных ценах)». Ограниченность возможностей Советского Союза тоже отчетливо осознавалась в Кремле.
Контуры будущей советской внешнеполитической стратегии уже активно прорабатывались рядом специальных комиссий, деятельность которых координировал Молотов.
Несмотря на быстрое продвижение союзников на Западе, именно кровопролитные сражения на Востоке определяли ход военных действий и результаты дипломатических переговоров. Достигнутые на Ялтинской конференции договоренности, по сути, закрепляли за СССР его зону интересов в том виде, как она была обозначена в секретном протоколе к договору о ненападении с Германией 1939 года, и зона эта почти совпадала с границами Российской империи – без Польши и Финляндии. Более того, СССР готовился присоединить часть Восточной Пруссии с Кёнигсбергом (хотя формально западные союзники так и не признают присоединения к СССР прибалтийских республик).
Классовые цели компартии отодвигались на второй план. Молотов на пенсии напишет: «Во Второй мировой войне не стоял вопрос о превращении тогдашней антифашистской войны в гражданскую войну против буржуазии, поскольку СССР вел войну против фашистских стран вместе с несколькими главными антифашистскими буржуазными странами. Тогда задачи СССР заключались в том, чтобы, прежде всего (вернее, во-первых), защитить и отстоять демократические (точнее, буржуазно-демократические) цели Второй мировой войны от фашизма и добиться как можно более решительного поражения фашизма (Германии и Италии, а также милитаризма Японии). Разумеется, СССР и тогда стремился, во-вторых, к тому, чтобы антифашистские цели войны осуществлялись как можно более последовательно, как можно более решительно, и, где можно, где были советские войска, СССР всей своей мощью поддерживал наиболее решительных противников фашизма – компартии (Румыния, Болгария, Чехословакия, Польша и др.)».
В отношении занятых советскими войсками стран Восточной Европы стратегия Москвы заключалась в том, чтобы иметь там правительства «независимые, но не враждебные». Планов советизации этих государств изначально не существовало.
Один из руководителей советской разведки Павел Анатольевич Судоплатов свидетельствовал, что в верхушке НКВД и военной разведке «вообще не упоминали о перспективах социалистического развития Польши, Чехословакии, Венгрии, Румынии. Социалистический выбор как реальность для нас в странах Европы был более или менее ясен только для Югославии. Мы исходили из того, что Тито как руководитель государства и компартии опирался на реальную военную силу. В других же странах обстановка была иной. Вместе с тем мы сходились на том, что наше военное присутствие и симпатии к Советскому Союзу широких масс населения обеспечат стабильное пребывание у власти в Польше, Чехословакии и Венгрии правительств, которые будут ориентироваться на тесный союз и сотрудничество с нами».
Но даже с Югославией не все было так однозначно. Сталин советовал Иосипу Броз Тито снять красные звезды с югославской военной формы, чтобы «не пугать англичан».
Своей важной задачей Москва на том этапе видела поддержку и обеспечение участия во властных структурах тех сил, которые так или иначе ориентировались на СССР. В первую очередь речь шла, конечно, о главном «классовом» союзнике – коммунистах, которые во всех странах Восточной Европы, кроме Чехословакии, до войны действовали нелегально. Курс на достижение компромиссов, формирование коалиционных блоков с некоммунистическими партиями в реальной политической практике сочетался с открытым использованием силовых приемов для нейтрализации или подавления тех сил, которые отвергали сотрудничество с коммунистами и/или занимали открыто антисоветские позиции. Имело место сочетание насильственного «натягивания советского пиджака» на освобожденные страны с очевидным ростом социалистических настроений и социальной базы для режимов «народной демократии». В Финляндии, Норвегии и Австрии, где уже стояли советские войска, но компартии были слабы, политика советизации вообще не проводилась.
Опыт сотрудничества с западными странами воспринимался в Кремле как совсем неоднозначный. На одной чаше весов лежало политическое и военное взаимодействие, союзнические конференции, совместные усилия по созданию ООН, военная и экономическая поддержка Советского Союза со стороны западных держав, которая сыграла немалую роль в укреплении оборонной мощи СССР.
Заместитель председателя Совнаркома Николай Александрович Вознесенский определял удельный вес западных поставок в 4 % от внутреннего военного производства. Американские оценки – около 10 %. Но при этом надо иметь в виду, что западная статистика брала в расчет отправленную продукцию без учета потерь при доставке. Обоснованной представляется цифра в 6–7 %.
Из США, Великобритании и Канады было поставлено 22 195 самолетов, 12 900 танков, 5000 орудий, 427 000 автомобилей всех классов. В порядке ленд-лиза поступило около 1 % от общего советского производства стрелкового и артиллерийского оружия, 20 % фронтовых бомбардировщиков, от 16 до 23 % – фронтовых истребителей, свыше 80 % радиолокационного оборудования. Американские «форды», джипы и «студебеккеры» составляли 70 % от автопарка Советской армии. Поступали также продовольствие, одежда, телефонные провода, авиационное топливо, легированная сталь, высокоточные приборы, станки и инструменты. Кроме того, сам факт помощи имел большое моральное значение, добавляя чувство уверенности советским людям.
В начале войны до половины поставок осуществлялось через наши северные порты, куда шли конвои, неся большие потери. Затем основные поставки пошли через Персидский залив и Иран, а также через дальневосточные порты. Более 8 тысяч самолетов (половина от всех американских поставок) было переправлено через АЛСИБ – авиатрассу между Аляской и Сибирью.
При этом не следует забывать, что и сам СССР поставлял оружие в другие страны. Так, Войску польскому Советский Союз передал 8340 орудий и минометов, 630 самолетов, 670 танков и самоходно-артиллерийских установок, свыше 406 тысяч винтовок и автоматов, большое количество транспортных машин, средств связи. Войска Югославии получили 5800 орудий и минометов, около 500 самолетов, 69 танков, более 193 тысяч винтовок, карабинов и автоматов, 15,5 тысяч пулеметов. Огромными были поставки советского вооружения в Китай.
На другой чаше весов лежало традиционное взаимное недоверие союзников друг к другу, затягивание с открытием второго фронта в Европе, в чем Москва не без оснований усматривала стремление переложить именно на СССР основные тяготы войны, и многократный обман союзниками советского руководства по поводу сроков открытия второго фронта, те же сепаратные переговоры с немцами, нежелание учитывать советские интересы в Восточной Европе. Существовал и культурно-цивилизационный разрыв. «Рузвельта и Черчилля объединял комплекс англо-американской исключительности и превосходства, убеждение в цивилизаторской миссии англоязычных народов по отношению к остальному миру, включая «полуварварскую» Россию, – пишут знающие историки. – В Сталине они видели пусть выдающегося, но все же варварского лидера – “Аттилу”, как за глаза называли его некоторые британские деятели».
Вместе с тем в Кремле были настроены на продолжение партнерства с Западом после войны. «У советского руководства и лично у Сталина оставалось твердое намерение продолжать сотрудничество с западными державами – союзницами по антигитлеровской коалиции», – подтверждал Громыко.
Вот что пишет о мотивах руководителей СССР тщательно изучивший этот предмет блестящий историк Владимир Олегович Печатнов: «Военный опыт сотрудничества с Западом не изменил в корне их большевистски циничного взгляда на союзников как коварных, корыстных и лицемерных, а сам союз – как временное соглашение с “одной фракцией буржуазии”, на смену которому может прийти соглашение с “другой”… Но тот же циничный прагматизм подталкивал Сталина и его окружение к сохранению заинтересованности в продолжении сотрудничества с Западом, по крайней мере на ближайшую послевоенную перспективу. Во-первых, союз представлялся реальным способом предотвращения новой германской и японской угрозы… Во-вторых, союз создавал институциональные рамки для легитимации новых советских границ и обширной сферы влияния за их пределами… Кроме того, сотрудничество США было необходимо для получения экономической и финансовой помощи, в которой так остро нуждалось разрушенное войной хозяйство страны».
Сближала с Западом и перспектива продолжения войны – теперь уже на Дальнем Востоке.
22 января 1945 года американский ОКНШ подготовил для президента меморандум о завершающем этапе войны с Японией. Вторжение на основные ее острова планировалось только на зиму 1945/46 года, а в случае затягивания войны в Европе – и на более поздний срок. Предполагалось, что для победы потребуется не менее 18 месяцев после капитуляции Германии и 200 тысяч жизней американских военных. Помощь СССР считалась необходимой.
Япония, по сути, с 1931 года, а формально с 1937 года вела войну против Китая, угрожала дальневосточным границам СССР, где не раз вспыхивали вооруженные столкновения, оккупировала одну за другой страны Юго-Восточной Азии, воевала с западными державами на Тихом океане. Советский Союз даже в самые тяжелые годы войны с нацистами был вынужден держать миллионную армию на Дальнем Востоке. В Ялте было окончательно решено: СССР вступит в войну против Японии через три месяца после окончания войны в Европе. Кроме того, Москве удалось добиться согласия союзников на полный пересмотр итогов Русско-японской войны 1904–1905 годов – и в отношении прежних российских владений в Китае, и в отношении Сахалина и Курил, чья принадлежность Советскому Союзу была подтверждена.
В апреле 1945 года истекал срок, когда у СССР существовала правовая возможность денонсировать Пакт о нейтралитете с Японией: если бы он этого не сделал, пакт автоматически продлевался на следующие пять лет. Учитывая ялтинские договоренности, дальше тянуть было нельзя. 5 апреля Молотов пригласил японского посла Наотакэ Сато и заявил ему о денонсации пакта из-за коренного изменения международной обстановки: «Германия напала на СССР, а Япония, союзница Германии, помогает последней в ее войне против СССР. Кроме того, Япония воюет с США и Англией, которые являются союзниками Советского Союза. При таком положении Пакт о нейтралитете между Японией и СССР потерял смысл, и продолжение этого Пакта стало невозможным».
Сато уверял в желании сохранить мир на Дальнем Востоке. Японское правительство выразило, мягко говоря, сожаление. «Время, когда мы могли бы прибегнуть к каким-либо остроумным приемам с целью склонить СССР на свою сторону, явно прошло, – писал Сигэнори Того, возглавлявший в те дни японский МИД. – Но ведь полное и окончательное присоединение СССР к нашим противникам было бы для Японии фатальным».
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.