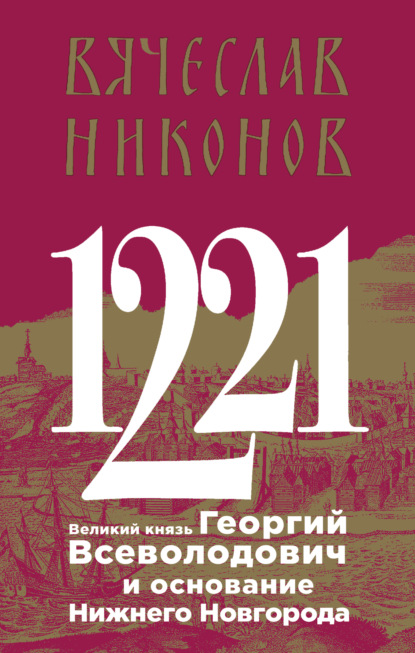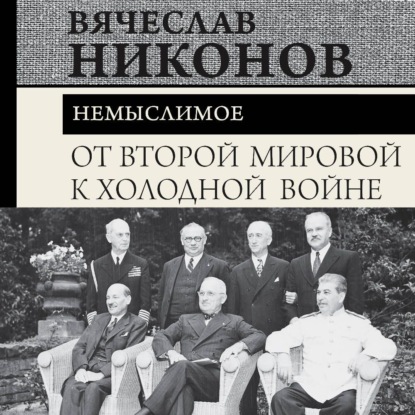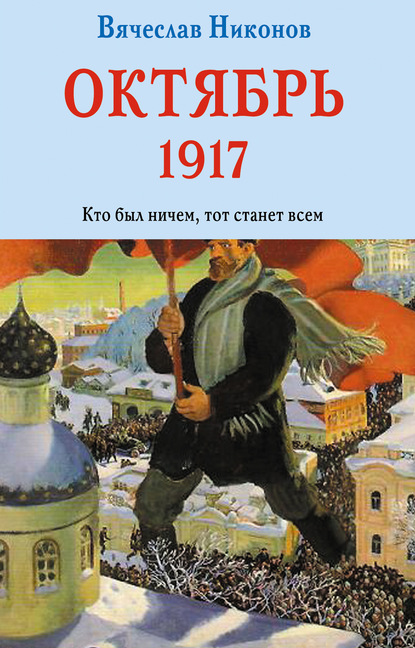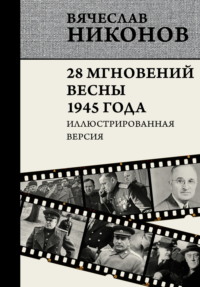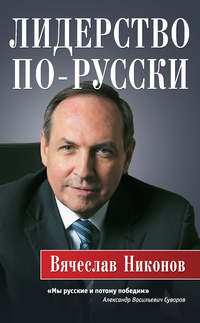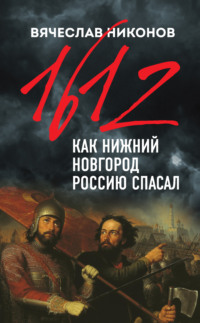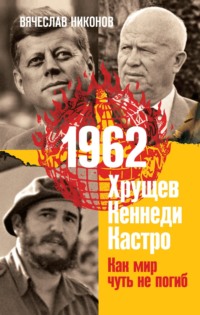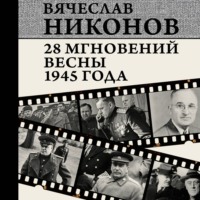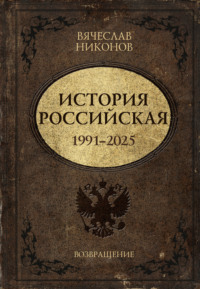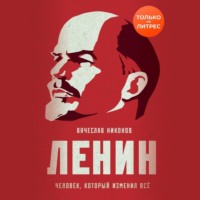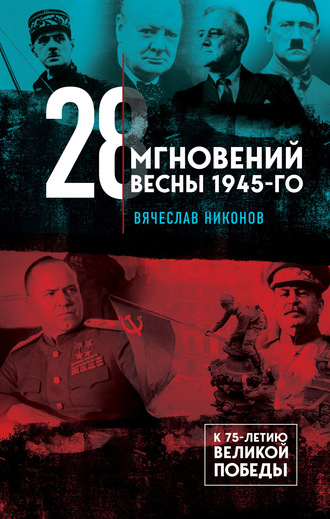
Полная версия
28 мгновений весны 1945-го
Берлин готовился обороняться. Женщин учили стрелять из пистолета. Бойцов фольксштурма отправили строить баррикады на улицах, перегораживать их трамваями и товарными вагонами, наполненными камнями. Копались окопы для стариков и молодежи из фольксштурма, которых вооружали противотанковыми фаустпатронами. Подростков из «Трудового фронта» массово призывали на военную службу. Многих из них заставляли смотреть, как расстреливают: «чтобы приучить к виду смерти». Новобранцы, отправлявшиеся на фронт в пригородных электричках, пытались поддерживать дух висельными шуточками, прощаясь словами: «Встретимся в братской могиле».
День 12 апреля был для Гитлера чудовищно плохим (он еще не знал, что его ждет впереди). Германия только что потеряла одну столицу и уже теряла другую. Столицу Восточной Пруссии Кёнигсберг. И Вену, столицу Австрии, которая стала частью рейха после аншлюса в 1938 году.
Штурм Кёнигсберга вели войска 3-го Белорусского фронта Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. После продолжавшейся несколько часов артиллерийской подготовки они прорвали позиции вокруг Кёнигсберга, окружили со всех сторон крепость и 7–8 апреля устремились к центру уже горевшего во многих местах города. «Просьбу коменданта крепости разрешить гарнизону прорываться из города на запад Гитлер отклонил, – писал Типпельскирх. – Предпринятая в западной части города на собственный страх и риск попытка локального прорыва кольца окружения, на которой настаивали прежде всего местные руководители национал-социалистической партии, стремившиеся спасти свою жизнь, провалилась».
На острие советской атаки шла Земландская оперативная группа войск генерала армии Ивана Христофоровича Баграмяна. Он рассказывал: «Когда А. М. Василевскому на рассвете 9 апреля доложили, что нет никаких признаков капитуляции, он вызвал командующего артиллерией фронта генерал-полковника М. М. Барсукова и приказал ему сосредоточенным огнем всей артиллерии по центральным кварталам города помочь армии к концу дня завершить штурм Кёнигсберга… К вечеру 9 апреля вся северо-западная, западная и южная части Кёнигсберга были в наших руках. Противник продолжал из последних сил удерживать лишь самый центр и восточную часть города. Наконец, комендант Кёнигсберга принял первое за последние два дня боев разумное решение. Он выслал нам парламентеров с сообщением о прекращении дальнейшего сопротивления… В 21 час 30 минут генералу О. Ляшу был вручен ультиматум советского командования». Ляш принял все условия.
В ночь на 10 апреля Москва уже салютовала доблести, отваге и мастерству героев штурма Кёнигсберга 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий. Это называлось салютом высшей категории. Но потребовалось еще четыре дня, чтобы добиться капитуляции всего огромного гарнизона Кёнигсберга. Всего в ходе Кёнигсбергской операции потери немецкой стороны составили 42 тысячи человек убитыми, в плен было взято, по официальным советским данным, 93 853 военнослужащих, захвачено 2 тысячи орудий и 128 самолетов.
Гитлер жестко отреагировал на капитуляцию Кёнигсберга. Он заочно приговорил Ляша к смертной казни, а его семью подверг репрессиям. Его жена и старшая дочь были найдены в Дании и брошены там в тюрьму, младшая дочь и зять, которого немедленно разыскали на фронте, оказались в берлинских застенках гестапо. Командующий армейской группой генерал Мюллер лишился своего поста. Командование всеми немецкими войсками в Восточной Пруссии и дельте Вислы Гитлер передал в руки генерала танковых войск Дитриха фон Заукена. «Дело теперь повсюду сводилось лишь к тому, чтобы спасти жизнь раненым и беженцам и насколько возможно эвакуировать их морем», – свидетельствовал Типпельскирх. Но время для окруженных стремительно сжималось. В ночь на 12 апреля маршал Василевский предъявил ультиматум фашистским войскам, находившимся на Земландском полуострове, дав сутки на капитуляцию.
В это время войска 3-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Федора Ивановича Толбухина и левого крыла 2-го Украинского фронта Маршала Советского Союза Родиона Яковлевича Малиновского завершали Венскую наступательную операцию. Три армии немецкой группы «Юг» – генералов Вёлера, Рендулича и фон Бюнау – отходили от рубежа к рубежу, сдерживая наступление Красной армии, которая к началу апреля вышла к австрийской границе. Малиновский 4 апреля овладел Братиславой и шел на Вену по северному берегу Дуная.
Вену обороняли остатки восьми танковых, одной пехотной дивизии, личный состав венской военной школы и 15 отдельных батальонов. Основу гарнизона составляли не добитые в Венгрии части 6-й танковой армии СС. Ее командующий, генерал-полковник войск СС Зепп Дитрих, возглавивший оборону, уверял фюрера: «Вена будет сохранена для Германии». 6 апреля Дитрих был убит.
Краткая хроника освобождения Вены от начальника штаба 3-го Украинского фронта Семена Павловича Иванова, который начинал Венскую операцию генерал-лейтенантом, а закончил генерал-полковником: «4 апреля войскам 4-й гвардейской, 9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий была отдана директива на овладение Веной… 7 апреля 39-й стрелковый корпус 9-й гвардейской армии и соединения 6-й гвардейской танковой армии обошли Вену. На следующий день они достигли центра города, где соединились с войсками армии Н. Д. Захватаева… К 10 апреля вражеский гарнизон был зажат с трех сторон… Была разработана и 12 апреля отдана войскам 4-й, 9-й гвардейской и 6-й гвардейской танковой армий оперативная директива, в которой особое внимание обращалось на одновременность штурма… Командующему артиллерией фронта генерал-полковнику артиллерии М. И. Неделину и командующему 17-й воздушной армией генерал-полковнику авиации В. А. Судцу маршал Ф. И. Толбухин приказал организовать подавление вражеской артиллерии до начала штурма и в ходе его».
Сопротивление защитников Вены было сломлено. Типпельскирх признал: «Вена, как и другие города, тоже стала ареной тяжелых уличных боев, но поведение населения, а также отдельных немецких частей… было скорее направлено на быстрое окончание боев, чем на сопротивление».
Весь день 12 апреля Геббельс провел в Кюстрине (сейчас это польский Костшин-над-Одрон), где размещался штаб генерала Теодора Буссе, командующего немецкой 9-й армией, оборонявшей Берлин с востока и юго-востока. Вечером они сидели с генералом в штабе, и Геббельс, вдохновляя командование армии на подвиги, развивал свою излюбленную в те дни мысль: в силу исторической логики и справедливости ход событий просто обязан измениться, как это чудесным образом произошло в Семилетней войне.
– А какая царица умрет на этот раз? – поинтересовался Буссе.
Геббельс не был уверен.
– Но судьба, – ответил он, – располагает многими возможностями.
Король умер…
Президент Соединенных Штатов Америки Франклин Рузвельт 12 апреля проснулся на своей вилле в местечке Уорм-Спрингс в штате Джорджия. Весна дышала надеждой. День был чудесный, теплый, воздух – чистый.
У Рузвельта немного болела голова и затекла шея. Он пожаловался доктору Говарду Брюэнну, который наблюдал его еще с марта 1944 года, когда тот попал в госпиталь в Бетесде. Доктор сделал массаж воротниковой зоны.
За завтраком Рузвельт подшутил над темнокожей служанкой, весившей за сто килограммов, сказав, что в следующей жизни скорее всего ей предстоит стать канарейкой. За столь неполиткорректное замечание в адрес темнокожей толстушки в современной Америке Рузвельту бы сильно не поздоровилось. Но тогда шутка была сочтена веселой. Это были времена расовой сегрегации, и в южных штатах, как в Джорджии, у афроамериканцев не было даже права голоса. Все присутствовавшие за завтраком отметили хороший внешний вид президента.
Последние известия, прочитанные Рузвельтом в утренних газетах, были о том, что между американскими и советскими войсками в Германии осталось всего 150 километров. Его курс на советско-американское партнерство себя полностью оправдывал.
Информация к размышлениюРузвельт Франклин Делано (ФДР). 63 года. 32-й президент Соединенных Штатов. Лидер Демократической партии США. Представитель одного из старейших американских родов голландского происхождения. От отца унаследовал семейное имение Гайд-Парк в штате Нью-Йорк, крупные пакеты акций угольных и транспортных компаний. После Гортона, Гарварда и Колумбийского университета Рузвельт работал в крупной адвокатской фирме на Уолл-стрит. Масон. Женился на своей шестиюродной сестре Анне Элеоноре Рузвельт, чей отец был младшим братом президента Теодора Рузвельта. В браке родилось шестеро детей, один из которых умер в младенчестве. Избирался в законодательное собрание штата Нью-Йорк, работал помощником и заместителем морского министра в 1913–1921 годах. В 1921 году Рузвельт заболел полиомиелитом и уже не расставался с инвалидным креслом (хотя умело скрывал это от избирателей, что было возможно в эпоху радио). В 1928 году был избран губернатором штата Нью-Йорк.
Стал президентом США в 1933 году на волне разочарования тяготами Великой депрессии. Предложенный Рузвельтом «Новый курс» заметно усилил роль государства в антикризисном регулировании, позволил создать в США систему социального обеспечения, преодолеть массовую безработицу. Проводившаяся США в 1930-е годы политика изоляционизма и нейтралитета объективно способствовала попустительству агрессорам в годы назревания Второй мировой войны и в ее начале. После атаки Японии на Перл-Харбор в декабре 1941 года Рузвельт объявил войну Японии и Германии, произнеся свои знаменитые слова: «Нам нечего бояться, кроме самого страха».
Рузвельт был одним из инициаторов партнерства с Советским Союзом в войне, предоставления ему помощи по программе ленд-лиза. После высадки в Нормандии в июле 1944 года американские войска вели полномасштабные боевые действия против гитлеровской Германии. В ноябре 1945 года был переизбран президентом США на четвертый срок подряд. Рузвельт выступал основным инициатором создания Организации Объединенных Наций. Несмотря на плохое самочувствие, в феврале 1945 года принял участие в Ялтинской конференции, где лидеры СССР, США и Великобритании заложили многие основы послевоенного мира.
С Ялтинской конференции Рузвельт вернулся в Вашингтон совсем разбитый. Несмотря на советы врачей и близких как следует отдохнуть, Рузвельт вновь ринулся в омут бурной американской политики. 1 марта он выступил перед конгрессом с ежегодным посланием о положении в стране, где высоко оценил достигнутые в Крыму договоренности и предложил позитивное видение будущего:
– Мир, который мы строим, не может быть американским и британским миром, русским, французским или китайским миром. Он не может быть миром больших и миром малых стран. Он должен быть миром, базирующимся на совместных усилиях всех стран… Конференция в Крыму, я надеюсь, была ключевым моментом в нашей истории так же, как и в истории всего мира.
Но в США начинали дуть уже иные ветры. Война с Германией и Японией была еще далека от завершения, но на повестку дня в Америке все более весомо вставал вопрос об отношениях с Советским Союзом.
В годы войны во внешнеполитическом истеблишменте США противоборствовали три направления, по-разному представлявшие СССР и характер отношений с ним. «Оптимисты», к числу которых относились сам Франклин Рузвельт, его предыдущий вице-президент Генри Уоллес, ближайший помощник Гарри Гопкинс считали, что СССР может быть партнером и в битве с фашизмом, и в послевоенное время, участником «семейного круга» великих держав.
«Реалисты», которые имели наиболее сильные позиции в Объединенном комитете начальников штабов (ОКНШ), во главе с Джорджем Маршаллом понимали решающую роль СССР в разгроме Германии и, возможно, Японии и готовы были ему в этом помогать. Вместе с тем они не исключали превращения Советского Союза после войны в потенциального противника и концентрировались на выстраивании глобальной системы обеспечения национальной безопасности США.
Что же касается «пессимистов», то их позиции были особенно сильны в Государственном департаменте и военной разведке. По их мнению, любое усиление СССР представляло собой угрозу для Соединенных Штатов, а поэтому Москву нужно «остановить», вплоть до прекращения поставок по ленд-лизу. К числу «пессимистов» принадлежал и действовавший вице-президент Гарри Трумэн.
Пока тон задавал Рузвельт. В его стратегическом видении будущего Советский Союз рассматривался как партнер Соединенных Штатов по контролю над новой мировой системой – вместе с Великобританией и Китаем (идея «четырех полицейских»). Когда в 1944 году президента попросили прокомментировать начавшиеся разговоры, будто русские намерены овладеть контролем над всей Европой, Рузвельт ответил: «Я лично не думаю, что это мнение имеет под собой основание. У них достаточно дел в самой России, чтобы многие годы заниматься внутренними проблемами, не беря на себя дополнительную головную боль». Союз военных лет казался ему основой взаимодействия в послевоенном мире, где следует признавать справедливость обеспокоенности Советского Союза обеспечением собственной безопасности. Рузвельт понимал неизбежность новых сфер влияния великих держав, надеясь в то же время сохранить советскую сферу влияния открытой для американских капиталов, товаров и пропагандистского воздействия. Он никогда даже не обсуждал возможность силового противодействия СССР.
У курса на продолжение советско-американского сотрудничества и в дальнейшем была серьезная общественная поддержка. В марте 55 % американцев верили в готовность России сотрудничать с США после окончания войны. Число не удовлетворенных партнерством в Большой тройке не превышало 15 %.
Но предложения ужесточить курс звучали уже с самых разных сторон. Успехи левых сил в освобождаемых Советским Союзом странах Восточной Европы, выход советских войск к Вене, Праге и Берлину усиливали оппозицию рузвельтовскому курсу, пресса подогревала температуру. Помимо традиционных обвинений в российском экспансионизме (на Западе так и не научились говорить об СССР, по-прежнему нашу страну куда чаще называли Россией) и полного неприятия идей и практики коммунизма, было два основных камня преткновения в отношениях с Москвой. Первый – Польша. В Ялте было решено пополнить созданное Москвой правительство в Варшаве представителями сидевшего в Лондоне эмигрантского правительства. Но с тех пор шли безостановочные и ни к чему не приводившие дебаты. В общих чертах: Кремль не устраивали предлагавшиеся западными партнерами антимосковски настроенные кандидатуры, союзников не устраивало чрезмерное представительство в будущем правительстве просоветских политиков.
Второй – «Кроссворд». В начале марта с санкции Рузвельта в Берне начались контакты между резидентурой американской разведки – Управления стратегических служб (УСС) – и германскими военными по поводу капитуляции немецких войск в Италии. Проводивший эту операцию резидент в Швейцарии (и будущий директор ЦРУ) Аллен Даллес подтверждал: «С конца февраля 1945 года, без лишней огласки, возглавляемая мною миссия Управления стратегических служб в Швейцарии и немецкие генералы в Италии обменивались эмиссарами и посланиями. На протяжении двух решающих месяцев командующие сцепившимися в схватке противоборствующими армиями поддерживали секретные сношения через мой офис в Берне в поисках возможности закончить бои на итальянском фронте, надеясь, что это послужит прологом к общей капитуляции нацистов в Европе. Мы дали этой операции кодовое название “Восход” и лишь позже узнали, что Уинстон Черчилль, который пристально следил за всеми событиями, уже назвал ее “Кроссворд”». В ходе этих контактов речь шла о «спасении западной цивилизации» путем открытия фронта перед наступающими англо-американскими войсками.
Было решено информировать Москву, которая все равно узнала бы об этом. 12 марта эту информацию передали наркому иностранных дел Вячеславу Михайловичу Молотову. В тот же день он дал согласие на проведение этих переговоров, но попросил подключить к ним представителей СССР. И здесь нашла коса на камень. Упорное нежелание союзников видеть советских представителей на переговорах с генералом войск СС Карлом Вольфом воспринималось в Москве крайне негативно. Сталин и Молотов отметились серией гневных посланий, где содержались такие оценки, которые в Лондоне и в меньшей степени в Вашингтоне были расценены как оскорбительные обвинения в нарушении союзнических обязательств.
Всегдашние критики внешней политики Рузвельта, лидеры республиканцев – Герберт Гувер, Роберт Тафт, Артур Ванденберг и другие – все громче заявляли, что были правы, изначально протестуя против оказания американской помощи Советскому Союзу.
Не сильно от них отставало американское посольство в Москве, где сам посол Аверелл Гарриман, его заместитель Джордж Кеннан и представитель военного командования США Джон Дин подталкивали Государственный департамент и окружение президента к жесткому разговору с Москвой.
Аналитики из того, что сейчас принято называть «глубинным государством», уже выстраивали новое видение мировой ситуации, во многом альтернативное президентскому. В документе ОКНШ «Оценки советских послевоенных возможностей и намерений», датированном 11 января 1945 года, главной стратегической задачей США и Великобритании на послевоенный период называлось «предотвращение контроля над ресурсами и людской силой Европы и Азии со стороны поднимающейся державы – СССР (в случае если такая попытка будет предпринята)».
Не прошло и трех месяцев, как УСС подготовило доклад «Проблемы и цели политики Соединенных Штатов», где Советский Союз изображался уже почти состоявшимся «евразийским гегемоном», способным в силу имманентно присущих ему «экспансионистских устремлений» «стать для США самой зловещей угрозой из всех известных до сих пор»… СССР истощен войной, значительно уступает США по своему потенциалу и «в течение следующих 10–15 лет будет избегать еще одной крупной войны». Этот период предлагалось использовать как передышку для создания противовесов «советской экспансии» в Европе и Азии. В Европе это должен был быть «западноевропейско-средиземноморско-американский блок» с опорой на Великобританию, «сильную Францию» и западные зоны Германии.
В Азиатско-Тихоокеанском регионе считалось необходимым как минимум уравновесить советское влияние в Китае и Японии, как максимум (в зависимости от исхода войны с Японией) – получить «доминирование» над ней, а также укрепить военно-политические отношения с Австралией и Новой Зеландией, дабы «обеспечить себе прилегающие бастионы в юго-западной части Тихого океана» и создать пояс обороны в Западном полушарии за счет вовлечения стран Латинской Америки в «долгосрочный пакт безопасности». Эти планы удивительно точно предвосхитят основы американской стратегии в годы холодной войны. Рузвельт их не поддерживал.
В конце марта президент решил взять двухнедельный отпуск, чтобы поправить здоровье и избежать вашингтонских дрязг в ожидании новых побед на фронтах.
Рузвельт отбыл 29 марта в Уорм-Спрингс, где природа обходилась с ним особенно ласково, старательно упаковав накануне в багаж свою бесценную коллекцию марок. Приглашал с собой дочь Анну, но болезнь сына не позволила ей уехать с отцом. Поезд прибыл на станцию в два часа дня 30 марта, и вскоре президентский лимузин домчал его до гостеприимной виллы, которую нередко называли «малым Белым домом».
Компания у него в Уорм-Спрингс была преимущественно женская. «В доме отсутствовала Элеонора Рузвельт, занятая в различных общественных мероприятиях в Вашингтоне, о чем, как уже стало между ними принято, никто из них не жалел, – замечал биограф. – Они нуждались в таких паузах, чтобы отдохнуть от ставших уже привычными трений». Президент пригласил провести с ним время родственниц – Лауру Делано и Маргарет (Дейси) Сакли. Вскоре к компании присоединилась Люси Мерсер-Рузерфурд. Рузвельт давно, вскоре после бракосочетания с Элеонорой, влюбился в Люси, в ту пору личную секретаршу его супруги. Рузвельт даже подумывал о разводе с Элеонорой ради Люси, но все же решил сохранить семью и сберег тем самым свою политическую карьеру. Теперь он пожелал, чтобы Люси была рядом. А она захватила с собой свою подругу – художницу Елизавету Шуматову, которая намеревалась писать портрет президента, а тот согласился позировать. Кроме них, в Уорм-Спрингс обитали личные секретари Уильям Хассет и Грейс Талли, а также кардиолог Брюэнн.
Весна была в разгаре, и южное солнце грело по-летнему. Президент каждый день трудился и ездил по окрестностям. Он загорел, окреп, выспался. Кровяное давление скакало, но вернулся хороший аппетит, а вслед за ним и лучезарное настроение, активность и оптимизм. Врач делал заключение: «Его память о недавних и прошлых событиях безупречна, его поведение в отношении друзей и близких неизменно, и нет перемен в характере его речи». Возвращалось обычное состояние удовлетворения от работы. А ее было много, почта приходила оперативно и исправно.
Активность проявляли посольство и военная миссия США в Москве, чьи рекомендации становились все более жесткими. Гарриман запросил Госдепартамент и президента срочно отозвать его в Вашингтон для доклада о причинах «пугающего поворота в наших отношениях с Советским правительством после Крымской конференции».
В длинной аналитической депеше госсекретарю от 4 апреля Гарриман однозначно характеризовал советскую стратегию как направленную на большевизацию всей Европы: «Мы должны ясно отдавать себе отчет в том, что советская программа направлена на утверждение тоталитаризма и отрицание личных свобод и демократии в нашем понимании… СССР выйдет из войны с самым большим после США золотым запасом, будет располагать значительным запасом ленд-лизовских материалов и оборудования для послевоенного восстановления, будет нещадно вывозить все, что можно, из оккупированных стран, контролировать в своих интересах внешнюю торговлю подчиненных ему стран… и в то же время – требовать от нас всей возможной помощи для продвижения своих политических целей в различных районах мира в ущерб нашим интересам… Если мы не хотим жить в мире, большая часть которого находится под советским господством, мы должны использовать свое экономическое влияние для защиты наших политических идеалов».
Однако Рузвельт был не склонен драматизировать ситуацию. Не внял он и настойчивой просьбе посла вызвать его в Вашингтон для личного доклада. По указанию президента руководство ОКНШ в те дни отклонило предложения Дина и Гарримана о мерах по ограничению военного сотрудничества с СССР, утверждая: «Поддержание единства союзников в ведении войны остается кардинальной и важнейшей задачей наших военных и политических отношений с Россией. Приведенные примеры отказов русских от сотрудничества при всем том, что их трудно понять и они вызывают раздражение, сами по себе являются сравнительно незначительными инцидентами. Они могут стать важными, только если приведут к ответным мерам с нашей стороны, за которыми последуют аналогичные шаги русских так – вплоть до нарушения, в конце концов, союзного единства».
Наибольшую эпистолярную плодовитость демонстрировал британский премьер Уинстон Черчилль, который все настойчивее требовал от Рузвельта ужесточить курс в отношении Москвы. Он уговаривал устроить Сталину разнос за Польшу и в связи с его возмущением «Кроссвордом». Заодно он обвинял американцев в преступной близорукости за то, что их военное командование во главе с Дуайтом Эйзенхауэром не желало опередить русских и взять Берлин первыми, мешая при этом британским войскам двигаться на восток более быстрыми темпами.
Рузвельт защищал Эйзенхауэра в письме Черчиллю от 4 апреля: «Перед английской армией ставятся весьма логичные, по моему мнению, задачи на северном фланге… Я сожалею еще больше, что в момент великой победы наших объединенных сил мы оказываемся втянутыми в подобные заслуживающие сожаления пререкания. Имеются разумные основания ожидать, что в результате осуществления нынешнего плана Эйзенхауэра великая германская армия будет в весьма близком будущем полностью раздроблена на изолированные группы сопротивления, в то время как наши войска в тактическом отношении останутся нетронутыми и смогут уничтожить все разрозненные части нацистской армии».
Продолжал обижаться за «Кроссворд» Сталин, который 3 апреля писал Рузвельту, что, по его сведениям, «переговоры были, и они закончились соглашением с немцами, в силу которого немецкий командующий на Западном фронте маршал Кессельринг согласился открыть фронт и пропустить на восток англо-американские войска, а англо-американцы обещали за это облегчить для немцев условия перемирия». В «наказание» Сталин решил не посылать на открытие конференции в Сан-Франциско Молотова. Делегацию теперь должен был возглавить посол в США Андрей Андреевич Громыко, что делало советскую делегацию наименее представительной из всех.
На это послание, которое было, по словам руководителя аппарата Белого дома адмирала Леги, исполнено «подозрительности и недоверия к нашим мотивам», он «подготовил для президента направленный затем маршалу Сталину резкий ответ, настолько близкий к отповеди, насколько это возможно в дипломатических обменах между государствами». Рузвельт уверял, что «имеющиеся у Вас об этом сведения, должно быть, исходят из германских источников, которые упорно старались вызвать разлад между нами с тем, чтобы в какой-то мере избежать ответственности за совершенные ими военные преступления. Откровенно говоря, я не могу не чувствовать крайнего негодования в отношении Ваших информаторов, кто бы они ни были, в связи с таким гнусным, неправильным описанием моих действий или действий моих доверенных подчиненных». Черчилль 5 апреля с возмущением поддерживал Рузвельта: «Я поражен тем, что Сталин направил Вам послание столь оскорбительное для чести Соединенных Штатов, а также и Великобритании… Все это делает особенно важным, чтобы мы встретились с русскими армиями как можно дальше на востоке и, если обстоятельства позволят, вступили в Берлин… Мы всегда должны быть настороже: не является ли грубость русских посланий предвестником каких-то глубоких перемен в политике, перемен, к которым они готовятся?.. Если они когда-нибудь придут к заключению, что мы их боимся и что нас можно подчинить запугиванием, то я потеряю всякую надежду на наши будущие отношения с ними и на многое другое».