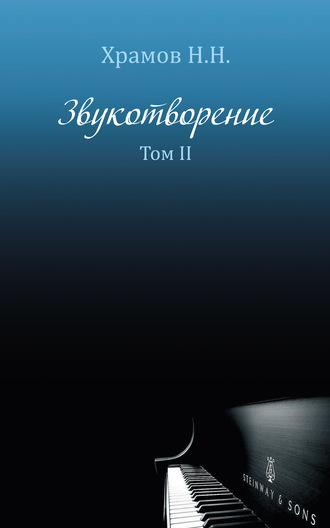
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
– Не чаю, что и сказать. Я часто о тебе думала, молилась за тебя. Люблю ведь очень! Иначе разве пошла бы за тебя! И во многом, во многом ты прав, да! И я бесконечно признательна тебе – никогда и никому не говорила таких слов. Но… уехать? Уехать из России, покинуть всё это??? Это выше моих сил. Здесь – могилы предков всех, язык родной, здесь – всё, всё, ТЫ ЭТО ПОНИМАЕШЬ???
– Но и я не могу остаться! Я ненавижу быдло мужицкое, тех, кто всю жизнь нашу, мою! мою судьбу поковеркал, кто в пропасть загнал Россию!
Другим, страшным и чужим предстал вдруг он ей: глаза налиты кровью – кровавой смесью из ненависти лютой, гордыни алчущей и жажды убивать, убивать, убивать! в исступлении мстительном, не щадящем… черты лица, и прежде строгие, чеканные, обострились до неузнаваемости, до болезненного, сухоточного выражения, властная печать – клеймо рода! – расползлась, разлезлась по губам, как будто слюна обильная, либо пена от бешенства прорвавшегося. Хищное, звериное что-то отшатнуло от него Екатерину; пытаясь взять себя в руки, она взмолилась:
– Не говори так, родной! Не смей! – Ещё надеялась высмотреть в нём былое очарование, духовность, шарм – то есть, качества, кои примагнитили буквально душу молодой женщины к нему, офицеру дворянского сословия, послужили главной причиной для их последующих встреч, свиданий романтических, красивых, когда сердечком целомудренным постигала чужие-не чужие потёмки и отдавала отчёт: если они соединят свои судьбы, многие отвернутся от неё, от него, проклянут обоих, да, да, но ведь он – не как все, он хороший, несчастный, она до зарезу ему нужна, нужна ему и значит, они должны быть вместе!.. Былое очарование!.. Былая небыль! Екатерина, не мигая, уставилась на мужа – испуг, отчаянье, надежда тающая… – что ещё, выразимое и невыразимое словами, сплелось во взоре божественном и обжигающем? – Не говори так… Не надо, прошу, умоляю тебя! Мне жутко. – Зашептала быстро-быстро, почти скороговоркой – я ведь женщина, всего только женщина со своими тайнами, слабостями, неумением… Я не искала, но я ждала, верно, долго ждала… Но что такого они, мужики наши, бабы, народ наш! сделали тебе? Что?! Просто людям надоело жить по-скотски, под пятой! Не мучь понапрасну себя… и меня… Я полюбила тебя, не хочу терять. Но ведь я – частица моего народа. Такое же быдло, такая же баба…
– Что ты такое говоришь! Одумайся! Не нужно, Катька! Ка-ать!!!
– Да?
– Одумайся… – схватил её за голову, привлёк отчаянно, жарко к себе, зацеловывать стал, выцеловывать принялся согласие её!! – Всё же кругом рушится, на корню рушится, уже полетело в тартарары! Эти большевики, этот бунт в Питере, этот их вождь, Ульянов-Ленин, а ведь из благородных, притом, умнейшая голова! Господи-иисусе! А немчура – она же тараканьим галопом заняла всю Малороссию… Брестский мир, видите ли! Эти бюргеры, как турки или татары, ринутся дальше! И ведь немцы эти братаются с русскими, с нашими единокровниками! Грядёт кровосмешение! Ты понимаешь, о чём я? Все обрусятся и онеметчатся!! Православие загинет!! Потому здесь просто нельзя оставаться! В пламени всемирной революции мы сгорим заживо – особенно здесь. В первую очередь здесь!! Партия! Большевики! Какие-то комитеты, декреты! А народу нравится, этому верят, верят!! Люди помирают за новую, большевистскую, коммунистическую Россию с именем этого самого их лидера, вождя – Ленина! С верой детской в эту самую Советскую власть! Лучшие умы давно уже за границей! Россия погибнет, она почти погибла без преданнейших сынов и дочерей своих! Как же мне не мучиться-то, Катенька моя! Научи! Да ведь они меня расстрелять хотели за верность присяге! И я должен быть спокоен! Я едва из-под расстрела ушёл, просто тебе не рассказывал, чтобы душу твою прекрасную лишний раз не тревожить. А надо было бы! Ну, да ещё успеется! Господи!! Да вразуми же ты эту женщину!
– Тише, тише… Разбудишь всех!
Ладошкой прикрыла его рот, но губы, горячие, влажные, жадные, перешли на поцелуи, принялись лихорадочно зацеловывать мягкую кожицу кисти, тыльную сторону ладони, пальцы, каждый в отдельности и все разом… – зацеловывать горько, прощально… прощально уже!
– Целуй меня, люби, шепчи слова окаянные, родной! Вернись только, прежним стань, каким знала тебя всегда и за какого молилась истово Богу нашему! Не пугай меня больше, не мучай так…
– Какая ты…
Зарылся лицом в её волосы – власы, мятные, настоянные словно на весне хмельной, пакичаянно обцеловывать-обчмокивать всю продолжил – и янтарную белизну щёк, и – тело, молодое, упругое, податливое, счастливое, почти открытое и доступное под ночнушкой тонкой, принадлежащее каждым сантиметром только ему, пока ещё… пока ещё… ему… Он пропал, он забылся, онемел…
– Ты… прощаешься со мной?
Четыре жемчужинки блеснули в раскрытых створках уст нежнейших, из раковины-души наружу в несусветь горемычную выпали… в тишину, сгустившуюся внезапно, опустились мудро, четыре перла красноречивых…
– Не хочу!!! Ты – жизнь и смерть моя! Я ведь ничего о себе не рассказывал! О своём прошлом, о детстве, об одиночестве… о постоянном, вечном одиночестве! Не мог, стеснялся… Боялся, что выцедишь до дна душу мою, что стану не интересен, что разочаруешься во мне, таком, шарахнешься от такого… Господи, что же я наделал!! Боялся, что не смогу в глаза твои родименькие глядеть, если откроюсь до конца…
Внимательно, покойно улыбалась она – хотелось взять его на ручки, отнести в кроватку, где лежит Серёжа, уложить рядышком… – какая к лешему заграница! Спи, и пусть приснится тебе твой Париж, твоя Вена и эта, как её… Анталия… На самом дне глаз Катиных тихо мерцали два померанцевых лотоса в омуте влажном. Что могла сказать? Чем утешить? Пообещать что?
– …ничего больше не хочу и не могу понимать. Здесь я теперь сам не свой. Не переломлю себя, ненавижу голытьбу большевистскую, боюсь и ненавижу… А что до того, что сам себя теряю…
Он говорил, говорил, жестикулировал, обнимал её, чуть не плакал, но потом сразу же злился – на неустроенность свою, на весь белый свет… и не мог, хоть ты убей, не мог бесповоротно утонуть-раствориться в душе её, остаться там и не возвращаться, дабы не плыть безвольно по волнам зыбучим, тяжёлым, стальным к чужому берегу; он и взрыдывать потом начал, как-то неуклюже, «накручивая» себя, а после принимал деланно-отрешённый вид волевого, решительного, прошедшего разве что не медные трубы удальца, и подшучивал над её, Катеньки, страхами-домыслами, а она, страдалица, измочаленная всем этим драматизмом, прекрасно видела и понимала, что потеряла его, что он ей не принадлежит и, наверно, не принадлежал никогда, и что в эти самые мгновения удаляются друг от друга непоправимо-навсегда они – княжеского роду сынок, белый офицер, и простая крестьянка!
– …ничего больше не хочу и не могу понимать. Я теперь сам не свой – повторял заведённо он; ему нужны были эти, одни и те же, слова, фразы, чтобы не делать пауз, которые она могла бы заполнить отрицанием навязчивой идеи его эмигрировать в Европу «высокородную»… чтобы найти новые убедительные доводы, могущие поколебать жёнушку, склонить в пользу радикально принятого им решения, в коем находил единственно возможный для обоих выход… – Вот говорила как-то, мол, стерпится – слюбится! Не стерпится, не слюбится! Я же действительно не смогу жить среди этих людей! Ты – исключение. Но ты – неповторима!! Таких днём с огнём не сыскать!! Я не хочу расставаться с тобой! Я просто не смогу без тебя…
Иногда он прозревал: помилуйте, что это творится, что? Что?! Что, наконец, происходит?? Я же ведь действительно, действительно и дня без них не проживу – без этой женщины и её братишек-сестрёнок, без тихо посапывающего малыша, такого беспомощного и безмятежного, нуждающегося в опоре, в защите мужской сегодня, сейчас! Я погибну, погибну в одночасье, сразу… Но потом его снова несло, и он обещал вернуться, как только обустроится на новом месте, чтобы забрать, увезти их всех… обещал писать часто-часто, если не каждый день, то раз в два-три дня, на худой конец – раз в неделю, непременно… клялся вечно помнить деревеньку Малыклу, где однажды повстречал судьбу-Катюшу и где провёл столько незабываемых часов, минут… Он напоминал вообще-то самого обычного человека, собирающегося в длительную командировку – напутствовал остающуюся дома половиночку свою, давал советы, о чём-то договаривался и при этом уходил, уходил, уходил… От прямого взгляда уходил в дебри слов, растерянно-невпопад им роняемых, от самих этих слов уходил, хватая её, Катю, прижимал всю к груди, вжимался сам в неё, совсем как маленький, чтобы забыться, не маяться чтобы от несусветной лжи собственной – и тут же опять уходил, уходил от прикосновений этих бурных, робких, страстных… и так по кругу, по немыслимому замкнутому кругу… Боже!..
Уходил, уходил.
Уходил.
Вослед неизбежному, за временем, набегающим безостановочно и бесповоротно, навстречу завтрашней участи, доле… Уходил от того, от чего уйти было нельзя – от судьбы.
Куда?
Зачем?
…«Помечтаю!» Вот какие «мечты» заставили Екатерину Дмитриевну долго, не отрываясь, смотреть в окошко, в ночную майскую грозу вместо тихой звёздности и слушать барабанные раскаты грома, что оглоушили земное королевство людей… Казалось самой: взмоет, полетит вдогонку за поездом, увозившем в зарубежье кудатошнее супруга её, ангелом-хранителем всевидящим окликнет… – увы, увы, не сорвётся с места насиженного, не упорхнёт… Будет стыть, мысленно простирая руки, видеть и не видеть молнии зубастые, слышать и не слышать рокоты голкие, словно чудовищные звяки? звоны? срываемые дланью роковою с гигантских небесных колоколов…
И примерно в эти же самые минуточки, сидя в отдельном, уютном купе, тускло глядя в расшторенное окно, в котором уносились-уплывали чужедали родные – а может, сторонние… чужинные, да-да, чужинные, ибо за пасторальностью их – полевинами, пожнями, промежками, вставали хмурые, оскаленные образы взбунтовавшихся полудиких мужланов, кухарок, прочей голытьбы… глядя тускло и пристально, однако не видя там ничегошеньки кроме сырого мрака, помимо ошмётков, теней, контуров и каких-то призрачных, угадываемых едва нагромождений… он с потрясающей, доселе в нём спавшей чёткостью кадр ЗА кадром, день ЗА днём пережил былое: детство, когда барчуком ни горя, ни удержу в желаниях своих не знал, но чувствовал одинокость, ущемлённость странную, смутную; годы юношеские, полные увлечений, приключений, но без друзей настоящих; военную пору – пору возмужания, становления духовного с налётом романтики, иной раз даже… (о! но ведь было, было сие – несколько сеансов спиритизма в петербургском салоне мадам… ах, запамятовал имя… сюда приходил сам Дэвид Юм, шотландский кудесник, медиум) вот-вот, с налётом даже мистики – мистики и бестолковщины немалой, что там ни говори… Прошлое навалилось на плечи, потом переползло ниже – на грудь, скользнуло к сердцу, ближе, вплотную подступило ни с того ни с сего! Он вышел в коридорчик, отыскал взглядом укромный уголок, подальше от влюблённой парочки, что отправилась, судя по всему, в свадебное путешествие куда-нибудь в Тоскану, примостился на откидном сиденьице… Воркование молодожёнов; их волнующие позы, в месте другом, более многолюдном, могущие показаться довольно нескромными, откровенными; их взгляды, косо бросаемые на него, появившегося здесь так некстати, и вместе с тем радостно-лучезарные – не взгляды, а взоры милующихся; иное что… – мысли Бекетова по-прежнему заняты были совершенно другим, третьим ли, пятым-десятым… Воспоминаниями! Только воспоминаниями! Почему? – не знал. Можно было, конечно, найти офицеров, также навсегда покидающих Россию, разговориться с ними, утопить в балагане дорожном, безудержном память нерастраченную… Только что нового могли те сообщить?
Присутствие постороннего человека вскоре окончательно смутило юных счастливчиков – ушли в купе своё, оставив Павла Георгиевича одиноко сидящим в узеньком коридорчике. Под напором теснивших его чувств он тоже поднялся, нашёл, где и положено, проводника, приказал чаю, направился к себе. Обессиленно рухнул буквально на непривычно узкий лежак с тонким зеленоватым матрасиком… Сейчас, в нарастающем оцепенении одиночества, дожидаясь заказанного, расстегнул нервически несколько верхних пуговиц мундира… Ему не хватало воздуха.
Заметно стемнело. Вдоль линии горизонта стремглав летела параллельно поезду густая, рваная и единоцельная сразу тень. В звенящей небовыси, высоченной и куполообразной, ледаще, скупо проискрились первые звёзды. Всё уже и уже становилась тёмно-багровая полоска приокоёмная и безысходнее, страшнее наливался мраком мир. Воображение ли, пресловутое шестое чувство подсказали Павлу Георгиевичу, что в краях покинутых бушует в минуты эти самые нешуточная гроза и блики, сполохи её доносятся сюда; надо хорошо захотеть и я увижу их, обязательно увижу… Ещё же почудилось Бекетову: в купе, напротив и рядом, Катюша с ребёнком, другие дети… (подсознательно он заказал целое купе!), гоняют чаи с пирожными сладкими, напечёнными в дорогу, смеются, младшенькие залезают на верхнюю полку, предназначенную для ручной клади, оттуда по-обезьяньи свешиваются… Катюша в ужасе, заламывает руки… хватает непослушников, стаскивает по одному вниз… следуют новые взрывы смеха… а колёса стучат, стучат – сердечкам под стать… сердечкам всех, находящихся в купе этом… или нет, под стать только его, Бекетова, сердцу… и вовсе не сердцу… уж больно какой-то звук… деревянный… не поймёшь!
– Разрешите-с?!
– Что?
– Ваш чай, заказывали-с?
Мельком взглянув на проводника, Павел Георгиевич кивком разрешил тому поставить на столик поднос с чашечкой чаю, вторым таким же кивком поблагодарил и отпустил человека. «Скорее бы ты ушёл».
Опять один в крохотном пространстве, куда сам себя загнал, один в пристанище холодном сбежавшей души, откуда она сейчас рвётся-не вырвется под странное постукивание путейное… Один на один с несуществующими призраками, образами, формами… с…
– Павел!!!
Вздрогнул. Сердце, ау! Толчками в груди напомнило: в тебе, в тебе я, вотушки, слышишь? Пока ещё стучу, креплюсь, но, чую, недолго осталось… нам…
Потинки проступили, замерли, не в силах стечь… Горячо, душно – и одиноко. За оконцем – ночь.
«Ангел-хранитель, опять?»
Хотелось движений – протянуть руку за чаем, остывающим и уже наверняка остывшим, глотнуть… взбодриться…
Не мог. Улыбка запоздалого прозрения обозначилась на губах – осенний лепесточек души… Всё кругом стало до конца ясно и понятно. Жизнь – это ведь так просто, так очевидно. Ты ходишь, разговариваешь, смеёшься… бросаешь снежки, кормишь голубей с ладони, подаёшь руку даме, строго «сурьёзничаешь» с пацанвой… куда проще?
И – окунаешься в мамины глаза, в её руки тёплые, в звуки голоса незабытого… И – голова твоя покоится на коленях возлюбленной, мягких, тёплых, приимных, а подол платья или юбки прохладен, словно чистая наволочка…
И —…
…и невыносимая волна приятности, лёгкости обдала Павла Георгиевича, разлилась тут же, в купе, превратила окружающее в бесконечное лебединое озеро, сплошь усиянное небесно-голубыми васильками и кувшинками, кувшинками, кувшинками…
…и важно, печально скользит к нему пава белоснежная, раскрывает крылья – а это и не крылья, а тонко-обледенев-шие да в инее перламутровом веточки ивушкины, замёрзли слёзки-то, вот и выглядит так – стеклянно, прозрачно, светло…
…и ему уютно, долгочаянно под пушистостью вербной… «Умеют ли снежные павлины плавать?»
…и кто-то, а может, что-то обнимает его, ласково утешает, заглядывает в самые зрачки Павла Георгиевича, в которых изумление вечное сменяется знанием сакральным, выстраданным… О, теперь он постиг всё, абсолютно всё. Всё…
…но только никому и никогда не поведает про то.
…Над далёкой же деревенькой волжской, по-над катюшиной избой, зажёгся в пастели лиловой, возникшей после грозовой страсти зевсовой, крохотный леденец, померцал было, да стаял-изник, будто пёс гончий языком слизнул. Только и осталось от леденца того приторного – нагретое чуточку место посреди высокого холода и глухой пустоты. И только она, Катюша, поняла сокровенный знак сей, а уразумев, устремила лик свой к иконочке в красном углу, туда шагнула, не чуя ноженек, последним усилием волевым заставила себя на колени не рухнуть, дабы, значит, не перепугались дети, ещё от «буря мглою небо кроет…» не отошедшие, чтобы не упасть в прострации, а степенно, медленно опуститься на пол, вкладывая всю боль вдовства, на неё обрушившегося, свалившегося в миг исчезновения звёздочки Павлушиной, в молитвенные слова; крестилась истово, отчаянно-одержимо, облегчения пытала у Боженьки – но становилось горше, горше… Боялась: в истерику впадёт, сойдёт с ума – где слёзы? где?! Хотя бы одна проступила-пролилась!..
Серёжа Бородин тихо, умиротворённо посапывал в зыбке, улыбаясь неведомо чему. Стихии, улегшиеся не так давно, снова собирались на шабаш свой. Когда опять разразятся грозой огневою?
…Подрастал Серенький, вытягивались братики-сестрички Екатерины Дмитриевны, крепче в кости становились, бойчее-звонче в играх и более ответственными, когда касалось общих дел, решаемых на семейных советах традиционных, а устраивала их мадонна наша регулярно, чтобы с малолетства домочадцам хозяйственную жилку, рачительность привить, уму-разуму научить каждого. Сказать следует: обстановка, внутренний климат были в семье ровные, доброжелательные. Обязанности бытовые распределила Катерина грамотно, справедливо: каждый вносил вклад в благое – сбережение и приращение крупицами посильными домашнего очага. Словом, ничто не предвещало беды. Деньги покойного (сердце не обманешь!] супруга, драгоценности, которые он ей оставил, честно сдала государству, кому следовало, потому жили скромнее некуда, зато со спокойной совестью, ну, и не впроголодь: домишечко, слава Богу, новый, Павлом Георгиевичем загодя для «многодетства» поставленный, плюс подворье с огородишком, живностью некоторой… – худо-бедно, а продержаться можно было. Другим не в тягость, сами соседям пару раз помогли…
А люди вокруг – по большей части простые, от сохи. Работяги, короче. Никифор и Пульхерия Малковы с доцей Акулинкой; Тихон да Софья Демидовы – не дал Бог дитяти – тошно, пусто в хате; Борис и Агата Роговые – у этих, наоборот, приплоду на три семейства набежит, и как выкручиваются, чем кормятся? Впрочем, Волга выручала – рыбы разной завались было: лови – не хочу! Леса здешние, зверем-птицей богатые, ягодами-травами целебными-пита-тельными, опять же подспорьем были. Та же крапива – чем не фрукт! Борщец не слабец из неё по весне получался, зелёного-щавельного не хуже!
Ничто не предвещало беды… Но – грянула… Нагрянула! И – закружило-понесло-разбросало людей по свету-не свету, до того не мил стал. Вона как.
Раскулачили… Стране, люду работному нужно было кушать, а еды не хватало. На голодный желудок, известное дело, обороноспособность не поднимешь, социализм от посягательств снаружи не защитишь! У Екатерины Дмитриевны отняли практически всё – что можно и нельзя было, а саму – в тьмутаракань, на выселки, за становой хребет российский, за Урал-батюшку, да со всем семейством в коротеньких штанишках… Ещё в суровом 1918-м велено было начать широкую конфискацию имущества у зажиточных слоёв крестьянского населения. А в России не особенно любят церемониться энтузиасты и ревностные исполнители указаний свыше, тем более – из самого Кремля. Под одну гребёнку мели, метут… Словом, перестаралась не родная Советская власть – перестарались отдельные представители чиновничье-бюрократической «епархии»(!), лишённые и совести, и чувства меры, огульно подходящие к решению судьбоносных для каждого гражданина вопросов. Сигнал ли завистников досужих на вдовушку скромную поступил: мол, замужем за богатеем-дворянином эмигрировавшим находилась, роскошь заимела-нажила (припрятанную…), потому сейчас тише воды и ниже травы (что муж помер, почитай, на границе самой, так ведь смерти не прикажешь опогодить, не помер бы в поезде, загнулся бы в своём Париже, крыса белогвардейская!), а если не сигнал, то так и есть – подошли к решению участи её без всякого разбору, сравнили бедолашную с настоящими хапугами и выжигами. Эка невидаль – ошибочка! Тут бабка надвое сказала ещё: эта Бекетова-
Азадовская, по всему видать, того поля ягодка\ Ничё, девонька, вот раскулачим, сразу у нас запоёшь! Зато другие вздохнут повольготнее – глядишь, на пару паек богаче станут в голодный год!
Страшным, серым с изволоком утром потащила пегая саврасушка телегу со всеми ними, Азадовскими-Бородиным, которому, Серёже, уточнить-сказать, шестой годик пошёл, с пожитками их скудными в незнамо куда. След в след – другие возки с «кулаками» и «кулачихами» и при конвое небольшом, впрямь по этапу. Конечно, в основной массе здесь действительно были пройдохи, сумевшие обогатиться в своё время и после надёжно припрятать от родной державы излишки немалые, но, чего греха таить, невинные также пострадали. Ор, плач, гомон… – а толку? Бросался из стороны в сторону ветер, словно пёс на привязи, подвывал сердцам кулацким с кулачок, заходящимся, одни – во злобе-ненависти, иные – в безнадёге отчаянной, и мутно в неогляди стылой тлела Волга – рассвет занимался недобрый, чужой рассвет и ложился грудью кровавой на речную излуку, не иначе как топиться вздумал с горя безутешного. Глаза б не смотрели! Вот уж поистине рад не будешь, допечёт ежели.
– Прощевайте, люди добрыи-и!
– Молитеся за нас, не поминайте лихом так что…
– Кланяйтесь, кланяйтесь! Простите и вы нас, коль смогете!
– Даст Бог, свидимся когда!
– Истина от земли возсия, и правда с небесе приниче! Господь терпел и нам велел…
– Так Господь и жидов манной кормил!
– Ох, ох, люди, и не соромно вам? Тутоти такое, вы ж… Языки пораспускали! Святоши! Хреста на вас нетути!
– Да ладно ужо!..
– Ладит, да не дудит!
Голоса, голоса, голоса… И только Екатерина Дмитриевна, среди детушек сидючи, их всех обнимая, грея, молчала – лицом твёрдая, очами свежа, духом стойка. Молчала – и, кажется, улыбалась даже. Красивая, возвышенная.
…Скрип-поскрип колёса, скрип-поскрип… ползут мимо околицы нескончаемой призраки: вестовые столбы. Широка ты и хожена-нехожена да неухоженна сторонушка родимая. Всего вдосталь, а счастья – кот наплакал. Скрип-поскрип колёса… Скрип-поскрип…
На вторые сутки пути, к вечеру впритык, большой привал сделали. Костры разложили, кашеварить начали: не до жиру – быть бы живу. Неподалече от Екатерины Дмитриевны Малковы расположились. Сам, Никифор Никанорыч, с передка слезая, крякнул:
– И здеся соседи!
– Да уж, – нехотя отозвалась Екатерина.
Пауза. Потом:
– Попомнють они мине лихо это, да-а!
– Мстить будешь никак? – супружницы, Пульхерии Семёновны, голосок завёлся – с пол-оборота! – так попервой, живчик ты мой разлюбый, не загнися с кормёжки такой. До Сибири доберися, или куда нас забросят! Ну. А хто нас тама ждёт-не дождётцы и кому мы тама нужны? Худо, бабоньки, ой-ёй-ёй! Под Советами ентими, как при царе. И пошто большевички на нас разгневалися, пошто в немилость ихнюю попали почём зря?!
– Хм, сравнила, Пулька! Да при царском режиме-то мы хотя бы на месте насиженном куковали, а тут…
– P-разговоры!! Н-ну я вас, не замолкните если! Пропащий класс вы!
– Сынок, ты чевой енто? Аль уж и поговорить, душеньку отвесть не можно? Да видь чать поди не уголовники мы какее, не убивцы христопродажные – простые люди будем. Вона, вишь, комуй-то хозяйство наше не приглянулося, поперёк горла встало, вот в кулаки нас и записали. А какее мы, скажи на милость, есть кулаки? Всю жисть горбатились, не покладая рук, чтобы на старости лет чуток хозяйством обзавестися – и нате ну ты: с гнёздышек родименьких взашей гонють! И куда – не иначе в Сибирь! Ироды!! Душеловы!! Как липок обобрали – и выкинули!
– А ничево, гражданочка. Сказано-велено, чтоб про политику ни слова! Вот и ни гу-гу значит. Ужинайте покуда, что есть, да и отбивайтесь по-хорошему. С ранья дале тронем. Путь не ближний, верно. Приказы же сполнять нужно, я так понимаю.
– Не перечь, квоха, вишь, с наганом оне и солдатики под боком. Как вгонит в зад твой граммулечки, так сразу и запростолюдишься. Понимать нужно. Ты таперича кто? Гражданочка! Вот и будь-не баламуть!
– Ой, ой, ой! Живчик! Чёй тя понесло-т? Не иначе как с голодухи. А я, люди добрые, так скажу: он хоча и с наганом да над солдатушками поставлен за командира, так видь не волчица, чать поди, ево народила-то, а така ж бабонька русская. Потому долон понять больку нашу, отчаянье!
– Вы бы всё-таки роток на замочек, мамаша! Недосуг мне трескотню вашу слухать. Опять же, гляньте на соседочку вашу – на мадамочку с ребятёнками. Сидит себе, помалкивает. Потому сознательная! Пометочку на сей счёт сделаю, у меня ведь при себе списочек имеется, напротив каждой фамилии дорожные примечания поставлю для порядка, кто как себя в дороге проявил, какие допускал высказывания. Вы бы лучше с неё, с красавицы этой писаной, пример брали! А то у вас, погляжу, язык и вовсе без костей. Нехорошо! Людей баламутите!


