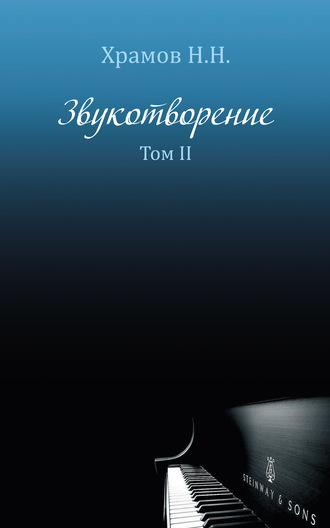
Полная версия
Звукотворение. Роман-мечта. Том 2
– Рус! Рус! Иван! Не стреляйт! Комрад – друг, фройнд-шафт… ка-ра-шо!! Мир! Мир!..
– Х-хы! В-во Ганс чешет! – обернулся к столпившимся русским солдатам, которые, кстати сказать, хитро обложили офицерика лубяного, приунывшего, дабы в озлобленности и лжепатриотизме тот не пальнул в Буяна, некто долговязый, белобрысый… потом, сплюнув радостно, хмылко, но с озаботцей, – кабы чесалку не потерял!
– Наш Буян не лыком шит! Прёт себе… – отозвался басок из толпы.
Что ж, верно: пёр напропалую и в неудержимости залихватской сквозило счастливое, детское даже нетерпение – оно прорвалось наружу в смачном матерке сложной, видать, чисто буяновской закваски:
– Растудыть твою Голгофу, христабогадурумать!! Да! Да! Найн война, найн!!! Мир!! Мир!! Иду-у-у!!!
Показал опять руки, для чего остановился, повертел-по-крутил кистями волосатыми на манер клоунов перед публикой: чисто, мол, гранаты никакой не тащу и за пазухой зла-умысла нетути. Опять выкрикивать стал:
– Едрёна покровка! Сучка-тучка! Эх, исусики!!
Немец, опередивший товарищей своих, споткнулся обо что-то, чуть не свалился под ржач обоюдный, но равновесие удержал, рванулся, обошёл-таки сослуживцев, тех, кто успел ему показать спину, и, растопырив объятия, через секунду-другую первым оказался перед Буяном… но застыл, не зная, что дальше-то делать. Буян, не будь плох, шуткуя, двинул несильно фрица по плечу, залопотал жёстко, ломано, нечленораздельно, вроде «собиралися грибы на войну итить!..» При этом пару раз снова хлопнул «нема» по чему попало… А ещё через несколько минут десятки солдат с обеих сторон уже стеснились в низинке хлюпкой: весна, шум-гам, говор твердоязычный, грубоватый – и родимый, посконный с загогулинкой, с матерщинкой и с чувством-с, чувствием особенным – всё тут смешалось, как в доме у Облонских!
– Братуги, скока ж можно, разъелды тя в хрящ, терпеть? Домой! Домой! Мировую рабочую революцию бузить! А боровов и наших, и ваших – нынче же, щас же забить! Поизмывалися в доску, но будя катам! Будя!!
…Сцену эту лицезрел со стороны помимо упомянутой выше мелкой сошки и майор Бекетов. Настолько быстротечно, сумбурно всё вышло, что он опешил даже, чего, правды ради сказать, за ним досель не наблюдалось. Замешательство его, однако, перешло вскоре в активность наибурнейшую: выхватил наган, в толчею живую разрядил и лихорадочно, и сознательно вполне, а вовсе не импульсивно, целясь именно в инициаторов, зачинателей беспорядка – в Буяна!
– Х-хадина! Ну ж и х-хадина яка! Хлопци, зараз я з нёго бишбармак робыты буду!
Со словами этими к Бекетову стоеросовый, косая сажень в плечах, детина шаганула, потирая «руки о брюки» и плюя беспрерывно на ладонищи будто из каменюки выдолбленные.
– Стоять, сволочь!
Щёлкнул разряженно-пусто наган, один на один с гневом праведным оказался Павел Георгиевич. Гримаса ненависти, злобы вместо лица… в глазах – копыта огненные: наотмашь палом разят… сверк! Сверк! Не подходи, быдль мужичишская! Пламена яри клокочущей окатят-ожгут враз. Впрямь – гидра…
Дылда одначе спокойненько-упрямо на Бекетова надвигался и, казалось, упивался даже лютостью последнего, сжимая и разжимая огромные пальцы, словно разогревая их… шаловливо, весь в предвкушении того, как сотворит крошево в отместку – тятянька покойный – киргиз, мать с Малороссии… Что ему? Тем временем Бекетова ещё несколько офицериков, таких же нафабренно-бледных от ярости и грустных от бессилия, окружили – плечом к плечу встали… белая кость в горле!
– Вукол! Отставить!!! – властный, бич бичом, хлестанул тишину расступившуюся приказ.
– Чого???
– Мы не убийцы. Мразь эту честь по чести судить будем за убийство товарища нашего Буяна – с головы убор долой… и скорбно, грозно:
– Именем революционного народа России, пролетарским судом судить будем!!
– ЧОГО-О-О??? Да ты, Пэтрэ, нияк з глузду зъихав!!
– Как член действующего подпольного большевистского комитета – действующего, слышите все меня?! – приказываю: стой. Ни шагу больше.
Из сгрудившихся, подошедших сюда, к застреленному Буяну, солдат, в том числе и германских, вышел, обозначив себя, смугловатый, среднего роста боец, перед которым почтительно расступились присутствующие. То и был Пётр Семеняка, сам.
– Взять их. – На Бекетова иже с ним указал. Голос, жесты свидетельствовали о недюжинной воле, привычке и умении повелевать людьми в самых исключительных обстоятельствах.
– Р-руки, рруки!! – Лицо майора покрылось зеленью, на маску брезгливого отвращения походить личище стало. Отчаянно сопротивляясь, хватку, тиски железные вчерашних рабочих и крестьян, коих царский режим «под ружжо» поставили, одолеть, перемочь, понятное дело, ни он, ни однопогонники его не в силах были. Ужом извивался Бекетов, слюной-хрипом из порток аж лез…
– Ррруки немытые… уберрите, прочь, пррочь, шваль! Терребень!!!
– Ничё, ничё, вашродь! Потерпите ужо! Так-так-так-с… И вы, господа хорошие, потерпите! Не долго осталося!
Между тем и Вукол к группке этой, что схватила-обе-зоружила Бекетова, других, чином по-младше, унтериков, враскачку-враскорячку вплотную просунулся – булыга булыгой, тень на плетень, не говори что нёповороть, увалень, а дело-т своё туго помнит-знает. И как ни в чём не бывало:
– Ну-ксь, хлопци, гэть звидси! Я його трохы помаю!
– Вукол! Отставить!
– Ты, Пэтрусь, у свому комитэти командуй. Нэ забороняй но!!
– Ещё шаг, Вукол, под арест пойдёшь.
– Хто пидэ? Я?! А цэе нэ бачыв?
Лениво-решительно шаг сделал, из кулачища кукиш слепил.
– Ребята, держите его. Нам без дисциплины никак нельзя. Без организованности и порядка во всём.
Ни тени смущения в голосе. Действительно прирождённым, знающим командиром был Пётр Семеняка. Солдаты обступили полукружьем Вукола, легко, играючи завалили медведя. Навзничь. Тот распластанно-расслабленно лыбился вовсю. Потом зареготал: «Ой, нэ можу! Щекотно як!»
Вскочил на ноги, будто и не «трымалы» его несколько пар натруженных рук – рук бывших рабочих и крестьян, повёл плечиком нехотя и вмиг обок себя разбросал своих же, «товарышив», лапнёй в Бекетова вклещился – одной левой!
– Зараз помрэш, бисова дитына.
Просто, тихо сказал. Кто-то из немчуры прошпрехал подобострастно, уважительно: «Гут, гут, Иван!»…
Семеняка ошпаренно метнулся к Вуколу, за шкирку робную схватил-дотянулся:
– Одумайся, мать твою, Вукол! Нельзя нам его вот так – с плеча – в адово! Ну, понимаешь, разумеешь? Мы показательный суд организуем, по первое число заплатит, раз никто его до сих пор в спину не того… Потому брось ваньку валять! Какой такой пример революционной дисциплины подаёшь? Ты же не мне, Семеняке, сопротивляешься, а всей будущей нашей пролетарской власти, которая обязательно должна быть повсеместно справедливой. Уяснил?
– Видстань, ну, жэ, Пэтрэ! Дай мэни, будь ласка, бишбармак з цёго фрукта зробыты. Стилькы зачекав! Я тэбэ нэ по киргизски прошу. Макулдашышты[1]? Жакши[2]? У спину стрэляты – фуй! Нэ по мэнэ цэ! Да й на хрэна йому твий суд?
– Ты так, так, Вукол? Я последний раз к тебе вполне официально обращаюсь: не твори вакханалию, самосуд. Хватит нам анархических настроений! Отпусти его немедленно.
– Та ни в якому рази!
– Ну, тогда…
Внезапно над ложбинкой, где братались вчерашние враги и где сыр-бор этот разгорался вокруг фигуры Бекетова, с рёвом-треском низко очень пролетел, крылом качнув, аэроплан, можно было и пилота разглядеть и второго, сидящего позади и размахивающего руками… Аэроплан заглушил последние слова Семеняки, показалось даже, нет ли – обдал тугой волной чада выхлопного… Понемногу затихать стало: нарушитель спокойствия относительного скрылся за холмиком на горизонте – дальше, вдоль линии фронта, тарахтеть продолжил… Здесь же, пёстро кружась, гоняясь друг за дружкой, то серебристо вспыхивая и мерцая в лучах дневных, то чуть мутнея изнанкой белёсой, зароились тысячи листовок; ветер подхватил их, встрепенул, как след – походить начали на беспорядочную огромную стаю… опускались неровно, хаотично и, однако, будто целясь в руки, ловящие их… И вот уже Семеняка ловко, на лету поймал один из небольших прямоугольничков бумажных с напечатанным на нём большими буквами текстом и громко читать стал, не забывая при том поглядывать на завороженного происшествием новым Вукола:
– «Товарищи солдаты! Петроградский совет рабочих, крестьянских и солдатских депутатов призывает вас немедленно прекратить военные действия! Начинайте мирные переговоры с врагом на предмет полного и обоюдного разоружения и неподчинения офицерам. Арестовывайте наиболее ретивых командиров-господ, передавайте их народному революционному суду. Оружие вам ещё пригодится для будущих кровопролитных битв за свою свободу и независимость от ненавистных эксплуататоров и поработителей всех рангов и мастей. Нынешняя война только на руку министрам-капиталистам, а также засевшей в городах крупной буржуазии. Возвращайтесь домой, к жёнам, к детям, к земле, которую надо вспахать, засеять, чтобы не остаться в следующем году без хлеба, чтобы не начался повсеместный голодомор. Не верьте господам-офицерам! В подавляющем большинстве своём, они – прихвостни капитала! Долой войну! Долой царское правительство! Да здравствует единственно справедливая социалистическая революция, которая одна принесёт долгожданное избавление многострадальному российскому народу от гнёта власть предержащих, даст каждому гражданину независимо от его национального происхождения, от того, насколько он беден и образован, верует или не верует в Бога, возможность жить достойной человеческой жизнью. Такова воля партии, товарищи, а во главе партии стоит Владимир Ильич Ленин. Петроградский большевистский комитет».
Несколько вечных секунд томила оглушительная тишина – её не нарушали эмоционально, внешне солидарные с прочитанным, хотя и ни бельмеса не понявшие немецкие солдаты, которые давно уже перемешались с русскими и, раскуривая наши самокрутки, перематывая такие же портянки, как у вновь приобретённых товарищей, старались сейчас вникнуть в смысл громко, с торжественной суровостью произносимых Семенякой слов листовки. Зачитав текст, Пётр Батькович прокашлялся, затем крикнул, глядя на Вукола:
– Всем всё ясно, товарищи? Да здравствует товарищ Ленин!!! Ленину – ура!!! Ура, товарищи!!!
Конечно, фрицы мало что поняли из услышанного от Се-меняки, но слово ЛЕНИН возымело и на них должное действие – заволновались, одни, на манер русских, подбрасывать вверх то ли картузы, то ли ещё что, полуформенное, потрёпанное, стали, другие аккуратно складывали вчетверо листовки разбросанные – на память, видно, а один, очень пожилой, с рыхлым, потным лицом внезапно прослезился, божиться начал по-особенному, по-своему…
– Чуешь, Пэтро? Чуешь?! А про мировую революцию нэ-мае тута? Ни?! Чи я прослухав?
Протёр ручищами уши лопухообразные, выжидающе уставился на Семеняку.
– Про мировую ничего пока не говорится, опогодь так что! Зато вот про революционный народный суд над офицерами-господами чёрным по белому прописано. А подразумевается здесь также и высочайшая пролетарская дисциплина.
К ней призывает нас товарищ Владимир Ильич Ленин. ЛЕНИН!!! Понял? А ты его – кивнул на Бекетова – придушить своими оглоблями вздумал! Нетути, не дано нам с тобой такого права, чтобы сразу же, без суда и следствия, на тот свет отправлять! За беззакония свои этот субчик ответ держать будет перед всеми нами. Или тебе, Вукол, закон не писан и воля партии, наказ товарища Ленина – пустой звук? А?!
– Да-а… – от волнения-напряга спёртых Вукол неожиданно для самого себя на русскую речь перешёл – Ленин прав. – Потом по-свойски на собственный лад загудел – А то якже? Тут никуды нэ попрэшь!!
Чуть разобиженно, недоумевая и вместе с тем обласканно-просветлённо в сторону отошёл, зашмыгал, в носу принялся ковырять… Бекетов нагло и спокойно, не мигая, уставился перед собой. Ледяная, недобрая хмылка стронула плотно сжатые тонкие губы; глаза, выкачанные, бессветные совершенно, струили мертвенную бледность – чужое, чуждое нечто, равнодушное и нерусское донельзя… причём, они, глаза, так и не отрывались от выбранной какой-то отметинки, точечки, уходили в неё, сквозь неё. Уходил он сам, будто переливался в иной мир, оставляя в этом, в бренном, на потеху быдлу красному только плоть.
События сии, годы спустя, вспоминал он, уезжая из России ненайденной (от расстрела, ибо вёл себя на суде вызывающе, без тени намёка на покаяние, удалось уйти – в жизни всякое случается, но то другой сказ…) Жену свою, Катеньку, Екатерину, бишь, Дмитриевну, уехать не уговорил: осталась в Малыкле с братишками-сестрёнками подрастающими да с Серёжей Бородиным на руках. Сказать по правде, отношение Павла Георгиевича к супруге заметно прохладнее стало и веских причин тому – из разряда психологических – искать недосуг. Фамилию ребёнку героиня наша оставила-сохранила настоящего отца, на фронте без вести загинувшего, в книгу метрическую отчество Бекетова дописала, пометила, что крещённый сынишка-то… вот, собственно, и вся недолга.
…Шли годы. Тогда, века двадцатого в начале, жили одни – надеждами и верой возвышенной, чистой, другие – в похоти, в ненависти, во дерьме богатеньком. Есть чёрное и белое, точнее – светлое и тёмное. Есть огонь и вода, жизнь и смерть! Иное – третье – это: серость, шипение, прозябание полумёртвое-полуживое, кому как. Тоже вроде бы данность, но, скажите, кто позарится на не золотую серединку эту, востребует кто? Обыватель, трус, неполноценный человек? Можно, конечно, спорить, пытаться последнее слово за собой оставить, весь блеск «ума заднего» напоказ выставляя. Однако, по большому счёту, критиканство, ёрничанье, анафемы и епитимии, попами накладываемые за инакомыслие, ослушание, семигрешие – ерунда на постном масле. Даже истины относительные в расчёт не идут, поскольку относительно всё. Истины устоят под напором поползновений заказных ли, в силу мотивов инерционных, прочих каких… И гласят истины: хотя всё кругом относительно, однако суть единство и борьба гармонии и хаоса. Суть стремление к совершенству через распад и слияние, воссоединение! Живое, непрекращающееся движение по спирали, круг за кругом – к эталонам, к идеалу, к абсолюту… к свободе нового выбора по… заложенной необходимости оного, в виду самодостаточности, наконец. Середина, этакое «лезвие бритвы» – лишь условности, иллюзия, самообман и нужны они только для хрестоматийных образчиков, примеров и проч., и проч., и проч. Есть НЕЧТО и НИЧТО, как победа или поражение. Ничья, баланс – для слепцов. Кто-то в выигрыше и здесь, какой-то незримый знак витает всегда. Несомненно. Не знак – перст указующий! Конечно, сентенции мои чужды и далеки той молодайке российской, которая, на цепь посаженная, молочком из грудей своих барских щенят породистых выкармливает… Чужды и молотобойцу, и КАМЕНЯРУ!! Но духом своим, ненавистью и любовью солидарны они со мной: есть добро и зло. И если «кормилица» разнесчастная не задушит за глотку щенка господского, то не потому, что боится наказания розгами, не оттого, что смирилась, выбрала «золотую серединку», приспособилась-присобачилась… – о, нет! Просто высшая суть материнства подсказывает ей: она, потерявшая собственное дитя, даёт всё ту же ЖИЗНЬ. Она НЕ даёт ЖИЗНИ умереть. Страшный, кощунственный подвиг поневоле!
К чему раздумья такие? Ведь бедняжечка-то наверняка далека от них. Ей откровенно тошно, гадко… И всё же со дна наитемнейшего, позатайного души её встают в рост немые, вековечные истины: живому жить.
…Бился ветр о ставни-двери, аж околенки звенели. Хлестал-наяривал дождище, вечер скрадывал тени, порывающиеся сорваться с места, убежать от сквозных алых струек огня на западе. Стихало вдруг – и не по себе, жутковато становилось, не знаешь, деться куда. Уж лучше бы свирепствовала гроза молодая, неслись космы распущенные по беззвёздности горней, аки дыма клочья… уж лучше бы совало головушку буйную в застень чёрно-рыжую солнышко, что яблочком дозрелым по тарелочке всё катится и катится… скатилось почти, чем так: нудно, монотонно-пусто, внепроглядь. Тревожно от застывшей суетности мирской, нашедшей странное отражение наверху, посреди булыжных туч-куч… тревожно и гулко, нестерпимо в груди! Холодочек жуткости однорезным ножичком достаёт. И – вняло-таки, освободилось само по себе нечто – нечто там… Расхлобысталось, вылило-смыло… до корней волос, до муравушки кажинной проняло землицу… чуть ли не взвозы скрипучие снесло – такого нашествия мая-мамая Екатерина Дмитриевна, сколько себя помнила, не знавала: взбеленилося-раскурочилось всё кругом и потому волнительно, радостно, чуть нойко в груди… оттого – дрожко, да с горчинкой не немножко!.. Братишки-сестрёнки – взапуски, кто куды: под ленивые одеялка… в за-доски… самый старший к коленям её приник-прижался, мол, не пужайся, вишь, рядом я, так что в обиду не дам грозе! У самого зуб на зуб от страха не попадает…
Она же – спасение во плоти – будто с иконки сошла. Лик тонко очерчен, мягок, изнутри светел, в очах – промельки мерцотные, перепляс огней, ноздри нервно напряглись, раздулись… кажется, ещё секундочка, полсекундочки – взмоет туда, в рёвы и клубы гремучие, в пекло самое светопреставления… порядок наведёт!..
Только не взлетит, не упорхнёт, хотя фигурка точёная стремглавостью налита и дышит, дышит опрометью призрачной, плавной-наплывной и как бы реющей сразу. Ни-ни – наоборот: в движении… вкопанном, в предвкушении и угадываемом, и читаемом с листа-лица, во внешности всей мнится что-то надёжное, домовитое, дающее отпор бедам и напастям, молниям и ревунам… ЧТО-ТО, беду отводящее! И не «золотая серединка» только!
Просто душа у неё самая русская – свет-мятежная, свято-нежная! Просто такая она…
– Пужливые мои! Не тронет вас гроза. Шли бы на боковую! Во-он Серенький-то наш, чай поди, второй сон доглядат! Да-аа»!..
Певуче, мило пролила из грааля души своей несколько словушек заботливых и, потеребив ладошкой левой кучери брательника, что рядышком примостился, Сёвушки, рассыпала мелодично-звонкий смех, отчего тотчас улеглись страхи детские, личики повеселели, расцвели ответно-благодарно… Ярко, каминно-карминно потрескивало в печи: хоть и май на дворе, а всё ж к утру выдувало и можно было замёрзнуть под одеяльцами байковыми – вот и топили, благо дровишек запас не иссяк в сараюшечке, а Серенькому в тепле, понятное дело, всяко уютнее, лучшее.
– Айда с нами, Кать!
– Ага, иду. Вот только помечтаю маленько…
Помечтаю!! Не мечты вовсе перепалнивали её – хотя виду не казала. «Права ль была, что с ним не уехала? – этот вопрос костью в горле застрял – в груди. – Ведь предлагал, звал горячо… А я… Правда, после войны этой как подменили его, ну, и что? Глядишь, отмок бы, отошёл… А щас вот… Зато говаривал-то как…»
И действительно, казалось, вчера это было: Бекетов, «Павлуша», страстно, убеждённо в розовых тонах пастельных рисовал ей картины их будущей жизни эмигрантской где-нибудь в Париже, Вене, на худой случай – в Анталии жаркой… с пеной у рта доказывал немыслимость дальнейшего пребывания в России, на Родине, которая, дескать, погибла, где всё вверх дном. Она же, его Катюша, была непреклонна…
– Забирай детей, любимая, что тебе в этой стране нужно? Среди грязных, невоспитанных, тёмных людей! У меня есть деньги, много денег, раньше никогда об этом не говорил, повод не предоставлялся, есть фамильные драгоценности, недаром что княжеского роду. За кордоном ты горя знать не будешь. Ни ты, ни дети! О них пораскинь!.. – осёкся.
Разговаривали шёпотом, в спаленке. Он стоял перед ней, решительный, молебный, заклинал её поехать с ним, не оставлять одного, проявить благоразумие, мудрость, думать о завтрашнем дне…
– Почему, ну, почему ты считаешь, что при Советах Россия погибнет? Примут ли дети ту же Францию с её Парижем, иную по духу жизнь примут? Не проклянут ли в будущем нас за то, что мы, оба, лишили их Родины?! Чать, не к тёще на блины – невесть куда приедем! И кому мы там будем нужны, родной? А? Жить среди чужих людей, постоянно слышать незнамо чью речь и не понимать ни слова, ты же не станешь нам всё время переводить, а главное – тосковать по просторам нашим, по Волге… Что ресторанчики? Там такие же будут, как и мы – пусть и не все голодранцы, так горемыки, слышишь?! Да и голодранцы – духовные, духовные голодранцы, милый ты мой… Эмигранты! Там всё – обман, пусть и красивый, но высосанный из пальцев, всё на дешёвой водке, на плаксивых песенках под струны жалобные уж не знаю чего – шарманок ли, гитар, гармоней?! Искренность за шампанским, когда хмель развязывает язык и не знаешь, куда деть себя от тоскотищи, от нудьги, когда… Ах! Прости, но я не смогу так, не смогу! Уж лучше бы мы не встречались!!
– Напрасно так думаешь, любимая! Катенька, я всем сердцем боготворю тебя и ты не можешь не чувствовать, не знать этого, хотя, возможно, последнее время стал жёстче… Ты не захотела жить в родовом имении – я согласился, живи здесь. Ты воспротивилась тому, чтобы стать законной княжной Бекетовой, хотя отец мой, я рассказывал, поначалу и не в восторге был от нашего знакомства, от развивающихся наших отношений, я ведь писал ему, ставил его в известность… ну, да ладно, Бог ему судья! Бог тебе! судья, пусть так. Я, хотя и гордый, но ради тебя, во имя завтрашнего счастья пошёл и на это. Пошёл! Выдержал немало косых взглядов, недомолвочек по поводу и без со стороны аристократов наших, дворян, в кругу которых с рождения считаюсь своим. Понимаешь? Ради нас с тобой! Всё, всё перенёс и не такое ещё перенести смогу. Кстати, не поэтому ли изменился немного… не думала? – ладно! Зато я думал, думал, что с годами оботрётся как-то, ты попривыкнешь к моему высокородному происхождению, а что до дел чисто оформительских, казённых, так сказать, то здесь и обождать можно. Главное – ты по духу своему, по красоте невиданной – графиня, герцогиня, королева!! Послушай же, не перебивай. Мы потеряли ребёнка, Сашеньку, ты взяла чужого младенца, выкармливала его, усыновила, он стал родным для нас, для обоих, поверь! Я что-нибудь не так говорю? Я хотя бы раз возразил, попрекнул?! Ведь если мужчина любит женщину, любит по-настоящему, то он будет любить её со всеми её потрохами! С детьми её, собаками, кошками и подругами!! Окстись же, милая! Где ты найдёшь второго такого супруга?! Но сейчас всё во мне восстаёт, противится твоей кроткой, ангельской натуре, в которой столько кремнёвой стойкости, столько упорства и… упрямства! Да-да, упрямства! Прошу тебя: поехали со мной! Начнём новую жизнь – там. Будешь приезжать в Россию, когда здесь всё наладится, образуется – ведь не вечно же будет длиться эта вакханалия! И если разрешат новые власти, твои так называемые Советы. Но ведь могут и не разрешить! А не разрешат, то и Бог с ним! Родина – там, где хорошо, где люди свили себе гнёздышко. Родина будет в памяти сердца, она останется. Никуда не денется. У нас будет две родины. Что, я не прав? А ведь может статься так, что большевики обосновались тут надолго! Представляешь, будут бирюками сидеть на своих местах и навязывать свои порядки! Людям и продохнуть не удастся! Зато мы с тобой будем далеко-далеко. За три девять земель… Будем жить по-людски, свободно. Независимо от всех! Словом, Катя, решайся. Ты просто рождена для счастья неземного. Ты затмишь своей красотой всех в Париже!.. Будешь воспитывать детей, младшеньких своих, изучишь новый язык, познакомишься с местными матронами… У тебя будет своё хозяйство, прислуга… Да тебе просто некогда будет тосковать по отчизне, предаваться воспоминаниям. Поверь! Жизнь возьмёт своё! И в доме нашем, для новых друзей открытом, хлебосольном, всегда будет звучать родная речь, литься детский смех… Обещаю! Жена моя, даю тебе в этом слово князя и дворянина. На библии присягну. Вот послушай… Там, на фронте, в минуты затишья редкого и полного, рано-рано утром, до меня, до слуха моего несколько раз явственно доносилось твоим голосом произнесённое, названное моё же имя – «ПАВЕЛ»! Неведомо как звучало оно, будило, звало… Я ведь голос твой ни с чьим другим не спутаю! Знаешь, тихо-тихо, но пронзительно и взволнованно, отчётливо, ясно, в душу самую падал звук, в глубине придонной затихал струной… Я вздрагивал незаметно, невольно, изумлённо: как это ты оказалась здесь, на передовой, среди окопов, палаток? Как нашла меня, кто подсказал? Порывался вскочить, но что-то удерживало, удерживало, понимаешь? Я даже глаза не открывал… Ибо тотчас наваливалось с беспощадством угрюмым, приходило ниоткуда понимание: это мне только прислышалось, на самом деле нет тебя! Но знаешь, становилось не по себе – уж больно разборчиво и взаправду раздавалось в изголовье, да-да, в изголовье, где-то слева, внутри и вовне сразу! имя моё, сказанное с болью и нежностью тобой, твоими – этими вот самыми – губами… Делалось тревожно, вдвойне одиноко потом, но и хорошо, будто побывал дома, рядом с тобой… Что это было? Не пойму. Не знаю…
– Ангел твой хранитель, родной…
– Вот видишь, и он сберёг меня. Но я не хочу, чтобы там, за границей, в Париже ли, в Вене, я ещё не решил окончательно, куда именно мы поедем, он, голос твой, опять также волновал меня, одного, изгоя, покинутого тобою, детьми, заброшенного злосчастной фортуной на произвол судьбы, на долгое, медленное угасание… умирание… Не хочу! И знаешь, я до сих пор ломаю голову: отчего голос этот с левой стороны раздавался? Странно, да? Словно ты подошла к сердцу моему одной тебе заветной тропочкой, нагнулась надо мной, спящим, и очень-очень выразительно, членораздельно произнесла моё имя – не всуе, заметь, а с какой-то целью… Для чего? И после этого я уже не мог заснуть. Ворочался, в холодном поту весь, дрожал – то ли от холода, а скорее всего от возбуждения нервного. Какая-то мистика, да и только! Иногда после этого вставал, бродил – по утрам зябко, студёно бывает и вместе с тем полынно, сухо… всё сразу! И будто чего-то недостаёт. Предвкушаешь новый день, не знаешь, каким он станет, что принесёт, хм, сам же ещё во вчерашнем дне, ещё окончательно не перебрался сюда… И во рту – не то горечь, не то оскомина. Ощущение не из лучших! Словно снег прошлогодний растаял и обложил нёбо чем-то вязким, липким, пусть текучим, но всё равно пристаючим каким-то и несмываемым, не уходящим… Одно спасение: чувство неодинокой одинокости! Понимаешь? Потому что есть этот голос, твой, – и нет тебя. Образ один…


