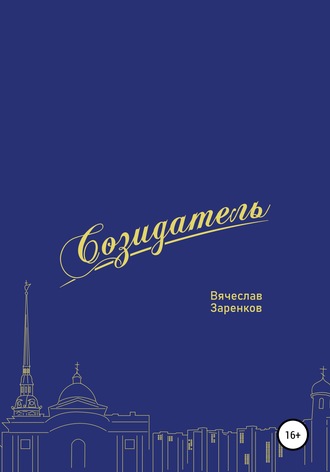 полная версия
полная версияСозидатель. Вячеслав Заренков
Знаменитый хирург приезжал в гости к именитому строителю и мог два-три часа беседовать с его отцом Адамом Алексеевичем. А потом строитель ездил на дачу к хирургу в Комарово. Удивительно здесь проходили вечера. Хозяйка подавала пироги, Федор Григорьевич угощал всех грибами собственного посола. Собирались дети и внуки Углова, музицировали, пели романсы, читали стихи, просто общались, как в дореволюционных светских салонах. И всем без вина было весело и хорошо.
Интересная вещь: наблюдая за Федором Григорьевичем, Заренков отмечал, что в основе его системы долголетия, краеугольным ее камнем были все-таки не физические упражнения, умеренность в питании и трезвость, нет. Ее фундамент – философия непрерывного развития. То, что у японцев называется «икигай». Выбрать цель и постоянно идти к ней, совершенствоваться, не останавливаясь на достигнутом. А для здоровья сердца был у Углова уникальный рецепт: «Делай добро. Зло, к сожалению, само получится».
Сто лет назад
Став сказочно богатым и влиятельным человеком, потомственным дворянином, кавалером множества российских и иностранных орденов, Петр Губонин и его сыновья значительную часть своих доходов тратили на помощь сирым, больным, обездоленным и увечным. Особенно впечатляет строительство Брянского машиностроительного завода, на голом месте, в заболоченных лесах! Это крупнейшее в России предприятие выпускало рельсы, паровозы, вагоны, сборные элеваторы и прочую продукцию из металла. Даже броню для броненосца «Князь Потёмкин Таврический».
На территории завода, кроме цехов и других необходимых заведений, была также больница из пяти павильонов с аптекой и амбулаторией. Мужская и женская школы. Церковно-приходская школа, ремесленное училище, два парка, пруд, птицеферма, народная столовая на полтысячи человек, заводской продовольственный магазин с паровой мельницей и бойней, детский сад…
Под силу ли все это одному человеку?
Губонину было под силу!
Он обустроил здесь триста усадеб с огородами, коровниками и ледниками. Две церкви, вмещавшие четыре тысячи человек.
Петр Ионович открывал технические училища в Москве, Коломне и Борисоглебске. Построил здание духовной семинарии в Твери. Не сосчитать, сколько именных стипендий он учредил…
И между тем, на пике активности, он уже думал о том, как и где ему встретить спокойную старость.
«Если выпало в Империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря», – писал Иосиф Бродский.
К Черному морю устремил свои взоры каменный Петр. Для своего пристанища он выбрал захудалое татарское село Гурзуф, которое купил в 1881 году. Этот укромный уголок в двенадцати верстах от Ялты за короткое время промышленник превратил в курорт мирового уровня. Ударными темпами он построил здесь шесть больниц, разбил парк, устроил фонтаны, провел освещение. К услугам отдыхающих были его рестораны, прачечные, телеграф, магазины и, конечно же, храм.
Церковь Успения Пресвятой Богородицы была возведена в византийском стиле и отличалась изысканным убранством внутри. В храме находилась икона Николая Чудотворца кисти Константина Коровина. Алтарь и образ Спасителя освещались электрическим светом. Во время всенощных служений осуществлялась электрическая подсветка креста над церковью. Моряки ориентировались в бурю на этот крест, как на маяк.
А еще он увлекся вдруг виноделием. Вино Петра Ионовича составляло значительную часть всего церковного вина, потребляемого в дореволюционной России.
Часть пятая
На космической орбите
2011–2016 гг
Строитель-художник Вячеслав Заренков становится еще и писателем. Он отправляется в грандиозное road-show, в ходе которого за три недели посещает тридцать шесть стран. Выход на IPO позволяет привлечь более 500 миллионов долларов инвестиций. Американский астронавт Томас Стаффард становится акционером компании, а советский космонавт Алексей Леонов – соавтором идеи создания «Аллеи космонавтов» и просто другом. Вячеслав Заренков создает благотворительный фонд «Созидающий мир», строит храм на Кипре и в Санкт-Петербурге и… рождается во второй раз.
«Сопромат» и другие
Накануне своего шестидесятилетия, примерно за год до знаменательной даты, Вячеслав Адамович задумался: чем он встретит гостей? Они, понятно, будут что-то дарить, говорить – а он? Надо бы придумать некое «алаверды» – то, что оживит гостей за столом, объединит их и поддержит веселье. Написать картину? Но картина одна, а людей будет много.
Написать… книгу. Вот это идея! Она привлекла Заренкова еще и тем, что писать он до этого серьезно не пробовал. Хотя не раз ловил себя на мысли, что сюжетов для интересных рассказов набралось предостаточно.
Например, почему не рассказать, как он строил свой первый объект в должности мастера? Работы тогда подходили к концу, началась штурмовщина, по всем этажам сновало более двухсот человек, а весь груз ответственности – на нем, молодом двадцатидвухлетнем человеке, потому что прораб постоянно был на больничном. Забавная там приключилась история. Сварщик закрутил роман с отделочницей, в обеденный перерыв они возлегли на строительных лесах в межэтажном проеме. В самый ответственный момент деревянный настил треснул, и любовники с грохотом рухнули на этаж ниже. Девушка сломала ногу, парень отделался ссадинами, а на Заренкова завели уголовное дело за нарушение правил техники безопасности. Он отказался от адвоката, сам штудировал юридическую литературу и в суде защищался отчаянно и настолько успешно, что следователь, закрывая дело, предложил мастеру перейти на работу к ним, в правоохранительные органы.
Или вспомнить ту зиму, когда ударили морозы под минус тридцать, и лопнула главная труба теплотрасс. Жители района остались без тепла и горячей воды, надо было срочно спасать ситуацию. Удивительно, как находчив русский народ! Бригадир сантехников Василий практически сходу придумал решение: обрезать трубу на входе и выходе и в старую затолкать новую, меньшую диаметром. Заварить с обоих концов и готово! Это была совершенно новая для того времени технология ремонта трубопроводов, можно было подавать заявку на изобретение. Они с Василием так и сделали. Но дело заволокитилось в кабинетах чиновников. А вот финн Йоке, которому Заренков эту историю рассказал, запатентовал технологию на свое имя, и его маленькая фирмочка за пару лет превратилась в мощную компанию!..
Много, много о чем он мог рассказать в своей книге, – только начни вспоминать! Как там в известной песне поется: «Лето – это маленькая жизнь». Стройка, в отличие от лета, воспетого бардом, – жизнь большая, кипучая, многогранная.
Заренков засел за работу, но не сразу. Сначала несколько дней думал над заголовком. Как назвать свою первую книгу? Это ведь не просто название – оно должно отражать смысл всего, чем он до сих пор занимался. Созидал, строил – это понятно. Но как? Через что?
В какой-то момент в гости в голову заскочило знакомое со студенческих лет словцо – сопромат. Как они тогда говорили – «сдал сопромат – можно жениться». Нечто настолько сложное, этапное, рубежное. Как шестидесятый юбилей Заренкова. И очень подходит ко всей его жизни. Год за годом ему приходилось преодолевать сопротивление внешней среды, закаляя свой характер до такой степени, что он приобретал свойства металлов. Однозначно – название подходящее.
Он вывел на чистом листе: «Сопромат». И написал в предисловии честно: «Не судите строго мою скромную попытку изложить на бумаге то, что для меня действительно важно и интересно».
А дальше пошло и легче, и веселее. Страница за страницей Вячеслав Адамович вспоминал свою жизнь. Писательство увлекло Заренкова. За первой книгой «Сопромат» потом пошли новые сборники. «Данность жизни», «Записки оптимиста», «Избранное». Человек пишущий, как и художник, во время творчества уходит от текущих забот, прерывает контакт с реальностью, создавая другую реальность. Сидишь за столом, мучительно подбирая слова, то попадаешь в струю и сам улыбаешься ладно скроенному фрагменту, то упрешься в монолитную стену так, что башенным краном не сдвинуть.
Коварство данного ремесла состоит в обнажении. Писатель – почти стриптизер. Расставляя слова на бумаге, человек раскрывает все свои тайны. Каждый текст имеет свой дух – есть книги тяжелые, вязкие, от которых тянет ко сну. Или хочется выпить, или вымыть руки, бежать и кричать. Или жить полной грудью. Читатель, даже если он не изучал психолингвистический анализ текста, все равно чувствует, что за человек скрывается за написанным текстом. Всегда можно сказать: хороший или плохой. Как он относится к женщине, к людям, к труду и к стране – все в наших написанных и ненаписанных книгах.
Если взять на себя смелость рецензента, то я бы сказал, что великое счастье, когда тебе скрывать нечего, как Заренкову. Все у него понятно, просто, по-доброму. Альтер эго не торчит из его текстов шпильками. Читатель получает в собеседники мудрого и тонкого человека, философа, который красной нитью через все свои книги проводит мысль: все мы, любой человек – сам творец своей судьбы, своего счастья или несчастья: что посеешь, то и пожнешь, как аукнется, так и откликнется. Он говорит: созидай добро и будешь добром окружен, уважай людей и будешь уважаем, почитай Бога и родителей и будешь благословен. И если в советское время было в ходу утверждение, что «книга – лучший подарок», то к книгам Заренкова это относится в полной мере.
28 марта 2011 года на юбилей Заренкова собрались все, кто должен был там собраться. Люди большого полета – губернаторы из нескольких регионов, в том числе, конечно, и губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Генералы, люди из Смольного, политики, священнослужители, бизнесмены, конкуренты, партнеры. И просто люди, без которых не было бы компании «ЛенСпецСМУ». Все они пришли с подарками и ушли от Вячеслава Адамовича тоже с подарком, с его первой книгой «Сопромат».
В кулуарных разговорах и юбилейных здравицах друзьями не раз был помянут непростой 2010 год, который начался с открытия «усеченной» на два этажа «Биржи Санкт-Петербург», продолжился проблемами со спиной, вылившимися в две сложные операции, а между ними – аномальная жара аномального лета, остужающая энтузиазм созидания у руководителей подразделений холдинга…
Приятнее всего было вспоминать финал того года, увенчанный народным признанием в виде «Небесной линии».
Но главное происходило сейчас, в 2011-м.
Road-show
Road-show потребовало от Заренкова концентрации всех его сил и энергии.
Так называемое road-show необходимо было провести непосредственно перед выходом на IPO. А уж само значение этого события для холдинга трудно переоценить. То есть, как не оцени его (IPO) – все будет мало. Оно сыграло решающую роль для дальнейшего развития компании, которая за двадцать три года прошла путь от строительного кооператива до международной компании.
Тогда за три недели «дорожного шоу» команда Заренкова (финансовый директор, менеджеры и представители трех крупных банков) объехала тридцать шесть стран. Всю Америку и Европу. Иногда в одном городе проходило по шесть-восемь встреч с потенциальными инвесторами, где надо было рассказать о своей компании, ее истории, позиции на рынке и перспективах. Факты, цифры, графики, таблицы, аналитика…Это была международная презентация «Эталона». Ведь ни один инвестор не вложит ни доллара, пока не узнает из первых рук все, что ему важно знать об этом бизнесе.
День за днем, от страны к стране, заполнялась книга заказов. И вот пул из долгосрочных инвесторов и хэдж-фондов сформирован. Настал долгожданный день, который команда профессионалов приближала целых три года.
В апреле 2011 года в старинном здании Лондонской фондовой биржи на площади Патерностер состоялось символическое нажатие красной кнопки. С этой секунды компания «Эталон» стала международной. Старт новой жизни. Промежуточный итог трудовых достижений ее основателя, Вячеслава Адамовича Заренкова.
В тот знаменательный день, открывая торги, он испытал мощное, невероятное чувство. Наверное, оно знакомо спортсменам, которые поднимаются на высший пьедестал Олимпиады. Или ученым в миг озарения, выстраданного годами труда.
– Слушай, Вячеслав, – сказал президент Лондонской биржи, лорд Джонсон. – Ты как советский атомный ледокол «Ленин»! Ты взял и пробил огромную толщу льда недопонимания между нашими странами. И открыл за собой дорогу другим компаниям из России. Меня очень впечатлила твоя биография! Ты настоящий self-made-man. При том что в России, как я понимаю, «сделать себя» намного сложнее, чем в Европе.
Да, есть у них такая интересная традиция: перед важной встречей с человеком президент биржи изучает жизненный путь своего собеседника.
Вряд ли знал господин Джонсон, как шестилетний Слава бежал в первый класс без ботинок, движимый тягой к учебе. Как рубил и складывал в зимнем лесу дрова на возок в рваных валенках, преодолевая усталость и холод. Как собирал из картона свой первый фотоаппарат, приближая мечту. Как, не поступив в институт, работал в колхозе, а потом устроился в геологическую экспедицию…
Это было весной далекого 1968 года. В Ходулы прибыла геологическая экспедиция, веселые молодые ребята, выпускники института. Они колесили по всей Белоруссии, изучали геологию местности. Попросились на постой в добротный дом Заренковых. А дальше все вышло само по себе.
– Может, с нами? – предложили они. – Поработаешь, развеешься, что-то придумаешь, как дальше жить.
Он согласился. И несколько месяцев провел в экспедиции. Сверлил буром грунт. Полметра просверлишь – достал. Берешь пробу. Снова сверлишь, насаживая на бур удлинитель и уходя все глубже в недра земли. Глубина каждой скважины достигала тридцати метров. По плану надо было делать по две-три лунки в день. Ну, или как пойдет. Бывало, что грунт такой твердый, что и одна скважина два дня отнимает.
Вольная жизнь кочевая, ночевки в палатках, ужины у костра, интересные разговоры. Все это расширяло границы сознания, все это открывало молодому человеку необъятные горизонты. Они есть в этой жизни. Только к ним надо идти и ничего не бояться.
Геологи все-таки сыграли свою роль в дальнейшей судьбе Вячеслава. Может, без них он застрял бы в деревне, стал осторожничать и терять легкость. С ними он понял, что надо делать свою карту жизни, наносить на нее новые города и страны, бурить и брать пробы – не грунта, а пробы себя. Вот тогда и пошел на вокзал, сел в свой поезд и начал свой путь…
IPO компании стало важнейшей вехой в истории группы компаний «Эталон». Выход на международную биржу позволил привлечь более 500 миллионов долларов дополнительного капитала. Это те деньги, которые были необходимы для дальнейшего развития и роста. Уже в июне 2011 года председатель совета директоров холдинга Вячеслав Заренков в интервью деловой прессе сообщил, что группа «Эталон» выступит застройщиком своего третьего по счету жилого комплекса в столице. На этот раз на севере Москвы. Инвестиции в новый проект оценивались в 300 миллионов долларов. Это более половины средств, полученных в результате IPO.
А еще, кроме денег и новых знаний в области корпоративной культуры, «Эталон» приобрел акционеров по всему миру. Людей, которые теперь делились своими идеями, опытом, дружбой.
Одним из таких акционеров стал американский астронавт Томас Стаффард, давний друг легендарного летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова.
Для Заренкова он был просто Архипычем.
Архипыч
– Славочка, я тебя поздравляю! – Леонов позвонил одним из первых. – Международная биржа – это твой выход в космос, твой звездный час!
Да, знакомства с известными людьми у Заренкова случались часто. Кого только не было среди них! Актеры, артисты, музыканты, писатели, генералы, политики, архиереи, губернаторы…
И космонавты тоже встречались.
В 2008 году, например, Вячеслав Адамович был приглашен на 50-летний юбилей Сергея Крикалева, рекордсмена по суммарному времени, проведенному в космосе, – 803 дня за шесть стартов.
Но не всякое знакомство перерастает в настоящую дружбу. С Алексеем Леоновым вышла именно дружба, без натяжек и преувеличений. «Славочка», – так просто и тепло он его всегда называл.
В этом человеке Заренкова поражал уникальный заряд сердечности и доброты. Откуда, казалось бы? Ведь жизнь складывалась настолько непросто, что можно было сто раз озлобиться на весь мир. Алеше было два года, когда отца репрессировали из-за конфликта с председателем колхоза. Многодетная семья осталась без крова, без пропитания. Приют нашли в грязном бараке, в небольшой комнате ютилось одиннадцать человек. Будущему космонавту определили место на полу, под кроватью. Голод и нищета беспросветная. В первый класс он пошел поздно, в девять лет. Когда отца освободили, семья перебралась из Кемерово в Калининград. Там мальчишка увлекся рисованием, поступил в рижскую академию художеств, но, узнав, что общежитие студентам предоставляют только с третьего курса, забрал свои документы: денег на съем жилья у него не было.
Вот тогда Леонов и сделал свой первый шаг к авиации – подал документы в авиационную школу, стал летчиком-испытателем, а осенью 1959 года познакомился с Юрием Гагариным.
– Мы с ним крепко дружили, – рассказывал Алексей Архипович. – Знакомство с Юрой круто изменило всю жизнь. Через год я уже был зачислен в первый отряд космонавтов…
Вячеслава Адамовича притягивала к этому прославленному человеку, совершившему первый в мире выход в открытый космос, его простота. Абсолютная простота и чистое, без темных пятен и лунных кратеров, сердце. Еще – схожее понимание жизни. Свою философию однажды Леонов выразил так: «Без веры человек превращается в животное, которое руководствуется инстинктами. Не обязательно это должна быть вера в Бога, но во что-то чистое, светлое верить надо. Не следует гневить Бога, даже если не веруешь. Его, возможно, и нет, но наказывает он очень серьезно. В непростых ситуациях я всегда просил небо о помощи и получал ее, на этом и строится моя вера. Знаю одно: ничто с нами не происходит случайно, все предопределено, надо лишь не упустить шанс, который дарит судьба».
Судьба подарила им эту возможность – дружить. И они не упустили свой шанс. Часто вместе отправлялись в поездки, на встречи, и Леонов рассказывал охотно, умело. Сколько было у него интересных историй, которые надо было, конечно, записывать.
Как-то они собрались на инаугурацию губернатора Калининградской области Георгия Бооса. Их пригласили обоих. На свой самолет опоздали, следующий рейс только через четыре часа. Друзья устроились в зале ожидания, взяли по бокалу вина, и Алексей Архипович снова оседлал своего конька, начинал перелистывать страницы своей истории. Говорил очень просто, подперчивая, где надо, крепким словцом…
– Мы ведь очень торопились тогда с этим выходом в открытый космос, надо было опередить американцев, дело престижа страны. А спешка, как известно, хороша при ловле блох. И вот наш «Восход-2» на орбите, на мне скафандр, который весит почти сто килограммов. Он рассчитан на тридцать минут пребывания за бортом. Я перехожу в шлюзовую камеру, диаметр ее один метр, особо не развернешься, открываю люк и вижу небо! Представь, Слава, абсолютно черное небо. У меня в руках камера, я снимаю, две камеры установлены стационарно, Павел Беляев, командир корабля, сообщает на землю, что, мол, все идет по плану, выход в открытый космос состоялся в штатном режиме. А я горю! Такая высокая температура там, за бортом, что меня заливает потом. И скафандр от жары раздувается. Понимаю, что обратно в люк не пройду. Начинаю стравливать давление в скафандре и пытаюсь пролезть головой вперед, хотя по инструкции это было строго запрещено – только вперед ногами, как полагается любому покойничку. Ну, это ладно. Вернулся, и слава Богу. Двенадцать минут и девять секунд за бортом корабля – есть, чем гордиться перед американцами. А дальше отказывает автоматическая система ориентации, и Паша вручную ведет корабль, включает тормозной двигатель. В результате мы приземляемся не там, где запланировали. В 180 километрах севернее Перми, в тайге. Снега глубокие, сосны высокие, а мы лежим неподвижно – и сколько придется ждать, когда нас тут найдут? Подняли гражданский вертолет «МИ-1», с него в район посадки опустили двух лесников. Эти ребята пробирались сквозь тайгу четыре километра. Потом еще три вертолета с лесниками. Надо было валить лес, чтобы вертушка могла опуститься и забрать нас. Две ночи мы там провели, чуть все себе не отморозили… ТАСС сообщает, что «товарищи Беляев и Леонов чувствуют себя хорошо, программа научных исследований выполнена полностью». Нет, дорогой, мы себя очень нехорошо тогда чувствовали…
Алексей Архипович рассказывал, как в январе 1969 года чуть не погиб, когда автомобиль, в котором он ехал вместе с другими космонавтами, и Георгием Береговым, и Валентиной Терешковой, обстрелял младший лейтенант Виктор Ильин. Он хотел убить генсека Леонида Брежнева, но перепутал машины в кортеже.
Как в 1975-м стыковался с американским кораблем «Аполлон». Символично, что стыковка произошла над Эльбой, где в сорок пятом наши солдаты братались с войсками союзников.
– Мы тогда не просто пожали друг другу руки – мы подружились с Томасом Стаффордом. Вместе с американским астронавтом работали на борту, учили язык, отдыхали. Томас приезжал в Советский Союз, гостил у меня. Полюбил русских людей, наши фильмы, наши книги. А теперь вот стал еще и твоим побратимом.
– Акционером, – уточнил Заренков.
– Ну, это ж почти одно и то же. Мой друг – твой друг и инвестор! – смеялся Архипыч. – Вот как американские астронавты живут! А ты знаешь, что Томас мне еще и детьми своими обязан?
– Как это?
– А вот так, Славочка: Стаффорду было уже 74 года, а его жене Линде чуть за шестьдесят, и решили они усыновить детей. Прилетели ко мне, мол, помоги. Я с ними объехал несколько детских домов в Щелково. Они, конечно, хотели взять маленьких, но я посоветовал присмотреться к ребятам постарше. В итоге познакомились с Мишей Морозовым, ему было двенадцать. И со Стасом Барановым, тому девять. Их усыновили. Майк уже окончил университет тамошний, а Стас пошел по стопам отца, поступил в военную академию. Вот так! Томас – человек замечательный. Его, как и тебя, деньги не портят. Ему за полет в космос правительство заплатило, кажется, пять миллионов долларов. Или больше. И дом, большой дом подарили. Ну, что с них возьмешь – это Америка! Там за все платят деньги. Это русский человек на подвиг идет в кандалах и радуется, если ему потом эти кандалы в знак благодарности снимут.
– Да, тут ты прав, Архипыч, – согласился Адамыч, думая о чем-то своем.
А дальше?
В последнее время он много думал о том, что все имеет свой срок, свой черед. Молодость – это энергия, стремление к неизведанному, это рост и подъем к своей высоте. Ты вскакиваешь и хочешь бежать, лететь и любить, и дерзать. Молодость вообще соткана из самых лучших глаголов, выражающих действие во всей своей полноте. Потом приходит пора зрелости. Она состоит из имен существительных, в каждое из которых ты доходишь до сути, вникаешь в смыслы сущих имен: а что же такое любовь? жизнь, отношения между людьми, родительство, родина, труд? Зрелость приходит к одному в двадцать лет, к другому в тридцать, к третьему вообще не приходит. А длиться этот период может до бесконечности, в отличие от энергии – она у людей не бесконечна.
Теперь Заренков это чувствовал. Его тридцать лет ничем не отличались от сорока, а сорок от пятидесяти – он жил в одном ритме, держал темп, с удивлением отмечая, что после сорока пяти время стало стремительным, оно измеряется уже не годами – те мелькают, как деревья при дороге – оно скачет уже пятилетками. А после шестидесяти энергии стало не хватать, эффективно работать с утра до отбоя, как раньше, не получалось.
Он это чувствовал и думал: что дальше?
Это очень сложный вопрос. Начало шахматной партии всегда легче, чем ее завершение, завязать проще, чем развязать, и войти – не проблема. Как и куда ему выйти?
Ведь шестьдесят – это возраст уже пенсионный. И это не просто так придумано, у этого рубежа есть медицинские и антропологические основания.
– Слава, да что ты усложняешь, смотри, вон Ден Сяопин сколько лет стоял у власти в Китае? И ничего…
– Но он же не был первым лицом в руководстве страны! Он был хорошим идеологом, советником и в какой-то степени исполнителем в отстроенной системе. А в бизнесе по-другому! Руководитель должен отдавать себя компании 24 часа. Надо постоянно находиться в напряжении, реагировать на любые ситуации, пропускать их через себя. А у меня это уже не получается. Я поработаю с девяти до трех и чувствую усталость. И понимаю, что некоторые вопросы просто не успеваю решать.
– Слава, но кому передать бизнес, который ты строил с нуля, которому ты отдал жизнь? Пять тысяч человек работает в холдинге, 70 миллиардов рублей годового дохода, 21 миллиард ты отдаешь на зарплаты, ты платишь налоги – для города это очень жирный кусок. И что? Теперь все это развалится, рухнет? А поверь, так будет, когда ты уйдешь…

