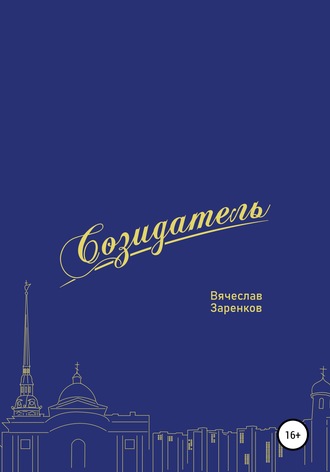 полная версия
полная версияСозидатель. Вячеслав Заренков
Так было при строительстве храма в честь Святого Апостола Андрея Первозванного и всех Святых, в земле Русской просиявших, на Кипре, так было при возведении храма Святым Царственным Мученикам Романовым в Сербии, при строительстве храмов Святого Великомученика Георгия Победоносца в Купчине и Святой Блаженной Ксении Петербургской на Лахтинской улице, при воссоздании храма Рождества Христова на Песках в Санкт-Петербурге. И у каждого храма – поклонный крест. Поклонись, приходящий в храм! Задумайся о своем кресте, который ты несешь в жизни.
Однажды во время поездки в Сербию мы ночевали в одном из местных монастырей, из окна которого высоко на горе был виден большой поклонный крест. Наш гид предложил нам утром вместо зарядки подняться к кресту. И вот рано утром я начал подъем… Скажу честно, это была нелегкая задача. Тропинка после дождя была скользкой, глина налипала на обувь, резкий ветер сбивал с ног. К большому сожалению, я так и не сумел добраться до креста. Частое сердцебиение и одышка заставили вернуться. Спустившись, я долго смотрел на крест и думал. Размышлял о том, что ведь я не один такой, кто не поднялся к кресту, ведь есть и более пожилые люди, и больные… И как сделать, чтобы как можно больше людей могли приблизиться к поклонному кресту, прикоснуться к нему, поклониться, помолиться и поблагодарить Господа.
Вот тогда и пришла мысль ставить поклонные кресты относительно небольших размеров в доступных людям местах: при церквях, соборах, в монастырях. Делать их мраморными, чтобы на века!
И, слава Богу, это получается, и огромное количество людей с радостью им поклоняются. Сегодня нами установлены и находятся в стадии установки семнадцать поклонных крестов. Притом не только в России, но и за ее пределами, там, где люди ждут этого события.
Крест – символ единения всего христианского мира. Православный крест – символ веры и единства всего православия.
Крест есть напоминание о том, что Иисус Христос своею смертью на кресте попрал и победил ту же смерть. Через крайнюю скорбь, через боль и страдания он пришел к главной победе и даровал тем самым спасение другим людям, указав им правильный путь.
И когда человек крестится, он не только призывает на помощь Бога и отгоняет демонов. Возлагая крестное знамение, он добровольно возлагает на себя крест, то есть, подражая Христу, добровольно принимает свои скорби и страдания как единственный путь к спасению.
Ведь если посмотреть вокруг, нельзя не увидеть, что никто не живет беззаботно, что у каждого свои проблемы, свои радости, свои скорби и страдания. От креста нельзя уйти. Крест – это еще и символ человеческой жизни, человеческой ноши. Вопрос лишь в том, будешь ли ты пытаться убежать от неизбежного или примешь это безропотно и сочтешь себя достойным ниспосланных скорбей и будешь смиренно нести свой крест? Ведь практически любому человеку очень сложно увидеть свои грехи, каждый склонен думать: «А меня-то за что?»
Лично для меня нести свой крест значит жить достойно, делать добрые дела, строить храмы, восстанавливать монастыри, церкви, строить дома, фабрики, заводы, школы, детские сады, где будут работать взрослые, будет учиться молодежь, будут играть дети… Нести свой крест для меня – это творить и созидать, познавать мир, делать его лучше, делать людей счастливее. Как бы это ни было сложно, но с Божией помощью все получается. И каждый день я благодарю Господа за такую возможность, такое благо – достойно нести свой крест.
Меня иногда спрашивают, насколько важно сегодня устанавливать поклонные кресты.
Я отвечаю: это очень важно, потому что за семьдесят лет оголтелых гонений на церковь, истребления священников, разорения храмов и монастырей, навязывания атеизма и наглого отрицания божественного, многие люди потеряли веру в Бога, забыли о своем кресте, о добрых делах, настоящей любви и взаимопомощи. Мир впадает в греховность, разврат, жажду стяжательства и накопительства. И вот как раз в этот момент созерцание поклонного креста даст возможность людям встряхнуться, задуматься о своем предназначении, о своем кресте, даст возможность поклониться кресту, покаяться и вернуться на путь истины, добра и любви. И чем больше поклонных крестов появится на пути человека, тем быстрее и осмысленнее будет это возвращение.
Некоторые люди и сегодня выступают против строительства церквей и храмов. Они спокойно живут в тиши своей уютной квартиры, водят гулять собачек в ближайшие кустики, а взрослым дядям и выпить в зарослях проще – никто не видит, подростки и «потусить» могут, и «травки» покурить – никто не заметит. И тут вдруг строительство: краны работают, шум, движение, нарушен их эфемерный покой. Вот они и идут на местные митинги: «Долой строительство…», «Запретить…» и т. п., а провокаторы и желающие подзаработать, поднять опустившийся политический имидж, подзадоривают, подгоняют под эту ситуацию городские проблемы, несовершенство законодательной базы. Это с одной стороны, а с другой – наличие церквей и храмов взывает к совести, заставляет обывателя задуматься, а это не каждому нравится. Внутри них начинает звучать голос совести, и, чтобы заглушить этот голос, они идут протестовать – в толпе-то всяко легче затоптать эти ростки совести. И этим человек губит, разрушает себя, впускает в себя дьявола.
К слову сказать, за пятьдесят лет работы в строительстве я не видел ни одного случая, чтобы храм нарушал архитектуру города, а территория вокруг построенного храма была неблагоустроенной. В большинстве случаев получается новая благоустроенная территория с деревьями, красивыми цветами, тропинками, скамейками для отдыха и многим другим. Территория, радующая глаз.
Создание Храма Крестовоздвижения было нелегким делом.
Место, где сегодня построен храм, и территория вокруг него еще совсем недавно, чуть более десяти лет назад, были пустырем, в некоторых местах с полуразрушенными деревянными постройками.
В 2007 году рядом с этим местом наша компания «ЛенСпецСМУ» начала постройку крупного жилого комплекса «Юбилейный квартал». На освящении закладного камня этого строительства я, несмотря на то что в проекте этого не было, сказал, что здесь должен быть построен храм. В то время я не знал, в каком именно месте, какой храм, кто будет строить, как финансировать… были только мысли, что храм должен быть.
И вот через три года, практически к окончанию строительства квартала, судьба свела меня с отцом Евгением, который уже давно вынашивал планы воздвижения храма в этом месте. При первой встрече за чашкой чая мы поняли, что наши мысли сходятся, и мы, засучив рукава, взялись за претворение нашей мечты в жизнь. Давалось все не просто и не легко. К примеру, только на получение разрешения на проектирование и строительство ушло более пяти лет. Само же возведение храма заняло два года.
Ничто не бывает случайным: и заявление на закладке камня, и встреча с отцом Евгением, и выход распоряжения в день освящения закладного камня, прямо в день Крестовоздвижения, и «случайно» встретившийся мне замечательный человек – киприот Христосомос, бесплатно обеспечивший строительство мрамором, и полученные вовремя дивиденды, направленные на строительство, и многое-многое другое. Все закономерно и происходило по воле Божией и в нужный момент.
Спас на Каменке – первый храм в Петербурге, построенный по монолитному методу.
Фасад храма украшают мозаики и скульптурное изображение святой равноапостольной царицы Елены и святителя Макария, патриарха Иерусалимского. Храм отличает мозаика и скульптура на фасадах.
Внутреннее убранство храма в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня сочетает в себе каноническую живопись и неоклассические детали, древнерусское искусство и искусство Ренессанса, что применяется достаточно редко. На Кипре подобный храм в честь Апостола Андрея всех Русских Святых – единственный храм в стране, да и в странах Средиземноморья, построенный в таком стиле, там его называют русским стилем.
Между собой храмы отличаются внутренним убранством, росписью, витражами, цветом кровли и отделкой фасадов. В остальном они похожи и выполнены по одному конструктивному проекту.
Очень важно, что в обоих храмах находится частичка Животворящего Креста Господня.
Один из приделов Спаса на Каменке освящен в честь святого покровителя князя Вячеслава Чешского.
Конечно же, приятно, когда придел называют в честь твоего святого покровителя. При входе в храм всегда обращаешься к нему. И дай Бог, чтобы этот небесный покровитель всегда помогал нам в богоугодных делах.
Выражаю искреннюю благодарность всем участникам создания этого храма: архитектору Андрею Катцову и главному конструктору Николаю Голованову – за уникальный проект, позволивший создать не один, а два храма: на Каменке и на Кипре; руководителю компании «ЭталонПроект» Константину Рядинских и его команде – за разработку уникальных конструктивных и технологических решений; руководителю компании «Тектоника» Кириллу Яковлеву – за разработку и внедрение дизайн-проекта.
Огромная благодарность руководителю управляющей компании «Эталон-ЛенСпецСМУ» Геннадию Щербине и его команде профессиональных специалистов и инженеров-строителей: Сергею Титаренко, Алексею Жукову, Елене Кутьковой, Антону Дюмину, Наталье Калюжной, Полине Рыжкиной, Елене Рахимовой и другим.
Огромная благодарность руководителю генподрядной организации Сергею Панину и его заместителю Алексею Быстрову, техническому директору Андрею Хрусталёву, начальнику участка Дмитрию Шелпакову, производителю работ Дмитрию Богданову, бригадиру Сергею Копылову, всем субподрядчикам, поставщикам материалов и изделий, всем работникам и рабочим.
Большое спасибо Денису Бессонову – за изготовление и установку золоченых крестов и куполов, мастерам компании «Вера» из Воронежа – за великолепные колокола с волшебным звучанием.
И конечно, никакого храма не получилось бы, если бы не было титанических усилий отца Евгения и его супруги матушки Александры. Их вера, упорство, ежедневные усилия и молитвы оказали решающее значение в создании храма. Низкий поклон и огромное спасибо этим замечательным людям!
Хочу также выразить благодарность моей супруге Галине Заренковой за ее помощь в принятии решений в области строительства, за ее терпение и правильное отношение к происходящему.
Хвала Господу за ту возможность, которую он дал всем нам, – возможность построить этот замечательный храм! За то, что соединил нас, дал сил, терпения и крепости духа!
Хочу закончить свое повествование словами Святителя Филарета Московского: «Крест Господень является возвещающим все Домостроительство Его Пришествия во плоти, и заключающим в себе всю тайну относительно сего, и простирающимся во все концы, и всеобъемлющим – то, что вверху, то, что внизу, то, что вокруг, то, что между».
Ктитор храма в честь Воздвижения
Честного и Животворящего Креста Господня
Вячеслав Заренков
Сто лет назад
Люди, хорошо знавшие Петра Губонина, утверждали, что в быту он был очень скромен и строго соблюдал посты, установленные Церковью. Чинами и регалиями не кичился и продолжал ходить в картузе и долгополом сюртуке.
В 1872 году бывшему крепостному было пожаловано дворянство, а еще через три года Петру Ионовичу присвоили чин действительного статского советника. В ответ Губонин преподнес императору Александру II серебряную чернильницу с изображением народов России и надписью: «От бывшего крестьянина, ныне Твоею милостью действительного статского советника Петра Губонина».
Императору подарок пришелся по душе. Он неизменно держал эту чернильницу у себя на рабочем столе.
Петр Ионович строил храм Христа Спасителя в Москве, был последним старостой Петропавловского собора в Санкт-Петербурге, внес достойный вклад в строительство храма Воскресения Христова (Спаса-на-Крови), заложенного на месте смертельного ранения царя-освободителя. Но за главными храмами России Губонин не забывал о нуждах церквей и в других городах и весях.
На своей малой родине, в деревне Борисово, он выстроил церковь для земляков. А для себя домик, куда любил приезжать, когда позволяли дела, чтобы посидеть на крылечке.
Интересно, что никому другому на том крылечке сидеть не дозволялось. За этим строго следили сторожа. Они, бывало, подкравшись, пугали нарушителей запрета холостыми выстрелами из ружей: «Это место Петра Ионыча нашего!»
Часть четвертая
Набор высоты
2000–2010 гг
Эта часть книги наполнена событиями до краев. Вячеслав Заренков начинает писать картины и открывает представительство компании в Норильске, преодолевает административные барьеры и шлифует структуру своего холдинга. Он ищет ключ к вратам Москвы, изучает английский язык в Кембридже, чтобы лучше понимать Майкла Калви. Но самого Заренкова в Санкт-Петербурге понимать отказываются – ему приходится сносить два этажа «Биржи», чтобы подняться к «Небесной линии»…
Все это множество дел и забот ложится тяжким грузом на его спину, которая подводит героя в самый неподходящий момент.
Лавры и Лувры
Оказавшись во Франции в 1999 году по приглашению ассоциации содействия промышленности и предпринимательству, основанной еще Наполеоном, для получения золотой медали за проект «Морской фасад», который был реализован с применением монолитной технологии, Вячеслав Заренков не отступил от своей давней традиции. Он, как всегда, как это бывало в любом новом городе, посетил несколько музеев и картинных галерей. И Лувр в том числе.
Вячеслав Адамович бродил меж полотен, пока не остановился как вкопанный посреди зала. Перед ним была «Святая Анна с Марией и младенцем Христом» кисти Леонардо да Винчи. Работа великого мастера перенесла русского бизнесмена из суеты галерейного бытия в иной мир, который, наверное, и называется «вечностью». Так он стоял перед ними, перед Анной, Марией, Христом, позабыв обо всем. А когда очнулся и посмотрел на часы, с удивлением обнаружил, что, действительно, долго «отсутствовал». Три часа пролетело! С тех пор Вячеслав Адамович стал собирать информацию об этом полотне, все, что только возможно, чтобы еще глубже понять тайны Мастера и раскрыть для себя его грани таланта.
Живопись Заренков очень любил. В советское время, когда покупка картин была немыслимым делом, он украшал стены квартиры репродукциями, купленными в киосках. Но, построив загородный дом, решил, что настало время настоящих полотен, написанных маслом. В один прекрасный день вместе с Галиной он отправился на Невский проспект, в Катькин сад, где художники продают свои произведения. Долго ходили они по рядам, все увидели, но… как-то не тронуло. Так и вернулись ни с чем. На следующий день жена уехала к родственникам, а Вячеслав Заренков с чапаевской решительностью помчался в магазин «Художник». Он купил все, что нужно для рисования. Вернулся домой, поставил мольберт на балконе, закрепил раму с холстом, приготовил краски и – что же дальше? Первый мазок требует смелости. И сюжета. Что будем писать?
Готовая картина была перед глазами. Соседский покосившийся дом с деревянными стенами, черепичной крышей, трубой и вьющимся из нее дымком. Рядом – березы, яблоня, рябина и кусты сирени. Чуть поодаль газон и дорожка к дому. Да покосившийся забор, да старый колодец.
Он приступил. А когда окончил, то снова, как в Лувре, не поверил глазам! – на часах десять вечера.
Дебютант-живописец повесил картину на видное место.
– Ну вот, а ты говорил, что хорошую картину невозможно найти, – вернувшись, одобрительно сказала жена.
– Это моя.
– Конечно, твоя. Сколько стоит?
– Я ее сам написал…
– Хватит сказки рассказывать! – и Галина легонько дотронулась до уголка, где краски еще не подсохли. – Ого! Я и не знала, что ты умеешь писать!
– Я и сам не знал, если честно.
Так, в сорок с хвостиком, Заренков вошел в разряд начинающих художников. Он бы, может, и не входил туда, – зачем ему лавры и лувры? – но жить без кисти и красок больше не мог. Живопись стала его страстью. Теперь он ощущал в себе эту потребность – изображать красоту, транскрибировать Бога. Ведь холст – это память о твореньях Его.
В 2000 году в Санкт-Петербурге у художника Заренкова открылась первая персональная выставка.
– Ну, какой я художник? – скромно говорил Заренков. – Мне кажется, у меня на лбу написано крупным шрифтом только одно слово: «СТРОИТЕЛЬ». Я оживаю только тогда, когда на голову надеваю каску, когда прихожу на объект. Там моя стихия, там моя жизнь. Но писать картины мне все-таки нравится.
На строительной площадке строитель-художник писал свое главное полотно, эпическое, под названием «История «ЛенСпецСМУ».
Норильск
Компания «ЛенСпецСМУ» разошлась не на шутку. Строили много. Осваивали пятно за пятном. Надо было «двигать» продажи. По инициативе Заренкова на Невском проспекте, дом 180, открылся центральный офис, который венчала броская вывеска: «ЛенСпецСМУ» – квартиры в рассрочку!» По сути это было агентство недвижимости, которое возглавила Елена Говорова.
Агентство занимало 150 метров в арендованном полуподвальном помещении. Оно регулярно затапливалось грунтовыми водами, вода поднималась до самых розеток, и сотрудники водоканала стали большими друзьями этого офиса.
Кривая объемов продаж неуклонно двигалась вверх. И как-то в офис на Невском вошел неприметный мужчина. Стал расспрашивать, что строится, сколько, почем, и что за человек Вячеслав Заренков?
– Я бы вам посоветовал съездить в Норильск. Ленинградцев там много. На юг они жить не поедут – слишком тяжелый период акклиматизации, а вот к вам – самое то! Я оставлю вам свой телефон. Меня Олегом зовут, кстати.
Они легки на подъем. 3 марта 2001 года Заренков, Елена Говорова с мужем и Михаил Иванов прилетели в Норильск. Табло в аэропорту показывало минус сорок восемь по Цельсию.
Норильск показался городом мертвым. Неужели здесь кто-то живет? В этих сталинках, спроектированных по большей части ленинградскими архитекторами из числа репрессированных. Дома стоят не на земле, а на сваях. Вечная мерзлота – по-другому строить никак.
Оказалось, что Олег из Норильска был не просто Олегом, а Олегом Бударгиным, главой города. На местном радио объявление дали. В актовом зале администрации собралось человек двести. Люди с интересом шли сюда, чтобы узнать, как приобрести в Петербурге квартиру.
Показали картинки, распечатанные на цветном принтере. Раздали образцы договоров. Все это вызвало живой интерес. Настолько живой, что на следующий день сотрудникам «ЛенСпецСМУ» предоставили целый Дворец культуры с микрофоном на сцене.
Прямо к сцене выстроилась очередь. В договора вписывали фамилии, на месте рассчитывали стоимость квартир.
Цены называть было боязно. За такие цены в приличных домах и побить могут! Однокомнатная квартира стоила миллион рублей! В 1998 году, работая в банке, Говорова получала зарплату в пять тысяч рублей, а в 2001 – пятнадцать. А тут – миллион, два и даже три миллиона. Когда такие цифры набирались на калькуляторе, было неловко, приходилось нули пересчитывать.
Но оказалось, что в Норильске даже водитель мог заработать на квартиру в Санкт-Петербурге.
На сцене выписывали документы. А в коридоре с печатью сидел Заренков. Его никак не представляли, не пиарили, не афишировали. Он скромно расписывался в договорах, которые клал к себе на колени, всякий раз внимательно проверяя, чтобы везде был указан номер дома и номер квартиры. Они очень боялись что-то напутать и сделать двойную продажу.
Ночью в гостиницу приходили инкогнито. Люди, которым не положено афишировать свое финансовое состояние, просили продать им по три, по пять квартир сразу.
– Понимаете, на всякий случай хочу, – поясняли вип-ночники. – Недвижимость ведь всегда будет в цене! Но договора мы оформим не на мое имя, вы понимаете?
Как не понять? У каждого свои проблемы.
Норильск оказался самым успешным региональным проектом. Летать туда пришлось регулярно. Встречали очень тепло. Гостям устроили экскурсию по рудникам, перемещали по суровому краю на вертолетах, кормили местными деликатесами. К ним тянулись – как-никак для северян они были людьми с Большой Земли, по которой здесь тосковали. Итогом всей этой работы стало открытие представительства компании.
8 сентября 2001 года «ЛенСпецСМУ» открыл в Норильске свой офис продаж. На церемонию прибыл губернатор Красноярского края генерал Александр Лебедь. «Интересный человек и нормальный мужик», – таким запомнился генерал-губернатор Вячеславу Заренкову после дружеского застолья.
О теории эволюции
Глядя на то, как легко, органично и ровно держится Вячеслав Заренков с людьми высокого ранга, Елена Говорова вспоминала стройного молодого человека в длинном пальто образца 1981 года – тогда, кажется, Галина ей впервые представила своего мужа. Сколько она его помнила, Вячеслав вечно был занят. Учился, допоздна пропадал на работе. А Димка, их сын, вполне самостоятельный современный ребенок. Поэтому Лена и Галя любили вдвоем «потусить». Пройтись по Невскому, заглянуть в кафе «Север». Там можно было прилично поужинать. Самый шик – это взять цыпленка табака и салат оливье. Обсудить проблемы за бокалом портвейна. Бутылка «777» стоила 4 рубля.
– Галин, я ума не приложу, что мне делать с моей ванной? Ну, издевательство чистой воды: полтора метра площадь – туда только корыто поместится! – жаловалась Елена подруге. – Я вот думаю, может сделать там душ?
– Отличная мысль! Я сейчас Славе скажу, он быстро организует.
Вячеслав приехал, сам вытащил ванну, сложил поддон из кирпичей, облицевал его кафелем, разобрался с сантехникой и все – душ готов.
Через месяц Говоровы купили настоящую чешскую стенку.
– Хорошая стенка, – оценила Галина. – Но что-то она у тебя слишком выпирает вперед.
– А что с этим поделать?
– Давай-ка я позвоню Славе…
Вячеслав снова не отказал. Стенку отодвинул, разобрал, лишнее отпилил, нужное вставил, фанерную стенку на место прибил – готово. Ничего не выпирает. Модернизированная модель!
«Вот ведь легкий на подъем человек и руки на месте», – отмечала Елена.
А теперь она думала, что Чарльз Дарвин со своей теорией эволюции отдыхает: какой удивительный рывок сделал Вячеслав Адамович за столь короткий период! От молодого мастера на стройке до серьезного бизнесмена, у которого все кипит, развивается, спорится.
Елена Говорова даже не представляла, как много свершений у него еще впереди.
Холдинг «Эталон»
В 2001 году Вячеслав Заренков учредил Управляющую компанию «Эталон». Таким образом, вырисовывалась следующая картина: к тому времени уже сформировалась девелоперская группа компаний, которая занимается поиском, юридическим оформлением и технической подготовкой новых территорий (пятен) под застройку. И была, собственно, строительная группа – проектирование, техника, производство строительных материалов. По замыслу основателя Управляющая компания «Эталон» должна быть уютной мансардой, в которой воспаряет стратегическая мысль. Своеобразной надстройкой для существующих структурных этажей – быть над стройкой (служба Заказчика) и над девелоперами.
«С образованием УК «Эталон» структура холдинга Вячеслава Заренкова приобрела законченный вид», – сообщили ведущие российские деловые издания.
Но они не написали – какой? Какой же это вид получился?
Оригинальный. Очень необычный, в том числе для США и Европы, где все ориентированы на узкую специализацию, где у каждой компании есть четкая межа, за которую без чертежа или инструкции никто не выходит. Девелопер – это одно. Строитель – это другое. Смешивать и взбалтывать не рекомендуется.
Вячеслав Адамович решил иначе. Весь процесс – сложная и многогранная цепочка взаимосвязей – от поиска перспективных земельных участков, проектирования, прокладки коммуникаций, производства строительных материалов, самого строительства и продажи жилья до эксплуатации готовой недвижимости, – все это он решил объединить в единый вертикально-интегрированный холдинг. Чтобы весь цикл работ по строительству жилья находился в одних руках и контролировался одной головой. Для этого и нужна Управляющая компания под его управлением.
Для бизнеса это было ново и неожиданно.
И как все новое вызвало споры и недоверие, если сказать мягко. Такую структуру управления категорически не признавали ни в России, ни за рубежом.
Сколько раз все это уже было?
Сколько раз он настолько неординарно подходил к проблеме, предлагая свой вариант решения, что от неожиданности или из вредности начиналась волна отрицания.
Нет инвестиций для жилищного строительства, нет государственного финансирования – он разработал Договор долевого участия (ДДУ), обеспечив мощный приток частных сбережений, чем просто реанимировал целую отрасль.

