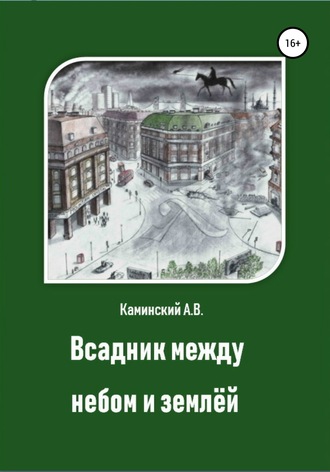 полная версия
полная версияВсадник между небом и землёй
* * *
После получения зарплаты все актёры почувствовали такой творческий подъём, что даже… пришли на репетицию. Эх, приятное это всё же дело – зарплату получать! Всё-таки, как не крути, а жизнь-то не такая и плохая штука.
Единственным, кто обрадовался больше других и не пришёл на работу, был светотехник. За пульт посадили Виталю – ручки крутить.
После третьего прогона последней сцены все отдыхали. Лежали пластом кто где.
– Анжелика, мама сказала, чтоб ты с Генкой посидела, пока она в магазин пойдёт, – с этими словами в зал вошёл Костя с кое-как укутанным в одеяло младенцем в руках.
Анжелика осторожно взяла в руки ребёнка и стала ходить туда-сюда перед сценой.
– Вот видишь, – говорила она Джорджу, – я не только строгий режиссёр. Но и любящая мать!
В этот момент свет в зале погас.
– Эй, Виталя! – сразу заорал кто-то из темноты. – Щас на х… пойдёшь отсюда!
– А чё я-то?
– Да то же всё! Я те сказал маленько затемнить, а не всё, бл…, вырубать!
– Ладно, заткнитесь там уже…
– Так! Свет быстро сделали! – это уже был голос Анжелики-в-гневе. – Виталя, я тебя зачем туда посадила?! Кто там рядом? Егор, дай свет быстро!… Э, это кто там ко мне лезет?
– Да нужно больно, – проворчал кто-то в темноте. – Я бороду потерял.
– Ну и ищи свою бороду где-нибудь в другом месте!… Так, что там со светом?
В это время зажёгся ярчайший свет мощного прожектора. Все закрыли глаза руками.
– Виталя, бл…!!! – сразу заорали со всех концов зала. – Убери свет!!!
Виталя в панике убавил свет.
– Ладно, не орите на него, – громко сказал Джордж, поднимаясь с лавки. – В темноте у меня возникла гениальная идея!
Все обернулись в его сторону.
– У меня с собой есть 20 рублей…, – продолжил он, но закончить ему не дали.
– У меня пятнадцать, – отозвался кто-то.
– Даю 50 рублей, – торжественно изрёк Егор. – На такое дело – не жалко!
– Ну, что ж, – вставил своё веское слово Костя. – Идея неплохая. У меня тридцатка. Но кто побежит?
Все разом посмотрели на провинившегося Виталю.
– Нет, – строго сказала Анжелика со своего места.
– Ну, Анжелика, – заскулили со всех сторон, – мы же и так всё прогнали, а Виталя всё равно… он сбегает… мы заслужили…
– Нет, – отрезала режиссёр, и весь скулёж прекратился. – Пойдём мы с Джорджем.
Все, как дикие, заорали «ура».
Джордж остолбенел.
– 4 -
…А тут и зима подоспела. Благо заготовил наш лесовик, как и положено зверям, целый погреб всяких припасов: ягод насушил, грибов, листьев душмянки к чаю, мяса накоптил заячьего (Топтыжка силён в охоте оказался), рыбы прорву насушил-накоптил, и груздей насолил белых (соль пришлось-таки обменять у бабки Варвары на оленьи рога, которые Акинфий Дмитрич обнаружил в глубине леса в овражке).
Топтыжке хотел было будку на манер собачьей смастерить, да не вышло – тот как обопрётся об неё, чтоб за ухом почесать, так она и развалится – подрос Топтыжка к зиме-то. Пришлось его на лютые морозы, что начались уже с ноября, к себе в дом брать. Медведю-то всё радость, а Акинфию Дмитричу убирать за ним счастья мало было. Слава богу, приучил его в случае нужды на улицу проситься.
– Всё одно в спячку впадёт, – думал хозяин. – Не всю ж зиму бегать будет.
Топтыжка однако никуда впадать не хотел, и как только зарядили первые снегопады, носился дни напролёт по округе и визжал от радости, что твой ребёнок.
С печкой – особое дело вышло. За полгода жизни в лесу Акинфий Дмитрич научился делать всё – зайца ободрать-на-костре-закоптить, перепёлке башку срубить-ощипать, погреб выкопать, сарай починить, да мало ли ещё что! А вот печку… Печку, чтоб ей пусто было, топить по-людски не мог. Не мог и всё тут! Плохая была печка. Переложить бы её заново, да руки всё не доходили с заготовкой с этой. Стоит вроде и ладно. А вот как до дела дошло… о-о!
Топил её, сироту, Акинфий Дмитрич обычно по полдня. В первую неделю ноября, как от холодов уж невмоготу стало, затопил её грешную и сам не рад был. Дым в трубу лететь наотрез отказался и выходил откуда ни попадя. Акинфий Дмитрич с Топтыжкой у крыльца пережидали до полудня, пока из двери входной весь дым из избы не выйдет. Потом, вроде, горение в печи налаживалось, и до вечера всё топилось исправно.
В первый раз, правда, так разозлился на печь, что начал все дрова, уже горевшие в ней, водой заливать, в дыму и копоти из печи выкладывать и в ведро складывать. Ох, и карусель началась! Мать частная! Чуть избёнку не спалил. Искры на пол летят, дым в лицо валит, злость берёт на всё натуральное хозяйство это – хоть матушку репушку пой! Верхонки прожёг, весь потолок закоптил гарью – вот всё чего добился. Но понял – в этом деле гоношиться, только себе хуже. Вот так вот жизнь лесная уму-разуму учить стала.
А утром – другое дело. Ложишься с вечера спать – жарко в избушке, просыпаешься от жуткого холода. Едва продрав глаза, принимался Акинфий Дмитрич опять дрова в рот печке запихивать, а не тут-то было! Золу-то, добрый человек, уж будь любезен, вынеси из поддувала! За день-то её аккурат полный короб насыпался. Приходилось, позёвывая, шуфельком в нутрях печных поорудовать, всё выгрести, а потом по темноте утренней из избы с коробом этим выходить на мороз и высыпать золу. Только тогда топить принимался. Но об этой процедуре я вам уж сказывал.
Одним словом, прошла неделя, если не две, пока Акинфий Дмитрич не постиг все тонкости печкиной «души».
– Печка – она ж, как живой человек, – говаривал хозяин Топтыжке, – к ней уваженье нужно, подход. А иначе отвернёшься, а она тебе – раз! и поддувало распахнёт, когда не надо; помнишь, как вчера оно было? Да-а. Дверца-то возьми да настежь распахнись, а пламя – в комнату, как тот дракон! Не приведи господь… Слава богу додумались поддувало ведром припереть, а то-о… Эх, Топтыжка, страшная это штука – стихия! Возьми к примеру воду, а уж об огне так и страшно представить… Кстати, идём-ка, мил друг, за водой.
Теперь Акинфий Дмитрич перед каждой растопкой обметал плиту гусиным крылышком, садился перед заправленной печкой на корточки и просил топиться исправно. Только после такой процедуры он поджигал коринки, торчавшие сквозь поленья, и трепетно ждал – задымит, не задымит.
И больше она не дымила.
Человек – он, как таракан, – ко всему привыкает. А животное и подавно, хотя о звериной натуре своей лесовик наш вспоминал крайне редко – не до того было. Скоро Акинфию Дмитричу стало привычно ни свет, ни заря подыматься. Даже интересно. Мир зимний ещё дремлет – сорока не тарахтит, воробей не летит, петухи разве что в деревне – слышно как надрываются в курятниках. А ты уж и делом занят – мочишься под сосёнкой да пейзаж разглядываешь. Край земли розовеет, звёзды ночные на нет сходят, светает. А у тебя уж и дрова принесены, и зола выгреблена. Хорошо! Печку подпалишь и айда на лыжах по лесу, капканы оленьи разведывать. Пусть печь продымится через открытую дверь – Топтыжка всё равно никого чужого внутрь не пустит, он завсегда поблизости бегает. Так зиму и жили.
Зимой дел всё меньше, чем в иную пору. Появилось время и о себе подумать, пофилософствовать на досуге, в сундуке старом на чердаке порыться – много там вещиц чудных припасено было. Книги, например. Стал вечерами разбирать их, от грязи и пыли счищать, в стопки складывать.
Дошло дело и до тренировки и развития своей звериной натуры. Акинфий Дмитрич постепенно привык, что никто посторонний к нему за километр не сунется и не упрекнёт, как в былые годы, в нерациональности, а потому и не препятствовал своей животной сущности вести себя так, как и положено только зверям лесным – радоваться звериной жизни! Сначала это у него плохо получалось – сказывались годы, проведённые на руководящих должностях, но потом, постепенно приучив себя валять дурака регулярными упражнениями, стал редким специалистом в этом деле. Да и Топтыжка помогал по-свойски: то на голову встанет, то кубарем с крыльца съедет, то с горки катается, запихав задние лапы в зубы. Акинфий Дмитрич премудрость эту стал усердно изучать и через пару недель съезжал с горок с ногами во рту не хуже Топтыжкиного. Потом научился забираться на сосны и прыгать с них в сугробы с криком «Й-е-эх ты!» Топтыжка залазил всегда выше Акинфия Дмитрича, однако прыгать в сугроб и одновременно орать почему-то не мог.
Одно время мужиков на большой дороге в темноте пугали – пусть думают, что лешие существуют. Нарядятся с Топтыжкой в рваньё последнее и покажутся издали так, словно мельком. Народу и этого хватало. Скоро и сказки поползли по округе про те заповедные, дескать, места. Чтобы ёлку к Новому году срубить, шли мужички теперь со святой водой, долго вокруг приглянувшейся красавицы заговоры читали, мол, позволь Хозяин Лесной ёлку срубить, мы тебе дары принесли, и кладут на снег кусок пирога или лепёшку, и уходят. Акинфий Дмитрич с Топтыжкой веселятся от души, подарки съедят, а на другое утро тот же мужик придёт и ёлку эту несчастную, крестясь, срубит. В общем, потеха да и только! Так вот и фольклор местный развивать стали.
Жизнь в лесу, надо сказать, внесла свои коррективы в звериный кодекс, которому поначалу желал следовать Акинфий Дмитрич. От совершенного одичания он отказался, а потому решил всегда жить только в избушке, а не в норе или берлоге, питаться всегда пищей жареной или варёной, а не сырой, и мыться обязательно. Топтыжка как существо совершенно дикое, не делал ни того, ни другого, ни третьего, поэтому Акинфий Дмитрич решил стать нечто средним между зверем и человеком.
– Я уж теперь и не знаю, кто я, – говорил он Топтыжке. – Просто… просто – Некто.
Так он себя часто и называл с той зимы.
В сундуке, о котором я как-то упомянул, лежали всякие книги. После их некоторой реставрации выяснилось – книги старинные. Видать ещё со старообрядческих времён. Самой старой было «Житие Святых» и «Наставления Пресвятого Сергия» издания 1702 года, петровские еще, стало быть. Из «новых» были тут книги за конец 19-го века – из знакомых имён Акинфий Дмитрич узнал только Тургенева «Записки охотника» и Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». В великом множестве – штук пятьдесят, не меньше – были также какие-то толстые засаленные книжонки без обложек. Только по названию на одной из страниц «Империализм и эмпириокритицизм» Акинфий Дмитрич понял, что он оказался редким владельцем бесценного собрания сочинений Владимира Ильича Ленина, которого он с детства любил. Единственно, за что он не любил его, так это за то, что семью царя расстрелял, причём Акинфий Дмитрич думал, что сделал он это собственноручно.
«Почитаю на досуге», – с этими словами Акинфий Дмитрич выбрал из груды наименее обтрёпанный томик Ленина, книжки Тургенева и Гоголя и пошёл с чердака спускаться.
Так вот к чтению под старость лет и пристрастился. Эх, коллеги бы бывшие шибко удивлялись, глядя на такие дела!
Прошёл Новый год. Справили его так весело, как отродясь Акинфий Дмитрич не справлял никаких праздников! Всю округу в новогоднюю полночь на дыбы подняли. Народ дивился – эвон как Хозяин-то Лесной радуется! А в самую глубокую ночь сделали они с Топтыжкой для людей деревенских новогоднее представление под названием «Всадник без головы». Народ после оного «представления» в массовом порядке стал съезжать с насиженных мест, а ближе к весне те, кто остались, церковь в деревне своей построили – грехи замаливать. Одним словом, повеселились на славу они с Топтыжкой! Хороший был Новый год.
* * *
Топтыжке не нравилось, что хозяин перестал заниматься озверением и стал подолгу сидеть за столом у окна, гонять чаи с душмянкой да листать какие-то сырые жёлтые плохо пахнущие бумажки. Топтыжка недовольно урчал, пробегал рысцою пару раз вокруг избы и демонстративно мочился на крыльце в знак протеста. Потом, несколько раз оборачиваясь – не выйдет ли хозяин, – уходил в заснеженную чащу. В спячку этот зверёныш так и не впал.
А хозяин в ту пору как раз читал «Записки охотника».
«Вот надо же, – думал Акинфий Дмитрич, глядя на эволюции Топтыжки, – интересная вещь – бродит дворянин с ружьишком по лесам, ночует в деревенских амбарах на соломе, мокнет на болотах с пастухами, никаких тебе квитанций за квартиру, зарплат, любезностей «ах, вы сегодня шикарно выглядите, товарищ Фрося» и прочей ерунды. Настоящая звериная жизнь! Молодец, Иван Сергеич!» После Тургенева окружающая действительность стала восприниматься в более облагороженном, если хотите, свете. И даже романтическом! От чего Акинфий Дмитрич по долгу службы избавлялся всю сознательную жизнь. «Зверю этого не понять», – думал он, глядя вслед уходящему Топтыжке. И то верно. Показателен был инцидент с Топтыжкой, которого повёл как-то Акинфий Дмитрич любоваться на картину «Берегите лес» и возле которой Топтыжка вместо тихого восхищения наклал кучу и весьма приличную. Да, не понять косолапому глубину палитры и силу мазка, не вобрать дух Прекрасного, а Акинфий Дмитрич сделать это хотел и уже начал понемногу что-то вроде этого чувствовать и понимать.
Он считал, что ни в жизнь не увидеть ему этот мир так, как он видел его в 18 лет. Но нет, позвольте, никуда это не делось, просто сидело где-то глубоко внутри, вдавленное в самое дно его души борьбой за место под солнцем. Стоит этой борьбе достигнуть апогея и наполнить человека до краёв, как он обыкновенно падает под её тяжестью. Борьба слезает с него, как шуба, которая слишком велика, а человек заболевает или вовсе умирает без её согревающего кровь прикосновения. Ведь в борьбе можно одолеть разве что неприятеля или, на худой конец, самого себя, но в борьбе одолеть саму борьбу – это удел немногих.
Сбросив так долго хранившую его от всяческих неприятностей ношу борьбы, Акинфий Дмитрич оказался один на один с неким невостребованным дотоле, но всё же обитавшем где-то в нём, странным восприятием действительности, чем-то сродни восприятию ребёнка, в результате которого весь мир предстал вдруг в каком-то ином свете. Вместе с борьбой из него ушла тревога, постоянно преследующая каждого взрослого человека до конца его дней – тревога за всё и за всех, некий неопределённый груз ответственности за всех, кто причастен к твоей жизни, от которого испокон веков избавлялись только выпивкой и прочей дрянью. Разум стал чистым и пустым, как после дневного сна. Вся муть переживаний, сомнений, боязни неправильного выбора – всё это осталось в том сне, остатки которого – о, счастье – наконец-то уходили безвозвратно.
Акинфию Дмитричу хватило семи рассказов из «Записок охотника», чтобы понять это. В тот первый по-настоящему весенний мартовский день он запрокинул голову к небу, куда уходил голубой дым из трубы, и сказал:
– Господи, как хорошо, что я – живой!
– 5 -
Прежде чем поведать читателю о том, как Акинфий Дмитрич пролез в картину «Берегите лес» и что он там делал, стоит упомянуть о приведших к этому удивительных событиях.
Начну с того, что в самом начале весны Акинфий Дмитрич повредил себе ногу. Он лежал в этом чёртовом овраге и орал благим матом. По счастью Топтыжка был недалеко. Он прибежал на вопли хозяина, завалил его к себе на могучую медвежью спинягу и повёз домой. Уложил, как мог, на лавку-кровать.
Лёжа в бреду и изнемогая от боли, Акинфий Дмитрич стал наблюдать прелюбопытнейшие явления, известные в науке как галлюцинации. Сперва из тумана вылезло что-то тёмное и большое и начало сильно сопеть и дышать в лицо, пока не превратилось в голову Топтыжки. И вновь туман.
Прошло какое-то время, и боль отступила. Стало полегче. Где-то послышался медвежий рёв и чей-то недовольный бас:
– Да привяжи ты его к будке, в конце-то концов, невозможно сосредоточиться!
За окном стучал дождь. В единственной комнате избушки за столом сидел здоровенный бородач в мужицкой телогрейке и ватных штанах, в кирзовых сапогах и что-то чиркал на листке бумаги. Напротив него, опёршись лысой головой о стену и устремив взор к закопчённому потолку, сидел второй. Он был в дорогом костюме-тройке, местами, правда, запачканном грязью. Его строгий наряд совершенно не сочетался со скромной, если не сказать – убогой, обстановкой избушки. Кроме лысины во всю голову достопримечательностью его облика были рыжие усы и бородка.
– Ты меня, Иваныч, рисуй, как будто бы я в будущее гляжу! – сказал лысый.
– Не верти башкой, – угрюмо отозвался бородач.
– … как будто бы я гляжу в будущее, – продолжал лысый, – и вижу там новую, знаешь ли, счастливую…
– Не моргай, чёрт возьми.
– … счастливую жизнь, – закончил лысый, интенсивно моргая.
– Ты чё моргаешь? – возмутился бородач.
– Да вот что-то у меня там…, – позирующий стал растирать кулаком левый глаз. – То ли мошка попала, что ли?…
– Вот, дьявол, – бородач бросил на стол карандаш. – Ты знаешь, как тяжело рисовать голову, когда ею всё время вертят и моргают?!
– Ну, не шуми, не шуми… Всё, я уже не моргаю. Давай, твори.
– Твори…
Бородач опять принялся рисовать, а Акинфий Дмитрич лежал на своём месте и, словно в полудрёме, рассматривал этих двоих. Вдруг комната накренилась, перевернулась и пошла крутиться, как карусель, и темнота вновь заслонила собой всё.
– Эй, товарищ, – раздался тихий голос. – Това-а-арищ!
Из кружащихся белых и жёлтых пятен соткалась голова, сощуренные внимательные глаза разглядывали Акинфия Дмитрича в упор. Это был тот лысый субъект в костюме, которого рисовал бородач.
– Эй, товарищ, как вы? – шёпотом спросил субъект. – Живы?
Акинфий Дмитрич не верил своим глазам. «Боже ж ты мой, – пронеслось у него в мозгу, и он даже попытался оторвать голову от подушки. – Да ведь это же – Ленин!»
– Лежите, лежите, вам нельзя вставать, – сказал Ленин и аккуратно уложил голову больного. – Вот так… вот так. Лежите.
Акинфий Дмитрич сглотнул комок в горле и еле слышно пробормотал:
– Ты пошто… царскую семью… расстрелял?
– Какую свинью? – не понял Ленин и подставил своё ухо ближе ко рту больного.
Акинфий Дмитрич хотел было объяснить, да только и смог, что прохрипеть нечто неразборчивое. В это время в избу вошёл бородач и положил на стол двух грязных подстреленных зайцев.
– Ну, как он? Что говорит? – спросил он басом.
– Связь прервалась. Бредит, – озабоченно покачал головой Ленин и стал зажигать папироску. – Говорит, что я стрелял в какую-то свинью.
– Понятно… Ты жрать будешь?
– Буду, – встрепенулся Ленин.
– Тогда чисть зайца.
Ленин скептически глянул на стол, где лежали убитые, а потом на перебинтованную ногу больного.
– Знаешь, Иван, по-моему, у него не перелом…
Бородач молча принялся точить нож.
– … а просто сильный вывих, – закончил осмотр ноги Ленин.
– Ну, дай ему драконьей мази, – порекомендовал художник, – и коли не помрёт, то жить будет.
– Думаешь? – Ленин задумчиво погладил свою бородку, словно произнося классическое «козёл, говоришь?»
Бородач тем временем обвязал ногу зайца бечевкой, подвесил тело убиенного за эту ногу к штырю в потолке и принялся аккуратно сдирать шкуру – сначала сделал надрез по окружности ноги, а после принялся рукой стаскивать заячью одёжку, как шубу, изредка помогая ножом отделить кожу от розовой мякоти. Ленин в этом направлении старался не смотреть.
– Ты бы в сарайке этим занимался, – посоветовал он.
– Там холодно, – ответил художник.
Тут Акинфий Дмитрич, собравшись с силами, издал серию звуков:
– А-а… мм… ле… лени… мбрг…
Бородач оглянулся на лежанку:
– Ишь ты, опять забеспокоился.
Наконец больной обрёл дар речи и прошептал:
– Ты пошто… ты пошто царя порешил… царя… лени… ленин?
Ленин прислушался к бормотанию больного и сказал бородачу:
– Опять началось. Теперь говорит, что я царя грохнул. Упоминает какую-то Лену. Что-то надо передать Лене. Жена, поди…
Бородач строго проговорил:
– Намажь ты ему ногу, пущай затихнет. И иди воды принеси в котелок. Я уж сам жрать захотел…
Ленин наклонился над больным и отчётливо произнёс:
– Эй, товарищ! Тут нет никакой Лены! Вы слышите меня? Я – лесник здешний, зовут – Степан Акимыч. И я никого, подчёркиваю, никого не убивал! Это вон, Шишкин у нас, – бывший Ленин указал на бородача, – лесной убийца.
– Да ладно те, – пробасил художник. – Иди-ка, братец, за водой.
Степан Акимыч поднялся с лежанки больного и стал неторопливо стряхивать грязь с пиджака. Шишкин с недовольным видом следил за его манипуляциями.
– Ты костюм-то снял бы, – сказал он. – Вон уж и глины насобирал. А мне в нём сегодня ещё в Петербург пилить.
– А как же портрет?
Шишкин оторвался от разделки заячьей тушки и, подумав, ответил:
– Потом домалюю.
– Ну, ну, – лесник вынул котелок из-под стола и вышел из избы.
Акинфий Дмитрич забылся тяжёлым сном.
– 6 -
Проснулся он оттого, что кто-то дышал ему в лицо. Первой пришла мысль, что это Ленин пытается его задушить, но это оказался Топтыжка, верный мохнатый друг.
– Ладно, ладно, – отмахивался Акинфий Дмитрич, – будет тебе, живой я.
Медведь радостно запрыгал по избушке. В ней никого не было. «Куда же они делись?» – подумал Акинфий Дмитрич, но тот час же его поразило другое – нога-то не болела! Акинфий Дмитрич сел, свесив ноги с лежанки. Потом попытался подняться и поднялся. Большой синяк под коленкой был единственным напоминанием того драматического падения в овраг. Ходить было трудно, но можно. «Чудеса! – подумал Акинфий Дмитрич. – Чудеса, да и только! Вот она сила обычного сна!» Он был рад, что все его ночные галлюцинации развеялись бесследно вместе с болью. Держась за стену, он добрёл до двери и распахнул её настежь.
Его обдало свежей предутренней прохладой. Капли росы падали на крыльцо с веток лохматой сосны. Край горизонта, там, где виднелись игрушечные кубики деревни, розовел свежей кровью новой зари. В небе над избушкой ещё угадывался контур Большой Медведицы, перевёрнутой вверх ногами.
Когда Акинфий Дмитрич, поёживаясь, сунул руки в карманы штанов, то сразу же нашарил там какой-то флакон. Он извлёк его из кармана и непонимающе уставился на сей предмет. Это был маленький бутылёк, в котором трепыхалось чёрное маслянистое желе. На горлышке бутылька, на кусочке приклеенной бумаги, от руки была выведена единственная надпись: «Драконья мазь».
* * *
Болезнь вымела весь остававшийся с прошлых времён сор из головы Акинфия Дмитрича. Он почувствовал себя новым человеком.
Но свято место пусто не бывает, а потому в самое скорое время в пустую вычищенную квартиру восприятия, туда, где раньше попивали чаёк Здравый Смысл и Житейская Мудрость, забрело Неведомое. И это было вполне естественным – Природа, видя, что интеллект Акинфия Дмитрича, её злейший враг, не пополняется ничем со времён прочтения «Записок Охотника», с удовольствием заполнила своими эмиссарами образовавшуюся информационную вакансию. И стали Акинфия Дмитрича мучить ночами всякие кошмары: то, проснувшись вдруг, глаза красные в окне увидит, то на трубе в вечернем сумраке скорченную тень высмотрит, то посуда вдруг сама собой начнёт биться, а однажды ночью под избою он услыхал ти-и-ихонький такой голосок: «Бу-бу-бу-у-у-у… бу-бу-бу-у-у-у-у…».
Начал Акинфий Дмитрич учиться креститься. Благо жил он в старой церквушке, как мы знаем, и вместо табуретки у него с весны сундук стоял – с чердака приволок. В нём-то он и отыскал более или менее удобочитаемый вариант Святого Писания за 1911 год. Прочитав все Евангелия самым тщательным образом, изучив карту путешествий Спасителя, его Апостолов, имена всех спонсоров и редакторов издания, тип гарнитуры и способ печати, как надо креститься, не нашёл. Зато научился молиться. Стал читать перед сном «Отче наш». Хорошо помогало от Красных Глаз. Но голосок под избой извести не удалось. Стал читать в довесок ещё одну молитву. Голосок стал вопить потише, но стоило один вечер лечь без молитвы – вопил полночи, что твоя пилорама. Днём, чтоб не падала посуда, садился вместе с Топтыжкой посреди комнаты и вслух читал «Послание к коринфянам». Готовить еду уже не было времени, но о ней как-то и не вспоминалось. Прерваться было нельзя ни на минуту – тот час что-нибудь происходило. Акинфий Дмитрич, дабы не сойти с ума, от еды отказаться всё же не мог и всё это лето питался одной земляникой и прочей малостью, которые научился притаскивать в ведёрке верный Топтыжка. Из избы теперь выходил только по нужде, да и то не всегда. Он страшно исхудал и оброс похлеще Джона Леннона в 1969 году. Жизнь превратилась в перманентный вялотекущий кошмар. Его кульминацией и апогеем стала ночь на Иванов День.
За окошком выл ветер, и обломки сучьев ударяли в стекло избушки, которая вздрагивала от каждого порыва. С потолка то и дело сыпались глина, пыль и дохлые мухи, что выпадывали из многочисленных щелей. Акинфий Дмитрич, дрожа, как осиновый лист, сидел в нарисованном на полу круге и громко нараспев читал «Апокалипсис», а вокруг него ходила маленькая такая девочка в светленьком платьице да приговаривала:

