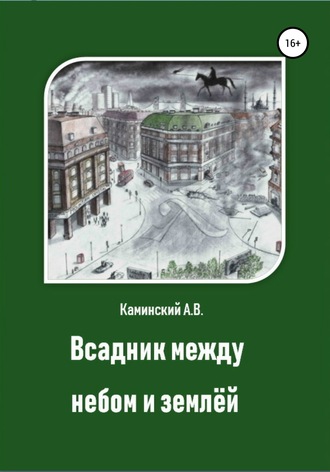 полная версия
полная версияВсадник между небом и землёй
– Где ты её взял?
– В юношеской библиотеке, – сдавленно проговорил Джордж.
– Странно, как это запрещённая литература оказалась в библиотеке? Кто же тебе её напечатал, а?
– Я же сказал, она была в библиотеке на абонементе.
– Ладно. – Следователь вылез из-за стола и прошёлся по кабинету, скрипя до тошноты нагуталиненными сапогами. – С этим после. Меня интересует, как Чкалов описал своё знакомство с тем конструктором?
– Мм, он сказал, что у него был бриллиант в галстуке и это был конструктор самолёта-неведимки. Кажется, всё.
– Самолёта-неведимки?
– Ну да.
– Та-а-ак, – следователь обернулся к стоящему у окна лысому человеку в военном форме и в пенсне. – Ты слыхал, Палыч, что заливает этот соловей?
– Не глухой.
– Ну, допустим, – следователь опять обратился к насмерть перепуганному Джорджу. – Кто вообще в тот вечер был на даче у Волошина?
– В какой вечер? А, ну его девушка сказала, эта, Вера сказала, что вот этот конструктор был и этот… Ту.. Тухачевский.
– Кто?
– Тухачевский…
– Что? – округлил глаза следователь. – Да ты знаешь, соловушка, что за дачу ложных показаний против героя гражданской войны, Маршала Советского Союза…
– Подожди-ка, подожди, – спокойно сказал человек в пенсне с заметным кавказским акцентом. Он отвернулся от окна и подошёл к столу. – Человек говорит, а ты его пугаешь. Жора, продолжайте, пожалуйста. Дай ему воды.
Следователь налил из графина стакан воды и поставил перед Джорджем. Джордж выпил залпом.
– Что там делал Тухачевский?
– Волошин читал стихи, а все слушали. А потом, Чкалов сказал, что все легли спать и спали непросыпаясь три дня.
– Ого-го, – следователь бросил писать протокол. – Спали три дня, да?
– Он так сказал.
Следователь посмотрел на человека в пенсне. Тот вопросительно поднял одну бровь, но ничего не сказал.
– Хорошо. Теперь немного о тебе поговорим, продолжил следователь. – Как ты оказался на этом вокзале в Сокольниках? – продолжил следователь. – Ты тоже приехал из Коктебеля?
– Нет, я из Барнаула. Я там живу…
– Адрес какой?
– Ну, – Джордж ляпнул наугад, – улица Германа Титова, 34.
– Кто это такой – Титов? – спросил следователь, записывая. – Стахановец что ли?
– Космонавт.
– Космонавт?
– А вы не знаете? Он после Гагарина вторым в космос полетел. В 1961 году.
Следователь и человек в пенсне переглянулись.
– Жора, – с укоризной сказал человек с кавказским акцентом. – Вы мне показались настоящим комсомольцем, серьёзным человеком, а сейчас так неуважительно с нами поступаете.
– Да нет, а что я такого сказал? Герман Титов, второй советский космонавт. Покорители космоса! Это же все знают.
Человек в пенсне с сожалением развёл руками.
– Нет, вот всё же было хорошо! – опять начал орать следователь. – Какой ещё – мать твою – космос? Ты чё, больной или дурак что ли?
– Не кипятись, Георгий. Не пугай человека, – проговорил обладатель пенсне. – Пусть Жора всё напишет, всё что знает. А мы разберёмся. Дай ему бумагу…
– Да ничего я больше не знаю! – закипел от негодования Джордж и тут его понесло, как на парусах и прямо на волну цунами. – Можете сказать, что я хотел убить Сталина! И этого… и Будённого!
Следователь выронил перо на лист бумаги, потекла клякса…
– Вот и хорошо! – успокаивал Джорджа человек в пенсне, поглаживая его по спине. – Так и напиши – хотел убить Сталина и Будённого. Да, а что здесь такого? Ничего страшного, да, пиши, пиши…
Следователь схватился за голову – дело явно принимало какой-то незапланированный оборот.
– И ещё я знаю, где скрывается Троцкий! – озлобился вдруг Джордж, понимая, что пропал. – Он живёт в Мексике!
– О! Вот видишь как хорошо! Георгий, да Жора у нас вообще молодец, – засмеялся человек в пенсне. – Он знает всё! Да мы сейчас с ним все разведки мира вокруг пальца обведём! Я сразу понял, что Жора наш человек. Кстати, у вас одинаковые имена – Георгий и Жора – это же одно и тоже, или я ошибаюсь? Слушай, – он нахмурился, – Георгий Иваныч, а вы случайно не знакомы?
Следователь ударил кулаком по столу, но получилось, что по кляксе на листе бумаги.
– Я вот сейчас с этим Жорой по другому поговорю, – рявкнул он. – Он щас у меня соловьём запоёт!
– Да Георгий Иваныч, я же пошутил, – засмеялся человек в пенсне. – Что ты в самом деле…
Следователь вышел из-за стола, приоткрыл дверь и крикнул в коридор.
– Баранов! Гришка! Загляни на минутку.
Человек, говоривший с кавказским акцентом, продолжал смеяться и даже снял пенсне и вытер глаза платком.
И тут произошло следующее: Джордж с такой силой рванул к двери, что следователь едва не упал, а когда он сообразил, что подследственный удирает, Джордж уже нёсся стремглав по коридору, расталкивая сотрудников.
«Стреляй! Уйдёт!» – послышалось сзади, и грянули два выстрела, но Джордж уже свернул в незаметный ход под лестницей и с силой рванул дверь. Он ещё услышал, как кто-то с кавказским акцентом, захлёбываясь от смеха, крикнул: «Вперё-о-од! В по… в погоню! Нет, я не могу…».
За дверью начинался узкий коридор, слабо освещённый лишь редкими запылёнными лампочками, болтавшимися на потолке. И вдруг он оказался на распутье: вправо и влево уходили два совершенно чёрных хода. Из правого несло гуталином, из левого – хвоёй. Джордж побежал налево. Под ногами был уже не каменный пол – мягкая упругая земля. Бежать стало трудно – попадались какие-то ветки и корни. В следующий момент Джордж едва не столкнулся нос к носу с большущим стволом дерева. Он остановился перевести дух, согнулся пополам – страшно кололо в боку. «Ёжи-и-ы-ык!» – пронеслось где-то далеко. Джордж прислушался, не веря своим ушам. «Медвежона-а-ак!» – послышалось с другой стороны. Джордж поднял голову – в высоких чёрных кронах деревьев поблёскивали крохотные звёзды Большой Медведицы. Джордж потихоньку, ещё держась за бок, побрёл дальше.
Вскоре запах сырой земли и смолы сменился запахом пыльной мебели, а где-то за стенкой послышался голос Анжелики и чей-то деловитый бас. Споткнувшись о пустое ведро, Джордж прямо лбом уткнулся в завешенное чёрной шторой окно. Штора колыхалась от сквозняка.
Во дворе уже темнело. Шёл мелкий снег. Внизу на подступах к ступенькам театра показался знакомый силуэт. Это был Костя. Джордж постучал ему в окно, но тот не услышал. На аллее зажёгся одинокий фонарь. Он светил, как умирающая звезда, – только для себя. Люди неторопливо прохаживались в его тусклом свете, выгуливая собак, а дальше в глубине двора, на серебристом катке гоняли юные фигуристы – оттуда доносился смех и свистки тренера.
* * *
В Каминной комнате было темно и пусто. Стоял запах яичницы и дорогого вина. Дрова пылали в печи, и отсвет огня падал на картину на стене.
Из нарисованного домика вышел человек в звериной шкуре. Из леса вразвалку к нему подошёл здоровенный медведь. Человек что-то сказал ему, медведь ответил, и, так, разговаривая, они вместе подошли к краю картины. Человек заглянул в комнату и что-то сказал зверю. Тот тяжело вздохнул и уткнулся мордой в ладонь хозяина. Человек перекрестился и стал задом пятиться от картины. Он отошёл подальше к соснам, разбежался и в одно мгновение выпрыгнул из картины прямо на пол Каминной комнаты.
Костюм, висевший на спинке стула, словно заранее подготовленный, привлёк его внимание. Человек переоделся и в темноте стал искать выход из комнаты.
Из картины на стене на него грустно смотрел медведь с человеческими глазами.
* * *
…Около половины двенадцатого, когда Роман наконец-то вышел из метели (причём, оказавшись опять рядом с пивбаром «Марина»), задняя дверь его коттеджа, ведущая в огород, с еле слышным скрипом отворилась, и из неё, осторожно ступая, вышла Ведьма с метлой в руке. В небе опять сквозь разрывы облаков выглянул молодой месяц, и ведьма недовольно погрозила ему кулаком. Она огляделась по сторонам, потом покосилась на большущий сугроб, образовавшийся на месте будки Шарика, и только затем обернулась к Троллю:
– Всё чисто. Веди его.
Тролль вышел из двери спиной, а руками он словно вытягивал из темноты дома какой-то длинный невидимый трос. Шагнув на заметённое низенькое крылечко, Тролль обернулся к Ведьме и кивнул, мол, «готово». Ведьма мигом села верхом на метлу, Тролль заскочил к ней за спину, и метла взвилась в воздух. Они канули в темноту морозной ночи, но, что удивительно – оставив после себя след в виде утоптанной тропинки, ведущей от заднего крыльца прямёхонько к высокой железной ограде. Её калитка сама собой растворилась, словно приглашая выйти к дороге и прогуляться под звёздами.
Из открытой задней двери дома, в недоумении озираясь, будто только что родившись на свет, вышел человек без шапки, без шубы и даже без валенок. Он вообще был босиком, но зато в новеньком костюме, сшитым, словно на заказ, точно по его размеру. Человек замер у порога и с удивлением рассматривал неосвещённый кирпичный дом, из которого он вышел, занесённый снегом огород и огоньки соседних коттеджей вдали. Но уже через минуту, не замечая жуткого мороза, «новорождённый» направился по тропинке к выходу из ограды.
Когда он уже двигался по дороге в сторону остановки «Двадцать пятого», а до неё было километра два-три, из-за поворота Каштанового переулка в свете месяца показался бодро шагающий Роман. На ходу он распевал во всё горло: «И вот мне присни-и-ила-а-ась!…» Он спешил, боясь, что Ким и Клим не застанут его дома в такой лютый мороз.
Одну полторашку «Барнаульского» он всё-таки потерял.
ЧАСТЬ 2
Человек из картины
– 1 -
Одним людям надоедает семья. И они разводятся. Другим надоедает правительство, и они, выкрикивая реакционные лозунги, неистово матерятся на кухне. Очень многим людям надоедает работа, но они продолжают ходить на неё из принципа, согласно которому всё равно куда-то ходить надо, ведь недаром же у человека две ноги!
Начальнику Водонапорной башни Акинфию Дмитричу Зарве надоели сами люди. Не то чтобы он обозлился на весь род людской, вообразив себя районным Падшим Ангелом, вовсе нет. Просто, общаясь самым активным образом с представителями Homo Sapiens, Акинфий Дмитрич стал замечать, что он по какой-то таинственной причине медленно, но верно теряет свой человеческий облик.
Вечером, проходя мимо зеркала по пути на кровать, он краем глаза регулярно стал отмечать появление какой-то, извиняюсь за выражение, гориллы, облачённой в его, Акинфия Дмитрича, пижаму. Конечно, это можно было бы приписать приближающемуся – неотвратимо и неминуемо – пятидесятилетнему юбилею Акинфия Дмитрича, то есть, в некотором роде, если хотите, маразму. Но все, абсолютно все постоянно говорили о его ясном и тонком уме и широком видении проблемы, особенно подчинённые на работе, а ещё чаще – просители с умильными личиками, так что ни о каком, извините, маразме не могло быть и речи! Утром подобные визуальные, так сказать, недоразумения случались реже, чем перед сном, но всё-таки случались. Но Акинфию Дмитричу уж не было времени думать о том, как и когда забрела в его квартиру данная горилла и по какому, собственно, праву она ходит в его костюме, купленном, к слову сказать, в Москве на ВДНХ. Потому что утром он обыкновенно очень торопился, чтобы не опоздать на работу. Впрочем, на работу он опаздывал всегда. Но это к слову.
Вскоре по утрам стала происходить ещё более любопытная метаморфоза. Глядясь в зеркало над раковиной, Акинфий Дмитрич в течение полутора минут теперь мог наблюдать появление в нём непонятного объекта, внешность коего являла собой пример разительного сходства то с угрюмым лосем (иногда, по весне, с рогами), то с медведем, вымазанным малиной, но чаще всего эта биомасса, которую Акинфий Дмитрич только с большой натяжкой мог идентифицировать как собственное лицо, напоминала ему увиденный на днях в Доме Быта рекламный плакат фильма «Чужой». Акинфий Дмитрич недовольными резкими движениями проводил несколько раз зубной щёткой по оскаленным клыкам монстра, брил его морду, после чего монстр немного добрел; набивал его ненасытное брюхо отвратительной лапшой быстрого приготовления, поил чаем с заваркой недельной давности и уводил на работу. На работе подобные параноидальные эффекты не оставляли его. От звука своего голоса Акинфий Дмитрич уже давно отвык, но зато привычными стали всевозможные шумы, которые он по первости приписывал радиопомехам испорченного «Маяка», стоявшего на столе бухгалтера. Однако он был немало удивлён, когда понял, что этими радиопомехами оказались звуки его некогда недурственного баритона. Человеческий голос уходил от Акинфия Дмитрича постепенно, но всё-таки безвозвратно. Сначала эта аудиометаморфоза ярко проявлялась в беседах с женой, и прежде не являвшими собой образчик задушевности, а потом стала распространяться и на разговоры со слесарями, которые уже второй месяц меняли трубы на шестом участке.
Со временем звериный рык, а иногда и вой, стал визитной карточкой Акинфия Дмитрича. И любопытная вещь – все знакомые в нём такую перемену почему-то наоборот приветствовали. Говорили, вот, мол, наш-то Акинфий Дмитрич такой сурьёзный деловой человек. Руководитель!
Поначалу это даже ободряло, вносило уверенность, дескать, иду в правильном направлении – народ-то зазря говорить не станет. Но потом эти одобрения и похвалы стали идти вразрез с регулярными вечерними появлениями гориллы в его спальне. Акинфий Дмитрич начал против народной похвальбы роптать, бунтовать. Народ этого бунта «маленького человека и большого начальника» не понял и постепенно от Акинфия Дмитрича стал отворачиваться.
Однажды утром, выписавшись из ветеринарной лечебницы после долгой и продолжительной болезни, Акинфий Дмитрич принял непростое, давшееся с трудом, с боем решение – возвратиться к корням, к истокам, одним словом туда, куда и положено всем зверям, где его примут, поймут, простят. В природу! Такой судьбоносный поворот в жизни был пугающ, но одновременно приятен по причине осознанности и самостоятельности выбора.
– Я, в конце концов, – свободный человек! – сказал Акинфий Дмитрич жене на бракоразводном процессе.
Думается, что подобный случай отказа от жизни в цивилизации вряд ли был единственным в истории, но для той среды, в которой обитал Акинфий Дмитрич, это считалось за позор, за дезертирство! Он предал нас, удрал с бытового фронта Настоящей Жизни! И куда? В Москву? За границу? В ЛЕС!
А думаете легко человеку в 49 с половиной лет уйти в лес? Легко, да? Попробуйте сами и поймёте… Конечно, нелегко. Пока звериное тело Акинфия Дмитрича пребывало на отдыхе в районной реанимации, сам он, выйдя из тёмного Тоннеля на свет, сидел на берегу Океана и проверял, утратил ли он способность, например, мыслить или нет. Убедившись доподлинно, что это единственная способность, которой он располагает в данный момент, он успокоился и тут же принялся думать. Сначала ему понравился сам процесс. Затем он обратил внимание, что думать может только о трёх вещах: о работе, семье и еде.
– Что ж, – как всегда резонно решил Акинфий Дмитрич, – я могу размышлять о целых трёх материях! Это уже хорошо.
Размыслив об этих благообразных материях по восьмому кругу, Акинфий Дмитрич стал чувствовать некоторое пресыщение темой. Захотелось помыслить о чём-нибудь ещё. Акинфий Дмитрич попытался мыслить об Океане. И не смог. Помыслил ещё раз. Опять неудача. Едва он принимался за размышления об Океане, о том, как он шумит да какой он огромный, мысли его, сами того не замечая, какими-то неизвестными обходными манёврами возвращались к семье, а от семье сразу же к еде, ну, а отсюда прямая дорога к этим дармоедам на шестом участке, из-за которых Водонапорная башня терпит страшные убытки и не выполняет план по водонапору.
– Тьфу ты, зараза! – плюнул Акинфий Дмитрич ментальным плевком и пошёл обратно в Тоннель.
Выписавшись из больницы, он сделал три вещи. Во-первых, с чувством глубокого удовлетворения уволился с работы. Но хитрым способом: сунул нужному человечку в собесе почтовый конвертик, и его торжественно проводили на инвалидность. Как говорится, хотел бы ещё поработать, но… вы уж извиняйте, вот справки, вот печати, вот подписи… Во-вторых, трепетно простился с верной супругой, которую уже 20 лет воспринимал как необходимую составную часть мебельного гарнитура квартиры. Интересное кино – оба были рады. И даже расстались друзьями.
В-третьих, и в главных – ушёл жить в леса! Не из-за того, что верх взяла звериная природа, нет, а просто так было надо – уйти в лес.
И он ушёл. Свой старый дом Акинфий Дмитрич, выбрав ночку потемней, обложил соломкою и поджёг.
– 2 –
Поселился Акинфий Дмитрич в лесной глуши, в ветхом домике, который раньше, говорят, был Старообрядческой церковью, или молельней, или вроде того. До него жили тут лесники какое-то время, потом они куда-то делись, и избушка теперь пустовала и ветшала без хозяев.
Первым долгом новый жилец заменил доски на крыше и покрыл её шифером – шифер пришлось стащить у самого себя (взял пяток листов с пепелища старого своего дома) ночью. На самый верх избушки-церквушки был водружён валявшийся до того в крапиве деревянный куполок с крестом. Конечно, не по каким-нибудь там религиозным причинам – Акинфий Дмитрич был потомственный атеист и во всяких там ангелов-архангелов, разумеется, не верил, как и всякий образованный и серьёзный человек. Просто шифера на всю крышу не хватило и дыру над головой пришлось закрыть этой, как назвал её новый хозяин избушки, «телефонной будкой». Что и было сделано. Издалека вид получился не очень эстетичный – куполок был хорошо подгнившим, некрашеным, зато с некоторым налётом фольклора и, можно сказать даже, мистики. Для отпугивания всевозможных грибников-налоговиков и прочей нечисти. Как выяснилось позже, это имело обратный эффект, но об этом потом.
Домик, где поселился Акинфий Дмитрич, то есть эта вот бывшая молельня, был примечателен во многих отношениях. И, прежде всего, в историческом. По легенде останавливался здесь как-то художник Иван Иванович Шишкин по пути к себе домой в Елабугу. А дело, якобы, было зимой и все ходы-выходы из леса, где художник малевал этюды, возьми, да и замети по самую шею. Лошадь Шишкина по таким сугробам идти категорически отказалась и, дабы закрепить серьёзность своего отказа, издохла на глазах Ивана Ивановича к вящему его огорчению. Остался он один в тайге на верную погибель, сожалея о том, что так и не успел окончить картину «Утро в сосновом лесу», к которой всё никак не мог пририсовать чёртовых медведей. Кстати о медведях. Судя по следам, бродило их в непосредственной близости от замерзающего художника превеликое, знаете ли, множество, что его шибко беспокоило. Благо поблизости оказалась эта самая избушка, иначе не добраться бы великому русскому мастеру до соседней деревни в такую пору.
Лесник встретил Иван Ивановича приветливо, потому как сам был не чужд прекрасного, да и человеком оказался душевным и деликатным. За те пять дней, что стояли рождественские морозы, выпили они с Шишкиным трёхлетний запас самогону, и в благодарность за сию услугу Иван Иванович начисто побелил и расписал леснику всю его избу сверху донизу. А потом ещё в весёлую минуту накидал с десяток карандашных набросков на свободную тему – так, сердца ради. Продуктивный был период. Лесник был страшно рад, что подцепил в своей глухомани такого могучего собутыльника, да к тому же ещё и маляра знатного (Шишкин не стал трепать, что он великий русский художник, а представился простым елабугинским маляром-штукатуром).
Но вот оттрещали морозы. Шишкин одолжил у лесника охотничьи лыжи и, тепло простившись с ним, пошёл в Елабугу. Уже по весне вкопал лесник недалеко от своей избушки огромный рекламный щит «Берегите лес», нарисованный Шишкиным по заказу хозяина домика. На щите было выполнено великолепное изображение русской печи с каким-то бородатым мужиком, сующим в неё свежие дрова. Поверху шла надпись древнерусской вязью «Берегите лесъ». Внешность мужичка с картины, как говаривали впоследствии работники краеведческого музея, да и просто грибники, странным образом перекликалась с добродушной физиономией лесника и с обликом самого Ивана Ивановича, правда, выпившего и крепко.
Столб с этим щитом оказался на редкость живучим. Он пережил и революцию, и гражданскую, и даже остался нетронутым в годы оккупации. К тому времени, как в избушке поселился Акинфий Дмитрич, произведение сие так и стояло на том самом месте, куда поставил его лесник в апреле 1889 года.
Отремонтировав по своему разумению крышу, Акинфий Дмитрич сел на обветшалом крыльце и задумался – чем ему питаться в этакой дыре. Как-то сразу вспомнился сельпродмаг в соседней деревне напротив райсобеса. Он охранялся силами бабки Варвары и её сторожевого пуделя Бонифация. Расправиться с облезлым Бонифацием не представляло труда, но жилистые ручищи ветерана труда бабки Варвары навевали на Акинфия Дмитрича недобрые ассоциации.
Умереть от голода – нет ничего страшней на свете! «Буду питаться, как в книгах – грибами, ягодами и целебными кореньями. Недаром же в лесу живу», – подумал хозяин избушки с облегчением. Что из себя представляли оные коренья и где их брать, Акинфий Дмитрич не имел никакого понятия, а посему сосредоточился на собирании грибов и ягод. А дело как раз было в начале июля, и этого добра в лесу было навалом.
Акинфий Дмитрич вспомнил поблёкшие за годы работы и борьбы образы детства, прослезился и отправился по грибы. Его здорово удивило, что в грибах, равно как и в ягодах, он разбирался весьма недурственно для городского человека и начальника. Видно с давних времён в его мозговом подотделе «Детство. Отрочество. Юность» пылились в памяти и ждали своего часа образы всех этих подберёзовиков, сыроежек, груздей, клубник и ежевик. Ждали, ждали и, наконец, проросли из глубин детства в самый нужный момент. С голоду Акинфий Дмитрич так и не умер. Запас спичек, слава богу, остался ещё от прежних лесников, так что и огонь в печи был. Была и кое-какая посуда. Стал жарить грибы. Соль, правда, пришлось спереть из-под носа бабки Варвары и Бонифация – поступок, конечно, аморальный, но для зверя главная задача – выжить! Вот он и выживал, как умел.
– 3 -
Нашёл как-то раз наш Акинфий Дмитрич медвежонка-сироту. Привёл его, беспомощного бедолагу, в дом – всё развлечение. Хотя по первости, надо признаться, больно уж хотелось ему этого бестию зарубить и съесть. Но уж больно забавный был Топтыгин. Есть его Акинфий Дмитрич не стал, а когда мишка немного подрос, посадил его возле крыльца на верёвку дом стеречь. Медвежонок не противился и охранял дом исправно: чуть какая белка или рысь по крыше пробежит, он и давай реветь да метаться, хозяина звать. За исправную работу получал Топтыжка рыбу, которую пристрастился ловить хозяин. За баловство Топтыгин получал иные премии – хворостиной по заднему месту. Поскольку зеркала в избушке не водилось, то Акинфий Дмитрич забыл на какое-то время о своём зверином облике и отметил, что более не рычит и на людей желания кидаться не испытывает. Облегчённый этим обстоятельством, он продолжил жить в лесной глуши с медвежонком Топтыжкой и питаться жареной рыбой с грибами.
* * *
Не мог Акинфий Дмитрич жить без музыкального сопровождения. Привычка, знаете ли, – на столе у бухгалтера всегда «Маяк» стоял. Смастерил тогда Акинфий Дмитрич (своими собственными руками!) – кто бы мог подумать – кормушку для птиц! Благо в сарайке валялись заржавелые донельзя топор с ножовкой. Долго мастерил. Почитай всю осень возился – работы-то и без того хватало. Получилось малёха кривовато да неказисто, зато сам сделал! Повесил он эту кормушку на низкой ветке рядом с домиком. Поскольку ни хлеба, ни крошек у него не водилось, пришлось накидать в кормушку обрезков от окуней, что опять-таки имело неожиданные последствия.
Ведать не ведал наш отшельник, что птицы к тому периоду уж с месяц как на курорты улетели. Воробьи остались да синицы всякие, какое с них пение. А той ночью, как повешена была кормушка, Топтыжка стал сильно орать, будто избушку штурмом берут работники райсобеса и налоговики. Акинфий Дмитрич сверзился с лежанки от такого шуму и в одном исподнем вышел на крыльцо. В руках у него грозно сверкнул деревянный самострел-арбалет. Вокруг – никого. Только Топтыжка всё к ногам хозяина жмётся – боится, значит.
Утром кормушка оказалась пуста. А вся поляна вокруг избы так истоптана всяким зверьём лесным, что, казалось, ночью здесь проходил съезд всей фауны северного нашего полушария. Всемирное, так сказать, нашествие млекопитающих (ну, кроме китов, разумеется). А дело шло к зиме. Уже и заморозки были, и снежок раз принимался падать, да быстро стаял. Сообразил тут Акинфий Дмитрич, что, видать, трудно его сородичам в лесу без жратвы. Так что по-родственному решил он их немного подкармливать – всё зверям проще зиму пережить. Из досок, каких попало, сконструировал он парочку длинных корыт и поставил подальше от избы у речки, чтоб Топтыжку звери по ночам не пугали. С тех самых пор всегда в этих корытах любой зверь или птица могли и обрезки рыбы найти, и остатки похлёбки, и прочее лакомство. Звери, само собой, быстро смекнули, кто в этой части леса хозяин, и в голодную пору к тем кормушкам часто наведывались. Так и жили.

