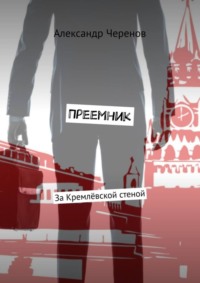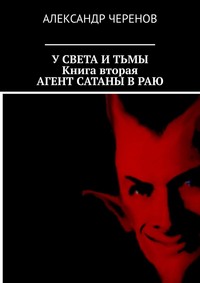Полная версия
Брежнев: «Стальные кулаки в бархатных перчатках». Книга вторая
То, как начал своё выступление Брежнев, повергло в шок всех его недругов, которым вскоре представилась возможность ознакомиться с текстом.
– Товарищи! Боевые друзья! Я обращаюсь к Вам…
Прямо – Сталин образца июля сорок первого: «…К Вам обращаюсь я, друзья мои!»
Впервые Леонид Ильич обращался к армии, используя местоимение «я», а не «мы». То есть, фактически перешагивая через Политбюро. И армия – в лице высших офицеров – услышала это. И приняла это. Армия не желала больше существовать на положении «дитя без глазу у семи нянек». Ей был нужен один, но настоящий руководитель. Руководитель-заступник. Руководитель-покровитель. Этакий «отец солдатам». Егорий-победоносец на советский лад. «Дубликат» Сталина, если угодно.
Быстрее и лучше других Брежнев уловил эти настроения. Поэтому быстрее и правильнее отреагировал на них. И удивительно вовремя – так, как и положено дальновидному лидеру. И вот – итог: «ничейная» армия стала «чейной». До этого отцы-командиры были на стороне анонимного «нерушимого блока КПСС и беспартийных» – а теперь они поддерживали конкретного человека на должности: Леонида Ильича. Человека, в котором увидели – и не без оснований – надежду и опору. И не просто увидели, но и поняли, что на этот раз – не обман зрения. Что перед ними – не очередной «экскурсант», и, уж, тем более, не очередной «миротворец». Этот человек не пустит на слом стратегические бомбардировщики и надводные корабли, не сократить миллиона полтора душ, не «сошлёт» десятки тысяч офицеров в свинарники в порядке «конверсии».
– Мы живём в век научно-технического прогресса, когда новые образцы и системы оружия создаются меньше, чем за год! Застой в этой области чреват последствиями!
Генеральный дал ясно понять всем, что экономить на обороне и нуждах военных он и сам не собирается, и не позволить это сделать другим.
Леонид Ильич видел, как его слушают, слышал, как ему аплодируют, и понимал, что это – не дань формальной вежливости, Что сейчас ему аплодируют не как штатскому визитёру из столицы, а как своему Верховному Главнокомандующему. Настоящему – не по должности.
А когда Верховный предложил наградить всех участников учений «Двина» ленинской юбилейной медалью «За воинскую доблесть», зал взорвался аплодисментами: наш Верховный! Настоящий!
В Москву Леонид Ильич возвращался уже совершенно в ином качестве, чем уезжал из неё. И первым это понял Суслов. Понял ещё до того момента, когда самолёт Генсека коснулся бетонной ВПП аэропорта.
Пониманию «главного идеолога» поспособствовало и то обстоятельство, что буквально накануне возвращения Брежнева пришла «страшная весть»: используя сторонников в Политбюро и ЦК, Генеральный уже начал работу по переносу пленума на более поздний срок. Предлог: необходимость обобщить и проанализировать текущие дела. Не осталась неупомянутой в качестве причины и загруженность аппарата подготовкой юбилея Ильича. И не возразишь: главное событие года!
Понять, для чего Брежневу нужны лишние два-три месяца, было несложно. Во-первых: приучить «народ» к эполетам «настоящего» Главковерха. Во-вторых: ослабить «позиции оппозиции». Прежде всего: на периферии.
По всему выходило, что Брежнев и на этот раз переиграл их. Как ни горько это было сознавать, но Суслов не стал тешить себя опасными иллюзиями: занятие опасное и неблагодарное. Вместо этого он оперативно впал в раздумья. На тему извечного русского вопроса: «Что делать?» Меньше всего его сейчас занимали вопросы «статус-кво»: не до верности идеалам.
Не до верности ему было и соратникам: каждый – сам за себя. Особенно в шкурном вопросе. В вопросе сбережении личной шкуры. Да и не маленькие – выкрутятся. А не выкрутятся – значит, маленькие: не доросли до политики. Увы – диалектика бытия: выживает сильнейший. И сильнейший – не обязательно достойнейший.
«Что же делать?»
Михаил Андреевич не собирался помогать товарищам. Но, может, товарищи помогут Михаилу Андреевичу? Ещё до получения соответствующей команды из мозга, рука Суслова уже тянулась к телефону.
– Товарищ Мазуров? Суслов… Ах, Вы уже в курсе…
Вероятно, Кирилл Трофимович своим ответом упредил вопрос секретаря ЦК.
– Полагаю, нет необходимости говорить, насколько это всё серьёзно… А тут ещё – и вероятная отсрочка пленума… Тоже слышали?..
Суслов зачем-то понизил голос. Уже не имело значения то, что его не подслушивали: дело-то – дрянь. А это – куда серьёзнее безобидного «охвата вниманием компетентных органов».
– Не считаете ли Вы, что наши мероприятия окажутся либо несвоевременными, либо запоздавшими?.. Что?.. Да Бог с ним, со стилем: не до грамматики, ей богу!.. Тоже так думаете?..
Михаил Андреевич вздохнул.
– В таком случае я немедленно связываюсь с Шелепиным, и даю «отбой».
От избытка переживаний он перешёл на шёпот.
– Запомните, Кирилл Трофимович: мы с Вами встречались для обсуждения вопросов подготовки ленинского юбилея. Никакого письма в ЦК Вы у меня не видели.
Убедившись в «понятливости» абонента, он положил одну трубку, чтобы через минуту, потребовавшуюся для восстановления дыхания, взять другую.
– Товарищ Шелепин? Суслов. Я внимательно изучил Ваши предложения по активизации деятельности профсоюзов на производстве и в общественной жизни, и пришёл к заключению, что некоторые из них явно преждевременны. Они не подкреплены ни материальной базой, ни законодательной. Ах, Вы даже сами готовы отозвать свои предложения?
У Суслова отлегло от всего, где «лежало»: Шелепин «включился» сразу же.
– Очень хорошо. Это – принципиально, по-коммунистически. Полагаю, что Вы не приступили ещё к реализации этих преждевременным идей?.. В самом начале?.. Но всё обратимо?.. Тогда «сворачивайтесь» – и давайте готовиться основательно, с учётом этого отрицательного, но поучительного опыта… Вы меня понимаете, товарищ Шелепин? Надеюсь, Вы не обижаетесь на товарищескую критику?.. Нет?.. Ну, вот и хорошо. Всего доброго.
Опустив трубку на рычаги, Суслов в изнеможении откинулся на спинку кресла. Сейчас он мог быть частично доволен собой: и команду дал, и исполнил её деликатно – не придерёшься. Но удовлетворение действительно было частичным: Михаил Андреевич не мог не понимать, что сделана лишь половина дела. Сейчас нужно было приступать ко второй, как минимум, не менее важной, чем та, с которой он так лихо расправился только что…
Михаилу Андреевичу не понадобилось слишком много времени для того, чтобы определиться с дальнейшими планами. Хотя ситуация – по крайней мере, внешне – не требовала от него мыслительной работы в режиме крайнего напряжения: по возвращении Брежнев ничем не показывал нового статуса, демонстрируя едва ли не дружелюбие по отношению к идеологу. Как ни в чём не бывало, он отрабатывал «товарищем» Михаила Андреевича: обменивался мнением не только на заседаниях Политбюро, но и при встречах наедине. Но Суслов был начеку: «memento «mori»! Ведь политическая смерть для политика – страшнее физической.
«Главный идеолог» понимал, что одним возвращением ситуации назад не обойтись. Да, и что значит: «назад»? Возвращалась только ситуация с попыткой смещения Генсека. Но ситуация с расстановкой сил не только пришла в движение, но и существенно продвинулась вперёд. Былого «статус-кво» уже не было. За считанные дни положение изменилось до неузнаваемости. Внешнее спокойствие – обманчивое спокойствие: это – для дилетантов.
«Показывать зубы» было уже не только неразумно, но и чревато последствиями. Да, и кому это делать: вон, после пленума Косыгин стал «тише воды, ниже травы». И вряд ли потому, что затаился. Скорее другое: сделал «правильные выводы».
Пальцы Михаила Андреевича мелко дрожали: «главный идеолог» всегда тонко чувствовал опасность. И не пресловутым «звериным чутьём», а чутьём ответственного политработника, куда более развитым, чем у зверя.
Никакой дилеммы перед ним сейчас не вставало. Михаил Андреевич не собирался «благородно подавать в отставку»: «дон-кихоты» в Кремле давно вывелись. Вопрос – при всём его неблагородстве – был один: в какой форме выразить лояльность Генеральному секретарю? В необходимости её выражения вопроса не было.
По опыту Суслов знал, что человек, долго шедший «наверх», придя туда, быстро «западает» на внешние атрибуты власти: славословие, чинопочитание и прочие «блёстки». В результате идея появилась как бы сама собой: превратить мастера дела в «мастера слова». До сего года «труды» Генерального ещё ни разу не издавались «в систематизированном виде». Так: речи в худосочных сборниках с материалами пленумов ЦК.
Михаил Андреевич знал, что «труды», изданные отдельной книгой, не только «проливаются елеем» на душу «автора», но и поднимают его авторитет в кругу соратников. Далеко не все члены Политбюро сумели «отметиться» «на литературной ниве».
Леонид Ильич не являлся исключением из общего числа «страждущих признания». До сего времени он не рискнул домогаться лавров писателя, дабы лишний раз не дразнить соратников. Однако, как удалось выяснить Суслову, Политиздат уже готовился издать книжку избранных речей Генерального секретаря: «рукопись» уже некоторое время находилась в издательстве – стараниями брежневских «спичрайтеров» и «толкачей». Они же – прежде всего, зав Отделом науки ЦК Трапезников – и «вдохновили» Леонида Ильича на поступок. А издание «собственного» труда в обход Политбюро и «главного идеолога» в момент неустойчивого равновесия сил, иначе, как поступком, и назвать было нельзя.
Вот на этом можно было сыграть! Суслов воспрянул духом: Генсек, безусловно, был заинтересован в одобрении им «самоуправства» по части литературных «поползновений». Ему наверняка пришлась бы по душе «благосклонность» главного идеолога. И тогда он обязан был бы оценить её должным образом. А что значит «оценить должным образом»? Только удовлетворением желания Суслова отметить его лояльность со всеми вытекающими отсюда преференциями.
Михаил Андреевич вызвал Новокрещёнова: «душа горела». И не в формате «пока свободою горим»: более приземлено и осязаемо.
– Пригласите ко мне директора Политиздата. Срочно. Пусть захватит с собой гранки книги Леонида Ильича.
Через сорок пять минут секретарь ЦК уже давал указания донельзя взволнованному «печатнику». Ещё бы не «взволнованному»: не каждый день вызывают в кабинет второго человека в партии!
– Вопрос издания труда Леонида Ильича – один из важнейших.
Вы принесли гранки?
«Политиздат» облизнул пересохшие от волнения губы.
– Да, товарищ Суслов.
Михаил Андреевич полистал материал, а затем пальцами измерил толщину будущего тома.
– Вношу уточнение: труд будем давать в двух томах. В двух томах – как-то солиднее.
– Да, пожалуй, – попробовал бы не согласиться директор.
– Второй том будет открываться…
Суслов заглянул в шпаргалку: подготовился к визиту.
– … речью Леонида Ильича на конференции европейских коммунистических и рабочих партий от двадцать четвёртого апреля шестьдесят седьмого года.
Издатель немедленно сделал пометку в записной книжке.
– Макет при Вас?
Директор щёлкнул замком портфеля. Михаил Андреевич придирчиво, на время отставив «фирменную» бесстрастность, обозрел макет.
– Цвет переплёта лучше дать зелёный.
(Переплёт намечался красного цвета).
– У трудов Ленина – корешки синего цвета, а у трудов Леонида Ильича будут зелёного.
«Политиздат» без труда подавил в себе изумление: не первый год в должности. Хотя никогда ещё на его памяти имя Брежнева не ставилось рядом с именем Ленина.
В обеспечение большей внушаемости контингента, Суслов поморозил глазами печатника. Ему нетрудно было сделать это: температура его взгляда редко поднималась выше нуля.
– Готовьтесь к тому, что у трудов будет продолжение. Поэтому нужно подходить к изданию, как к собранию сочинений. Вы меня понимаете?
Издатель кивнул головой: он вообще был понятливый.
– Поэтому должны быть цифирки, обозначающие порядковую нумерацию томов.
– Вас понял, товарищ Суслов.
– Какой материал предполагаете использовать для переплёта?
– Ледерин. Он прочный, красивый и на ощупь приятный.
– Ну-у… – почти одобрил Суслов. – Но для большей сохранности трудов… ну, и для большей… эстетичности, что ли… нужно сделать суперобложку. Такого же цвета, как переплёт.
Издатель неожиданно не согласился.
– Может, лучше будет сделать обложку двухцветной: основной тон – зелёный, но верх, примерно на одну четверть – белый?
Суслов задумался. В подобных мелочах Михаил Андреевич был удивительный педант – иногда куда больший, чем в делах действительно серьёзных и куда более значимых.
– Ну, что ж… Пожалуй… Давайте попробуем. Итак, с этим вопросом решили. Теперь что: тираж? Какой предполагается тираж?
– Ну…
Издатель замялся. Вопрос был действительно «интересным»: какой может быть тираж у «трудов» действующих политиков? Традиционные сто тысяч – чтобы полки книжных магазинов не пустовали. «Спасибо партии родной»: кабы не авторы от КПСС, чем бы «наряжали интерьер»?
– …Двести тысяч…
Словно почувствовав «что-то» в словах идеолога, «на свой страх и риск» гость удвоил тираж.
– Дадим пятьсот тысяч, – «приговорил» Суслов.
Приговор был окончательным, обжалованию и опротестованию не подлежал, но директор лишь в последний момент успел «прикусить язычок». А ведь чуть было не сорвался: «У нас не всякая художественная литература расходится такими тиражами!»
Взгляд Суслова уже стал императивным.
– Подписывайте книгу в печать – с учётом сделанных замечаний.
Понимая, что «приём окончен», директор поспешно вскочил на ноги.
– Минутку.
Издательский филей замер на середине пути.
– Дайте-ка мне ещё раз взглянуть на материал.
Михаил Андреевич пробежался глазами по датам последних речей.
– Так, двадцать пятое ноября: речь на Третьем Всесоюзном съезде колхозников. Декабрь…
«Декабря» не было: сразу же за ноябрём «наступал» семидесятый год. Наступал он речью Брежнева в Венгрии, на заседании Национального собрания, посвящённом двадцатипятилетию освобождения Венгрии от фашизма.
Отсутствие выступления Генсека на декабрьском Пленуме ЦК приятно удивило Михаила Андреевича. С одной стороны – ничего особенного. Даже – норматив: выступления в прениях, по старой партийной традиции, не печатались и в брошюрах с отчётами о работе пленумов. В авторских же сборниках «избранных речей и статей» появление таких материалов было и вовсе исключено.
Но с другой сторону, «главному идеологу» хотелось думать, что эта «купюра» появилась неспроста: Брежнев явно протягивал «оливковую ветвь». А ведь он мог «протолкнуть» материал: попробуй, тут, подвергнуть цензуре слова Генерального! Вмиг узнает, и, конечно же, «поблагодарит смельчака».
– Под каким названием Вы собираетесь издать труды Леонида Ильича?
«Издатель» замер: «опять – двадцать пять»!
– Ну… как всегда, в таких случаях: «Избранные речи и статьи»…
Выдав ответ, он осторожно вынырнул взглядом из себя.
– Что это за название? – недовольно поморщился главный идеолог. – Название должно соответствовать не только характеру материала, но и смыслу деятельности автора, её направленности! Речь ведь идёт о политическом руководителе.
«Ну, что это за название? Машина, как военный корабль, должна иметь собственное имя». Сам Остап Бендер сейчас пролил бы слезу умиления: «не пропадёт наш скорбный труд»! «Не перевелись ещё богатыри на Руси!».
Ещё не понимая, к чему клонит хозяин кабинета, директор поспешно кивнул головой: на всякий случай. Разумеется, утвердительно.
– Назовём двухтомник…
Суслов на мгновение ушёл за очки.
– … «Ленинским курсом».
Лицо его на мгновение утратило бесстрастность – и дыхнуло энтузиазмом вкупе с самодовольством.
Старательно пряча лицо – поглубже: в себя – «издатель» быстро сделал пометку в записной книжке.
– Я Вас больше не задерживаю, товарищ…
Едва за «Политиздатом» закрылась дверь, Михаил Андреевич ещё раз восхитился собой: неплохой ход! Леонид Ильич не мог его не заметить и не понять! Не имел права: Михаил Андреевич старался!
Подобно Брежневу, Суслов в шахматы не играл: предпочитал им домино. Но просчитывать ходы этот человек умел не хуже завзятого шахматиста. Сейчас ему казалось… нет: он был просто убеждён! – что на этот раз удалось найти единственно правильный ход…
Глава тридцать девятая
Двадцать первого апреля семидесятого года в Кремлёвском Дворце съездов состоялось торжественное заседание в ознаменование столетия со дня рождения Ленина. Брежнев выступил с докладом «Дело Ленина живёт и побеждает». Впервые его слушали с таким пиететом. Даже не слушали: внимали! И не в связи с тем, что и о ком говорилось, а в связи с тем, кто говорил! А говорил реально состоявшийся лидер партии. Человек, впервые не оглядывающийся на сидящих за его спиной членов Политбюро. Во всяком случае – так, как раньше.
Нет, разумеется, Леонид Ильич был далёк от здравиц самому себе формата «мы победили – и враг бежит» и «весёлым пирком – да за свадебку!». Ни на минуту он не упускал из виду задачу непрерывного развёртывания дополнительных сил. Только что ему удалось «подставить» замом к Андропову своего человечка: Георгия Карповича Цинёва. Как говорится, «извини, Юра: ничего личного – хотя и о личном! Хороший ты мужик – но «не из нашего двора». А этот «грех» искупить невозможно. Но ведь жить можно: так – небольшое «уплотнение»!
Цинёв, человек умный и гибкий, лучше другого «кандидата в заместители» Цвигуна подходил на роль «смотрящего». Он не только был «на все сто» человеком Брежнева, но при этом являлся ещё и полезным человеком для дела. Как минимум, для дела государственной безопасности выгода от использования талантов этого человека была очевидной.
Поэтому Юрий Владимирович грустил недолго: пустое занятие. Потом он быстро отвёл душу по адресу благодетеля – в «глубоком подполье» – и решил, что «хвост» лучше не «рубить», а пристроить к делу. А там, глядишь, за совместной работой Георгий Карпович начнёт относиться к нему не только как к «объекту наблюдения». Ну, или хотя бы начнёт отвлекаться…
Упрочились позиции Леонида Ильича и в кадрах. Потому, что упрочились позиции «главного кадровика» – Константина Устиновича Черненко, старого знакомого ещё по Молдавии, с шестьдесят пятого года заведующего Общим отделом ЦК. Теперь все кадровые вопросы партии находились в руках верного человека.
В идеологии также наметился поворот «на тему личности». Точнее: «культа личности». Несмотря на то, что предпринятая «сталинистами» Голиковым, Трапезниковым, Александровым и другими очередная попытка реабилитации Сталина в связи с девяностолетним юбилеем Генералиссимуса не удалась, «река забвения» имени и дел вождя начала мелеть.
Смягчению отношения к личности Сталина и его времени немало способствовала и позиция Суслова, фактически давшего добро на возобновление упоминания имени вождя в положительном аспекте. Верный себе, Михаил Андреевич дал это добро в традиционном стиле: умолчанием. В одном случае, сделал вид, что не замечает панегириков в адрес Сталина, в другом – что ничего страшного в этом не усматривает. И всё – молча. Тихо. Без шума…
И год в целом складывался для политика Брежнева удачно. И не только в плане решительного усиления своих позиций внутри страны, но и в деятельности на международной арене. Ему – не ему одному, разумеется, но лавры-то – его! – удалось сделать то, чего не удавалось сделать никому до него: подписать договор между СССР и ФРГ.
Подписанием этого документа не только выводились на более высокий уровень двусторонние отношения, но – и это главное – ГДР прекращала существовать в формате «незаконнорожденного ребёнка». ФРГ и ГДР договаривались об установлении дипломатических отношений. Теперь вопрос принятия ГДР в Организацию Объединённых Наций можно было считать решённым: дело нескольких месяцев – да и то, по причине традиционных бюрократических проволочек.
Достижение положительного результата усиливалось ещё и тем впечатлением, которое Леонид Ильич произвёл не только на канцлера ФРГ Брандта, но и на глав других государств. К их удивлению, в лице коммунистического Генсека они увидели сильного и динамичного руководителя. На всех без исключения Брежнев произвёл впечатление обаятельного и жизнерадостного человека. Всегда элегантно одетый в костюмы от лучших портных, с золотыми запонками и в отменных французских галстуках, он выгодно отличался от Хрущёва – «премьера в мешковине».
Но, что больше всего поразило Запад в советском лидере – это уверенность и мастерство, с каким он проводил сложнейшие переговоры. Брежнев не только не тушевался маститых политиков, но и нередко диктовал им свою волю, далеко не всегда сообразуясь при этом с правилами дипломатического этикета. Во всяком случае, Брандт имел возможность на себе ощутить и «железную хватку» Генсека, и его «острые зубы».
В принципиальных вопросах Брежнев демонстрировал твёрдость и неуступчивость. Но это отнюдь не было твёрдостью и неуступчивостью «а-ля Хрущёв». У того они зачастую переходили в глупое упрямство и стремление любой ценой одержать верх. Увы, сомнительный принцип «Я начальник – ты дурак!» Никита Сергеевич экстраполировал и на внешнюю политику. Обычно это давало обратный эффект, лишний раз доказывая верность поговорки о нецелесообразности позволения дураку отправления культа.
Брежнев же проявил себя не только человеком, не поступающимся интересами, принципами и друзьями. Он зарекомендовал себя настоящим мастером политического торга. То есть, продемонстрировал Западу то, чего напрочь был лишён предшественник. Леонид Ильич здраво рассудил, что переговоры «с позиции силы» – далеко не лучшее средство уменьшать число врагов и увеличивать число друзей. Особенно, если «позиция» есть, а сил не хватает.
В итоге Брандт, поражённый талантами и личностью «контрагента», пошёл на существенные уступки, о которых вначале и речи быть не могло. Запад понял, что с Брежневым можно договариваться, если учитывать не только свои интересы. И канцлер ФРГ, и Запад в целом поняли, что советский лидер – «переговорщик» серьёзный, к которому со «связкой бус» лучше не соваться.
Так что итогами года политик Брежнев мог быть вполне доволен. Его, наконец-то, признали безоговорочным лидером и внутри страны, и за её пределами. Конечно, дымился ещё «потухающий вулкан» Шелепин. Тлели ещё огоньки недовольства Воронова. Ворчал ещё временами Шелест, «оскорблённый» недостатком внимания к своим предложениям. Искренне обижался некогда верный друг Полянский.
Эти люди либо не понимали, либо не хотели понимать, что ситуация изменилась – и не в их пользу. Всё, что они могли сейчас противопоставить Генсеку, на языке военных было «локальными очагами сопротивления» – и не больше. Всем им оставалось уповать лишь на «счастливый случай», один который только и мог повернуть ход истории.
Конечно, Леонид Ильич, как обладатель многочисленных «политических шишек и синяков», уже не упускал из поля зрения ни одного из «товарищей». Задачу укрепления единовластия – любыми путями, вплоть до «развода с товарищами» – он благоразумно полагал не разовой, но перманентной.
Но, если для политика Брежнева год складывался удачно, то для болельщика Брежнева поводов для удовлетворения – тем более, радости – нашлось, куда меньше. Началось с того, что сборная по футболу не оправдала надежд хотя бы на полуфинал. А ведь основания для них имелись: в четвертьфинале нам в соперники достались уругвайцы – команда, не показавшаяся уже тем, что показала «нулевой уровень». И, тем не менее, мы проиграли. Проиграли, умудрившись пасть ещё ниже Уругвая. А дурацкий эпизод с голом Эспарраго на сто шестнадцатой минуте выбил Леонида Ильича из колеи на весь следующий день: матч закончился в два ночи уже пятнадцатого июня.
– Ну, почему они прекратили играть? – вскричал Брежнев уже после того, как Эспарраго головой отправил единственный мяч в сетку наших ворот. Упрёк его адресовался всем защитникам сборной: Афонину, Капличному, Дзодзуашвили и Логофету, заменившему в конце основного времени Хурцилаву. Все они вдруг прекратили играть в футбол и обратились в истцов и свидетелей: мяч якобы ушёл за лицевую линию.
Особенные же претензии Леонид Ильич предъявлял непосредственному частнику эпизода Афонину, которому надлежало остановить Кубилью – или, хотя бы, мяч. Вместо этого он тоже выключился из борьбы и – присоединился к товарищам, уже забывшим о футболе! Но судья почему-то не засвистел: вопрос отношения к мячу – его исключительная прерогатива! Решит, что ушёл – значит, мяч уйдёт. А не решит – пусть хоть на километр уходит: юридически – он в игре!
Наши оказались не только плохими футболистами, но и плохими юристами. Кубилья же, тем временем, «выцарапал» мяч – может, и из-за черты – и сделал навес во вратарскую. Ну, а дальнейшее было «делом техники» и не совсем техничного Эспарраго.
Когда Леонид Ильич узнал, что председатель Федерации футбола СССР Гранаткин от имени советской делегации подал протест, он раздражённо махнул рукой: