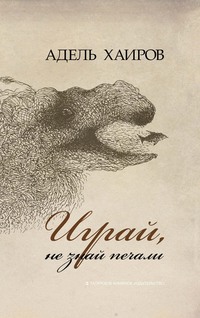Полная версия
Подкова Тамерлана
Фазенда их стояла у самой пристани. С высоты холма она была как на ладони: рубероид лоснился от дождя, забор упал, и по нему дачники ходили как по мосткам, а на его месте вымахали лопухи. Кривая яблоня, выросшая у самой калитки, как старушка, выглядывала на дорогу. Райские яблочки прыгали к пристани, торопились на рейс. Маша, должно быть, сунула парочку озябших себе в карман плаща.
В кассе молотком гробовщика стучала равнодушная печать…
Некрашеная будка уборной закачалась. В неё влезла непомерная тёща и там разворачивалась. Родственники суетились во дворе, все в тёмном, как налетевшие вороны. В избе накрывали поминальный стол. Включили днём люстру, распахнули окно. Вон Санёк на полусогнутых, звеня коленками, бережно втащил две спортивные сумки, полные водки. Рауф тихонечко сползал с холма. Задница вся намокла. О том, что увидел Машу в окне мошки, он, конечно, никому не скажет. Померещилось!..
Все уже сидели и жевали. Он появился в дверях, как на сцене сельского клуба, и собрал сочувствующие взгляды. Двоюродная сестра жены Лидия посмотрела на него оценивающе, как будто ношеное пальто покойницы примеряла. Подвинулись, усадили. Подали кастрюлю с картошкой в мундире. Лида своими пальчиками положила ему в тарелку распухшую сардельку. Санёк, ответственный за водку, налил до краёв. Родня смолкла и уставилась на Рауфа. Знала, что завязал, и теперь желала видеть, как развяжет. Рауф послушно потянул пальцы к стакану. Движение, ставшее за десять лет трезвости непривычным. Холод водки входил в организм через пальцы. Бросил взгляд в окошко. Мошка на фарватере превратилась в «парус одинокий», Маша с палубы погрозила ему кулачком. Эхма…
Все вокруг бухали по‐белому и по‐чёрному, только они вдвоём, как старообрядцы, завели себе самовар, который Рауф привёз из родного аула Пшенгер Арского района как память о маме. Получается, земляк.
Пучки чайных трав висели на гвóздиках в сенях, источая успокаивающие волны летних полянок и косогоров вблизи деревни с ласковым названием Улиткино. Древние волжане были поэтами, красивые имена давали своим поселениям: Нижний Услон, Ключищи, Теньки, Шеланга, Ташёвка…
Рауф сделал вид, что выпил, даже произвел два громких холостых глотка и задвинул за коробку сока полный стакан. Лишь пальцы омочил. Демонстративно пожевал резиновый грибочек, и за столом спокойно вздохнули – «ну, слава те, Госпади!»
Маша была другой, непохожей на свою родню. Мягче, что ли, лиричнее. Не орала, только плакала. Иногда он готовил какую-нибудь татарскую еду. То, что умел. Например, куриный суп с лапшой, которую крошил квадратиками, потому что паутинкой не получалось. За столом Рауф говорил жене: «Маша, ашá!», то есть «кушай».
Он тихонько вышел во двор. За вишнями, отрясая спиной капельки дождя с веток, растопил самовар. За нарубленными дощечками в сарай идти не хотелось. Там дымили мужики. Поломал о колено помидорные шесты, содрал со старой вишни шкуру. И самовар начал оживать: ныть, охать и затягивать степную песню. Ну чем не живое существо?! Над ним набрякшее небо посветлело, расступилось кружком. Рауф, чувствуя коленями тепло, слушал самоварный плач, и вдруг лицо его сморщилось мочёным яблоком, скуксилось, и брызнули слёзы. Соль зашипела на самоварной крышке, и тогда на надраенной латуни отразились двое.
– Рауф, не раскисай. Ты же мужик! Я тебя буду навещать, – пообещала Маша прокуренным голосом Лиды.
Самовар затрясло, и он откинул трубу – шипеть чёрным питоном в мокрой траве. Посыпал дождь, старый и безрадостный. Блёклая капустница до последнего держалась лапками за ветку, но точной горошиной дождя была сбита на землю. Лидия за рукав телогрейки потащила вдовца в дом, где хозяйничали чужие люди.
За печкой в тишине распределяли Машины вещи, выдергивая их из вороха. Случайно присвоили свитер и новое трико Рауфа. Пахло столовкой и носками. Сквозняк бил по ногам. Рауф под видом водки глушил минералку. Но как будто бы опьянел даже. Ночью закопался под два одеяла, носом, как ёж, отыскал запах Маши. Почудилось, что подушка ещё тёплая, как будто бы жена встала посреди ночи и зашуршала, полупрозрачная, в холодные сени. Гладил вмятину. Сон прошёл. Рауф, прикрыв веки, начал смотреть кино про свою жизнь, которое для него одного крутил пьяный «сапожник». Плёнка рвалась, шла по простыне сикось-накось, чёрно‐белая с рябью, но местами вдруг вспыхивала и становилась цветной. Вот они собрались с бухты‐барахты и поехали с Машей в Вардане.
– И куды попёрлись?! – кудахтала тёща. – Ну, прям кино «Печки‐лавочки»! Волна сразу же сдёрнула с Рауфа китайские трусы, а он этого и не заметил. Вышел на берег, как татарский Адам. Потом они со стыда пляж поменяли. Большие пушистые персики запомнил, как она ими, захлёбываясь, упивалась. Красивые косточки аккуратно складывала на подоконнике. Там он не пил, только домашний кисляк из баллона потягивал. А это не считается. Но дома сорвался. В кадре – стол с объедками, по которому бутылка катится, а под ним продрогший мужик кутается в скатёрку. Потом в избе появилась тихая иконка «Неупиваемая чаша». Запах лаванды по утрам туманом висел, и губы Маши шептали:
– О милосердная Владычица! Молитвы моей не презри, но услыши тяжким недугом пианства одержимых…
Десять лет – это срок. Чаша высохла, растрескалась, чуть сама не рассыпалась, и в ней паук издох – тот самый, который «зелёному змию товарищ».
Затем запрыгали кадры про прежнюю жизнь – до Маши. Казань, белые рубашки. Не воздух, одеколон! Веер брызг из поливальной машины. Водила – монгол в мохеровой кепке, промазал по клумбе, зато дал струю по тюльпанам в ведрах, заодно и по старушкам. Те завизжали, как девочки. Капельки прилипли к экрану, и тут же их смахнул подол платья. Студентка, похожая на Варлей, выпрыгнула прямо из вазона в голубом плиссированном колокольчике. Белыми ножками, ловко перебирая по ступенькам лестницы, взбежала к университету. Помахала ему сверху. Если чуток отмотать назад, то… Вот за поворотом они стукнулись лбами.
– Чё ты бодаешься, олень? – Она стояла красивая, с красной лампочкой на лбу. Он ей соврал, что в универе химики разлили ртуть и все занятия отменили. Пригласил в новую пиццерию на углу Ленинского сада. Там, в кафе, они опять приложились, но уже губами. Вкус у Мадины был – «кофе с молоком». И он тоже тогда пил кофе.
Когда сын пошёл в третий класс, они, поднакопив деньжат, впервые поехали к югу – в Вардане. Зачем‐то и Машу он потом туда же повёз! Даже отыскал ту самую харчевню, где аджичным огнём пылала его глотка, которую повар Сурен пытался залить прохладной «Изабеллой». Сурен умер, харчо стал жидковат, а вино зауксусилось. Гуляя, завёл Машу на окраину, где когда‐то снимал скворечник с первой женой. Сунул голову за ограду – в «их» окошке торчала заплаканная мордочка ужаленной солнцем девочки.
Поначалу первая жена Мадина пыталась и во сне вытеснить Машу, она к нему даже с Маратиком приходила. Смотрела с укором, и тогда он не выдерживал и убегал из сна. Лежал на спине и разглядывал, как стукаются лунные черепа на потолке.
Сынок ему всегда вспоминался маленьким. Как тот на первой их съёмной квартире осторожненько по стеночке ходил, как в окошко кулачком стучал, провожая папу на работу, как от медсестры со шприцем прятался в шифоньере и оттуда верещал жалобным голоском: «Малат усол, тётенька. Погулять!», как обкакался на столе на важные папины бумаги…
Рауф дивился способности головы неожиданно доставать и выбрасывать наверх откуда‐то из неясных глубин клочки, казалось бы, давно уже омертвевших дней. И тогда колючка, обрызганная дождём, вспыхивала жёваным цветком, который, расправляя оборки, заполнял весь мозг. Рауф вдруг унюхал влажную от слюнок рубашечку сына, почувствовал его любопытные пальчики у себя во рту, услышал «гр‐р‐р» из алого беззубого рта и даже руки развёл, чтобы обнять сына. Такая любовь в нём забушевала!
…А ночью Рауф плакал. Всё во сне было правдоподобно. Обнимашки, сопельки… Не удержался и посреди ночи принялся писать письмо сыну на старый казанский адрес. Через месяц пришёл ответ. Из Москвы! Оказалось, сын женился на москвичке, и Рауф давно уже стал дедушкой. Письмо ему переправила бывшая жена Мадина. Она жила в Казани с дочерью от второго брака.
Договорились, что когда сын в июне приедет к матери, то заедет к отцу – внучку показать. Рауф даже начертил ему схему, где продаются билеты в речпорту до деревни Улиткино, нарисовал Волгу и пароходик на ней – как он будет красиво плыть, огибая острова. А на палубе он изобразил двух человечков. Старался, конечно, для внучки.
…Поставил стол в саду в тени под старыми вишнями, бросил красный ковёр на сорную траву. Этот ковёр Маша берегла – ругалась, когда по нему ходили. Порхать заставляла! С книжки снял сбережения. С большим трудом в свином царстве раздобыл барашка. Агроном‐татарин выручил – заказал за триста кэмэ за тысячу рэ пять кэгэ своим родственникам. Деликатесов всяких Рауфу доставил спецрейсом знакомый капитан по фамилии Черномор на плавмагазине: икорки красной, крабов консервированных, буженины, сервелата, пахучих сыров… – всего того, чего в местный сельмаг не завозили. И самое главное, вискарь ирландский привёз – прямоугольную пятилитровую бутыль. Черномор вцепился в неё, накрыл кудряшками бороды и отдавать не хотел. Тельняшкой рваной театрально обтирал, целовал, причмокивая. Рауф сжалился, свернул башку ирландцу. Отлил полкружки. Липкое облачко заморского алкоголя повисло над ними, пока его не спихнул с палубы волжский бриз.
– За встречу с сыном! Ну, айда… Вуй какуй она вкусный! – закачался, прикрыв красные зенки, капитан.
Потом плавмагазин отлип от пирса, заложил крен, и Черномор заорал песню. Пока Рауф затаскивал сумки, вискарьная тучка над ним всё висела и капала. И вдруг хлоп – накрыла медузой. Еле отфыркался. Чтоб перевести дух, прилёг на жерди, и тут его ноздри, как рюмочки, до краёв наполнились сладким бухлом. Выдавило слёзы, язык прошуршал по губе. Он отщипнул от смородины соцветие, пожевал. Так Рауф всегда делал, когда пил от Маши тайком и нечем было закусить. Но спирт хорошо перешибал только зелёный лучок. Вспомнил, где делал схроны: в трубе, подпирающей уборную, в самоварном сапоге, даже на яблоню за шнурок подвешивал. Но у Маши была фантастическая способность отыскивать предметы. Она специализировалась по водке. С закрытыми глазами руку протянет и… буль‐буль – в сорняк. Его прятки с питьём были, конечно, детским садом. Она даже глоток на другом краю огорода слышала, а глядя на спину Рауфа, уже понимала, что тот тяпнул. Жалела! Вот если бы орала ослицей, то не завязал бы, а иконка тут, кажется, и вовсе ни при чём. Тем более на татарина она никак не действует.
Кто‐то нетерпеливо попинал ворота. Потом закричал: «Ра‐аауф! Аткрой, это Лида пришла, вина тибе принесла». Он затих. Осторожненько, чтобы пружины не застонали, прилёг и даже руки на груди скрестил. Умер для Лиды и для всей её родни. Они тоже нет‐нет да и заглядывали. Мужики пытались пролезть ужом. Рюмочную хотели из его избушки сделать. Хрен вам!
Сын должен был приехать с внучкой на последнем омике. В письме он намекнул, что в Подмосковье у него большой коттедж. Хоть посёлок и называется Дурыкино, но люди здесь хорошие, а природа вокруг напоминает леса Поволжья. Зайцы даже к крольчихам в село забегают. Сынок с женой по утрам уезжают в город, а няньку держать накладно, да и доверия к чужим тетям нету. Рауф начал подумывать о продаже избы. Сосед, казанский дачник, вроде бы для своего зятя домик подыскивал, чтобы поближе к Волге. Рауф даже заходил к нему вчера, но того не оказалось.
На стол прыгнул червивый ранет. Посшибал рюмки и поскакал себе дальше. Рауф пошёл поправлять. С утра поползал по грядкам виктории и отыскал три спелые ягодки для внучки. Под каждую подложил листочек мать‐и‐мачехи. Подумал: «Виски со льдом подать или просто сунуть в морозильник?» Вспомнил из где‐то прочитанного, что тогда вкус «цепенеет» и только при комнатной температуре «распускается, как букет». Напишут же!
Вынес из сеней бутылку, как сонного ребенка на руках. Плеснул осторожно в рюмку, чтобы понюхать этот самый «букет». Покрутил на солнце. Пьяные зайчики разбежались по саду. Поднёс к носу, втянул. Голова откинулась. Это был вдох, не глоток. Или всё же маленький такой, микроскопический глоток? И был он похож на пропавшего щенка, который вдруг объявился и заскулил у ног, тычась в брючину. Потом резво обежал все комнаты, куда давно не заглядывал. Легко толкая лбом тяжёлые двери, чихал, смеялся, и под конец сделал весеннюю лужу под иконой «Неупиваемая чаша». Рауф нагнулся с тряпкой и тут был повален и зацелован. Щенок на глазах превращался в барбоса…
Марат долго стучал в ворота, потом перелез через забор. Открыл дочке. Занёс сумки с едой и гостинцами. Отца нашёл под столом. Тот спал, накрывшись скатертью. Ночью он замычал, ударился головой, но, выпив, опять затих. И спал, посасывая виски, три дня. Сын полил помидоры, внучка собрала ягоды. Оставила дедушке три спелые на блюдечке. Уехали они утром, положив подарок – французский одеколон на самом видном месте. Вот проснётся Рауф, пусть порадуется. Потом на комоде найдёт свою тетрадку со стихами, которые посвятил Мадине. У «сверчков» ведь было продолжение:
Для тебя для одной, для одной,той, что грустной бывает так редкона изломе вишнёвая веткатонко пахнет весной!Тумырщик Семендей
Откуда они только берут эти рубашечки с мелкими васильками на заснеженном поле? Либо это ещё советский стратегический запас расходуется, либо где‐то на дальней заимке скрывается подпольная фабрика по пошиву таких вот «колхозных» рубашек и строчит их день и ночь.
Парень с рыжими ресницами дремал в углу прицепного вагона. Сунул в коленки тяжёлые ладони, как колун в щель пня, и включил свои рыжие сны. Рубашка, понятное дело, была у него такая одна – выходная. Отглажена бабкой основательно, со стрелками на рукавах.
В обшарканном вагоне пассажиры отфутболивали друг другу бутылку. Из‐под лавки несло поросячьим мешком. Бутылка раскрутилась и лягнула парня в ногу. Он разлепил мёдом намазанные веки, рывком открыл прикипевшее окно. Ухнул «Скорый», и обдал разгорячённым от бега ветром. Гречишное поле вдоль дороги запахло шпалами.
Парня звали Семён, но это по‐русски. В марийской деревне его называли Семендеем. Имя какое‐то певучее, языческое и редкое. Как будто купили в сельпо фабричный хомут и прожгли по коже узор с завитушками дикого хмеля, чтобы отличался от других. Я разглядывал его руки и видел скрипучую сбрую, которую парень натягивает на морду кобыле. Даже послышался звонкий шлепок по вздрогнувшему крупу, к которому присосался слепень…
Ему бы сбросить эту нелепую рубашку и махнуть в поле, – в родную стихию! Шагать до самого дома, одним взмахом отлавливать на лету кузнечиков, стреляющих вкось. Вдруг народ, как по команде, ожил, заволновался, потянулся к полкам за поклажей. Исписанные баллончиками бетонные заборы, утонувшие в червивых яблонях старые дачи, гаражи, пустыри… – скучное кино оборвалось, и над тёмной водой повис белый Кремль. Поезд изогнулся, заскрежетал и встал у краснокирпичного вокзала.
Семендей схватил спортивную сумку, у которой сразу же оборвалась ручка, и подпинываемый ею, оказался вместе с серой волной пассажиров на привокзальной площади. Рыжие ресницы хлопали, а ноздри захлёбывались от пролившихся запахов, которые извивались на небольшом пятачке перед вокзалом. Хвост душных духов тянулся за женщиной в розовом абажуре платья, внутри которого семенили ножки; букет влажных ландышей осветил лицо студентки; кислый запах псины повис над бомжом, помирающим в хилой тени рябины… Дешёвым табаком пахло от водителя маршрутки.
– Мне надо до училища лёгкой промышленности! – крикнул Семендей водителю‐таджику.
– А где это? – высунулась из салона жующая бесформенная баба с рулоном билетов на поясе.
– Там озеро рядом есть… – заглянул парень в бумажку.
– Мы што тибе, пароход? – пошутил таджик, и махнул рукой. – Айда, прыгай… Найдём как‐нибудь!
Семендей забрался в уголок и уставился в окно. На следующей остановке влетела шумная стайка студенток и защебетала прямо над ним:
– Я смотрю, ба, а это Юрик навстречу топает. Блин, на нём такая дебильная рубашечка, – короткостриженная украдкой ткнула пальчиком в Семендея, – как будто из дачной занавески…
– …и ещё джинсы‐варёнки. Это ваще жопа! – перебила подружку смугленькая.
Парня хлестнул по ушам хохоток. Он заслонился сумкой, готовый залезть внутрь неё.
В это время потная кондукторша раздвинула худеньких девчушек, как ширму, и бросила:
– Щас выходи! И иди вперёд до светофора…
Он бросился по ногам к выходу, сумка застряла в дверях. Порвал вторую ручку. Кондукторша прокричала: «Следующая – “Кольцо”! Кто ещё не оплатил?» Семендей нахлобучил сумку на голову, как баул, и, время от времени бросая брезгливые взгляды на свою рубашку, добрался до конца улицы. Неожиданно вышел к зелёному озеру, которое чахло посреди города. Тут же сбоку, во дворике трёхэтажного здания, заметил толпу молодёжи с родителями. Понял, ему туда. Спустился к озеру, стащил с себя рубашку и комом сунул в сумку. Переоделся в застиранную майку, которую взял, чтобы носить в общаге. Огляделся вокруг, высматривая кусты, куда бы спрятать эту безухую сумку, но вокруг всё было загажено.
– Папироска есть? – из‐за ивы показался мужик с сачком. Только вместо рыбы в пакете громыхали алюминиевые баночки.
– Бросил! – признался Семендей, а самому захотелось подымить.
– Ну, молодец… – тот подобрал окурок. – Сам откуда? Агрыз? Мамадыш?
– Из деревни Паймас. Это в Марий Эл.
– Помню, лыжи такие были – «Марий Эл»! Я ведь раньше гонщиком был. На лыжах гонял! Вот тут по озеру.
Они присели на скамеечку. Помолчали.
– Вы здесь ещё будете? Минут пять… – Семендей занервничал, увидев, как толпа начала просачиваться в здание училища. – Я только документы отдам…
– Давай, сынок, дуй куда надо… Я покараулю.
Семендей перебежал дорогу. В воротах налетел на группу пацанов.
– Оба‐на, пополнение! – наглый с прыщами, протянул ему плоскую ладонь с жёлтыми от табака пальцами.
– Слышь… Молодой! – маленький и гундосый, харкнул Семендею чуть ли не на носок кроссовки. – Мы тут директрисе на венок собираем. С баб полтинник, с мужиков – стольник…
– Я принесу… – Семендей побежал обратно.
На скамейке лежал целлофановый пакетик с образком Николая Угодника. Парень огляделся, но гонщик уже умчал. И на том спасибо, добрый человек, только почему‐то жалко стало рубашку с васильками…
Вошёл в старинное здание училища с толстыми крепостными стенами и сразу же из летнего пекла попал в осень. По углам паутиной свисали сумерки, в туалете ревели ржавые трубы. Потолок давил, покрываясь трещинами…
Он так ни с кем и не подружился. Ходил на занятия, как тень. Безропотно отдавал стипу шпане, хотя мог бы зашибить одной только оплеухой. Его прозвали Рыжиком. Однажды попытался познакомиться с белесой девушкой‐марийкой, которую увидел в стенах училища на выставке прикладного искусства. Она, прикусив губу, сосредоточенно расписывала потешный лубок, там, где мыши хоронят кота. Он смотрел‐смотрел, и неожиданно хриплым голосом похвалил:
– У вас красивый лубок. Я такой лубок видел в детстве у соседки Тайры… Лубок – очень интересная вещь…
Семендей взмок, пока произносил свой неуклюжий комплимент, но вместо «лубок» почему‐то три раза подряд произнёс «лобок». Когда понял это, покраснел, как свёкла, и смылся.
Рядом с училищем находился зооботсад. Из‐за запахов и запущенности горожане сюда не особо ходили. Но Семендея уже узнавали на входе и даже отрывали ему детский билет, так подешевле. Он проносил за пазухой бутылку пива и направлялся к волчьей клетке. Семендею казалось, что этот волк вышел из леса у деревни Паймас. Точно такого с обиженным лицом он несколько раз встречал, когда ходил за жердями…
Оглядываясь вокруг, просовывал горлышко в клетку. Волк, урча, быстро опорожнял бутылку и потом слизывал сладкую пену с цементного пола. Пьяный зверь улыбался, ронял морду на лапы и молча смотрел на своего «товарища» грустными слезящимися глазами. Волк превращался в человека, а Семендей наоборот дичал. Он готов был выть… Писем своей бабушке парень не писал. Несколько раз начинал, но, вспомнив, что почтальонша Настюха вскрывает чужую корреспонденцию, комкал исписанный листок… На следующее утро он решил не ходить в училище. Накрапывал дождь, небо и фасады затянуло мешковиной. Семендей купил пирожок с ливером, откусил. Мимо пронеслась девушка в маковом плаще, как лепесток, сорванный ветром, и обдала летом. Хлынул ливень – первый осенний, и погасил жёлтое солнце клёнов. Парень стоял и слушал водосточную трубу, которая вздрагивала от бьющихся внутри струй. Объявление, написанное от руки на четвертинке тетрадной страницы, медленно сползало по трубе, смываемое дождём. Он остановил бумажку пальцем…
В самодеятельный коллектив марийского народного танца и песни «Арняша» требуется тумырщик. Адрес…
Через полчаса его глаз уже моргал в щелке света, выбивающегося из небольшой комнаты, где шумели старушки. На них были белые рубахи с красной вышивкой и расписные шимакши на головах. Лица сияли, как пирожки! Одна румяная и кругленькая завела песню, другие подхватили. Запахло полынью и сладковатой стружкой от липовых чурок, из которых режут черпаки, похожие на игрушечные ладьи. Семендей вспомнил такой черпак из своего детства, который плавал в кадке с квасом. Он осторожно потянул ручку на себя и, оказавшись в центре расступившегося круга, начал тихо подпевать… Случайно коснулся рукой барабана, и тот отозвался глубоким «уух!». Мокрая куртка уползла, как шкура, куда‐то под стул, рука приобняла барабан, а другая – подушечками пальцев принялась поглаживать холодную серую кожу. Тот потихоньку оживал. Следом проснулись сиплый рожок и глупая трещотка. Комната поплыла – красно‐белые полосы рубах и зелёные штор. Засохшие цветы из опрокинувшейся вазы захрустели под ногами, и такой горький аромат пошёл, как будто бы старушки топтали ромашки в поле.
– Ну, молодец! – кто‐то поглаживал его по плечу.
– Как тебя зовут‐то, парень?
– Семендей…
– Ах, если бы Абдай слышал, как ты сегодня играл!
– Кто это? – спросил опьяневший от тепла Семендей.
– Хозяин тумыра. Помер недавно.
– Да чё ты говоришь‐то, Янипа? На этой тумыре играл ещё Кубакай, а лишь потом, когда он угорел в бане, Абдай пришёл.
– Ну, хорошо! Теперича вот Семендей играть будет…
В голове ещё пели старушки, и стучал тумыр, когда Семендей вошёл в класс и сел на своё место.
– Семён, тебя не было три дня! – услышал он дрожащие нотки над головой. – Ты что, болел?
– Нет.
– Тогда, что же?
– Ну, я это… Со старушками играл на тумыре…
Смех заплясал в классе и умер ухмылкой на тонких чернильных губах учителя. Семендей выскочил и тут же сбил с ног Шакира, вожака местной шпаны.
– Ты, бля, Рыжик, совсем оху… что ли! – он больно ткнул костяшками кулачка ему под рёбра.
И вдруг внутри Семендея пружина выпрямилась и зазвенела. Широкая пятерня скомкала злобную мордочку Шакира и начала отрывать голову от тщедушного тельца. Кто‐то прыгнул на Семендея сзади и стал душить, на его крепкой, как ствол деревца, руке повисли остальные. Парень рычал волком, расшвыривая их по коридору. Последний размашистый удар вслепую пришёлся прямо в напудренный лоб директрисы. На выручку ей уже трусил с трубочкой кроссвордов отяжелевший от обеда охранник. Семендей одним прыжком очутился на подоконнике, вторым – перелетел через репей и… Последнее, что услышал, когда летел, было кем‐то брошенное из преподавателей: «Надо же, а на вид такой тихий парень!»
Уже привычно, без опаски, покрутил барабан в руках. Тихонько выбил тремоло, прислушался, потом озорно шлёпнул, как будто прихлопнул слепня на крупе коня, и вдруг тумыр завертелся, принимая градины ударов и редких поглаживаний. Непостижимо, как это кусок телячьей кожи под пальцами марийского парня способен был вспомнить и повторить все эти деревенские звуки: топора, тюкающего по звонкой сосне, топота копыт по мягкой пудре дороги, ночных стуков и кашля домового, раскатов далёкого, но пустого грома, свободного полёта ведра к далёкой колодезной звезде…
Семендей заснул, уронив голову на ещё гудящий тумыр. Из глубины колодца услышал старую марийскую песню. Приподнял отсыревшую крышку и оказался в залитой солнцем избе. Улыбнулся, узнав свою бабку, протирающую светящееся в руках блюдо, которое вдруг оказалось нимбом Христа на иконе. Она и нимб тоже старательно вытерла, встав на хлипкую табуретку. Семендей протянул руки, чтобы поддержать. Увидел, как светятся сквозь ночную рубашку крепкие икры. Осторожно приобнял, пальцы скользнули вверх и… Бабушка ойкнула голоском соседки Тайры и уронила мокрую ветошь на пол. Тайра шептала, жарко прижимаясь к нему животом: «Не плачь, Семендей, всё будет хорошо…»
Он проснулся, но ещё долго лежал на чьих‐то острых коленках, пахнущих плесенью и пивными дрожжами, боясь открыть глаза, чтобы не потерять свою Тайру. Он лежал и слушал, как кто-то воркует над его ухом, распутывая непослушными ревматическими пальцами узелки в волосах: «Не плачь, всё будет хорошо…»