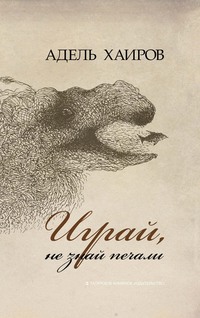Полная версия
Подкова Тамерлана
Я отмыкал на воротах амбарный замок и шёл купаться. Обычно в этот час народу – никого, и я входил в воду нагишом. Но в тот день на берегу с глубокими порезами от хребтов дюралевых лодок скучали двое. Один милиционер в штанах, другой – в юбке. Увидев меня, заспанная тётенька в пилотке даже обрадовалась. Подошла, представилась следователем Огурцовой и поинтересовалась, есть ли у меня лодка. Я показал на перевёрнутый у пристани ялик. Не объяснив толком ничего, Огурцова сказала, что они с участковым сейчас пойдут по берегу, а я должен буду грести за ними. Безропотно подчинился. Весь берег завален острыми камнями, на нём корчатся седые пни‐осьминоги, среди которых вьётся узкая в одну ступню тропка.
Гребу‐гребу и вот вижу, как следователь, наклонившись к тёмному продолговатому предмету, подзывает меня. Оказалось, что какая‐то старуха с малиновым узелком шла из одной деревни в другую и померла. Рядом валялась клюка.
Описали, как полагается, содержимое узелка: деревянный гребешок, иконка в тряпице, вышитой крестиком, а в носовом платочке денежка – скомканный николаевский бумажный рублик и медные монеты тех же лет. Прямо какая‐то древнерусская старуха, выпавшая из времени!
Огурцова командует, чтобы милиционер взял покойницу за подмышки, а я – за ноги. Нагнулся, но взять не могу. Руки отказываются. Огурцова отстранила меня и сама ухватилась за синие лодыжки. Уложили старуху на мокрое дно лодки с раздувшимися червями, оставшимися после вечерней рыбалки, и я погрёб обратно.
Стараюсь не смотреть на белое пятно лица, но оно покачивается у самых моих ног, приближаясь от резких гребков ко мне ближе и ближе. Брызги из‐под весла орошают мёртвые щёки. Это слёзы текут. И вдруг я с ужасом замечаю, что старуха смотрит на меня! Боже, никогда ещё я не грёб с такой прытью. Лодка летела через Стикс. Но мозоль жжёт, весло соскальзывает. Огурцова идёт по берегу и бросает на меня презрительные взгляды. Сузившиеся зрачки старухи пытают: кто я? куда везу? Я – Харон. Шлейф брызг накрывает меня сверху. Истекаю, отфыркиваясь, как щенок. Огибая мель, выправляю по чёрному бакену лодку и несусь к фарватеру. Надо было по красному! Кручусь на месте. Огурцова, кажется, крутит у виска. Слышу, как на грузовике с лязганьем откидывают борт. Наконец мятый нос уткнулся в берег, старуха летит на меня, я вываливаюсь из лодки на кишки и чешую. Рыбья кость впивается в задницу.
Мужики легко, как высохшее на солнце брёвнышко, поднимают старушку. Один подмигнул мне: «Не приставала?»
Затаскиваю лодку, сажаю на цепь. Переворачиваю, и вдруг из неё выкатывается мокрая клюка. Кора орешника покраснела. Коленце сучка совсем отполировалось ладонью. Верчу её в руке, намереваясь метнуть в воду, и тут вижу аккуратно вырезанный крест, а под ним буквы: «Раба божья сестра Аглая Мокея дочь из Теньков. Ходи до смерти!» Хочу догнать следователя, но уазик, газанув, исчезает за поворотом, закрывшись от меня шторкой пыли. Бреду домой. Втыкаю клюку у забора за большим смородинным кустом. Прячу, она же с крестом!
Бабушка сдёргивает салфетку с солнечных блинчиков, ловко зашибает ладонью объевшуюся мёдом осу и уходит к своим помидорам. Я накрыл блинчики и взял мотыгу.
– Где ты был так долго? – не разгибая спины, спрашивает она.
– Купался, – вру.
– Срежешь мне палку, а то нога болит, ходить не могу.
Вырезаю из вишни, даже украшаю: виноградная лоза вьётся вверх и по палке русалки ползают, как улитки, но в лифчиках. Правда, всё это вышло мелко, и бабушка не может разглядеть. А припрятанная клюка Аглаи через две недели вдруг выстрелила листочком. Потом две веточки проклюнулись из мёртвой палки. Через год это было уже деревце со слезящимися письменами на красной коре: «Ходи до смерти!»
Утёс отшельника
На этот скворечник, прилепившийся к утёсу, я давно положил глаз. Добротно сколоченный из того, что река весной выносит на берег с мусором, он был виден лишь в начале апреля, а затем исчезал на всё лето в густой листве, растущей вниз. Не один я любовался им. Мужики, попыхивая папиросками, глядели на домик, прилепившийся к утёсу с какой‐то грустинкой, которая была вызвана давней несбыточной мечтой. От Казани, прикладываясь к горлышку и матюгаясь, они в этом месте сразу притихали и уходили в себя. Кто его сделал? Кто там живёт? От кого прячется?
Омик с лёгким креном, из‐за высыпавших на правый борт пассажиров, шелестел вдоль берега, аккуратно разрезая акварель с пушистыми ивами. Пять минут красоты, и вот уже снова надо ползти к своим дачам, где гадюками извиваются шланги и помидоры, наливаясь кровью, тяжелеют на кусте. А настырный хрен проклюнулся даже под крыльцом, выбив ступеньку, как зуб!
Однажды, в самый разгар весенней посадки семян и рассады, моя бабушка разогнула спину и увидела знакомую, которая шла налегке с пристани.
– Марьям, салям!12 – окликнула. – Ты чего, уже всё посадила, да?
– А я в этом году ничего сажать не буду! – огорошила та и обмахнулась веером‐книжкой.
– Болеешь?..
– Не‐а, просто не хочу! – был ответ.
– Абау, – только и смогла произнести моя бабушка, что означало высшую степень удивления. Но я смотрел на уходящую в сизую дымку Марьям с восхищением! Вся деревня стоит раком, а она идёт, порхая, с книжкой под мышкой.
…Чтобы добраться до скворечника, надо было вскарабкаться на скользкие валуны, скатившиеся лет пятьсот назад к Волге, потом, цепляясь за корни диких вишен и разные колючки, пройти козьей тропкой по выступу. После поднырнуть под кривые татарские берёзки и там, передвигаясь на четвереньках в качающемся от ветра коридоре, выйти на первую террасу и ослепнуть. Вид отсюда был обалденный!
Эх, надо было снять перед Волгой‐матушкой шапку и поздороваться, а я забыл, и тогда мою парусиновую кепку сорвало с головы, и она вмиг превратилась в летящую вдаль точку. Впереди ещё две террасы, но я их уже не взял. Подошвы штиблет соскальзывали, камушки, собираясь в струйки, текли по морщинам утёса и падали в серебро.
Летом у этих валунов, похожих на гигантские шампиньоны, я частенько замечал с палубы седого старика в выцветшей гимнастёрке. На нём была панама с бахромой, какую носил Утёсов в фильме «Весёлые ребята». Он сматывал удилища и уходил куда‐то наверх. Я понял, что это и есть тот самый таинственный «скворец». И вот как‐то, опоздав на свой омик, я сел на последний, который шёл ночевать в Верхний Услон. Оттуда до моей станции только один путь – по берегу. По камням, перелезая через сказочные пни, будет часа два не меньше. Быстро темнело. Через час на дороге вырос огромный гриб, он зашевелился. Спичка, вспыхнувшая под шляпкой, осветила красное лицо, и я узнал седого старика. Он уже собрал манатки, в тяжёлом кукане хлестали по щекам злобную щуку жизнерадостные подлещики, невидимая банка из‐под червей гремела под ногами.
– Ого, – присвистнул он, когда узнал, откуда держу путь. – Закуривай, марафонец! – старик достал латунный портсигар с профилем Пушкина на крышке.
В сумке у меня булькнуло. Эту бутылку коньяка я вёз бабушке поднимать давление. Не довёз. Приземлились на ещё тёплый камушек. Старика, которому было всего‐то, наверное, пятьдесят, звали дядей Мишей. Мы приняли из горлышка за знакомство.
– Как же туда забираешься? – кивнул я на утёс.
– У меня, парень, верёвочная лесенка от самого крыльца к воде спущена. Вон, конец болтается… – выдал секрет дядя Миша и, защёлкнув портсигар, постучал им по ноге. Раздался деревянный стук. – Культя! – радостно сообщил он. – Винтами отсекло, когда Волгу на спор переплывал.
Но лазил он как обезьяна на одних только руках! Я же все ладони и коленки изодрал… И вот сижу на его крыльце и болтаю ногами, как пьяный ангел в ночи. Один штиблет так и улетел. Долго ждал, когда внизу раздастся шлепок.
Звёзды исцарапали всё небо. Штопорный ветерок приподнимал моё тело, и уже казалось, что я лечу над чёрной рекой с медленными огоньками пароходов. Волосы шевелились от страха и восторга. Я вцепился в рукав дяди Миши.
– Не боись, малец, я отсюда три раза падал! По пьяни, конечно. Но не долетал. За коряги цеплялся. А потом, просто надо умеючи падать. Смотри!.. – Он накрыл голову пиджаком и присел, готовясь к показательному прыжку. Но отчего‐то передумал и принялся лихо выбивать чечётку, крутясь на культе, как на циркуле. Крыльцо ходило ходуном, а единственная свечка на тарелке, проскакав по фанерному столику, спрыгнула в пропасть.
– Там, за крыжовником, яма. Всё уходит туда без возврата! – махнул ей вслед дядя Миша. Натанцевавшись, присел рядом. – Чё, улетела тапка‐то? – хохотнул и отпустил на волю пустую бутылку. – А какие тут воздухи парят, чуешь?! А завихрения?
И дядя Миша надул грудь и запел басом:
Прощай, радость, жизнь моя!Слышу, едешь без меня.Знать, должён с тобой расстаться,Тебя мне больше не видать…Волга замерла, прислушавшись, и точно в нужное место вставил в песню свой гудок невидимый пароход.
Дядя Миша достал измятый свадебный снимок у Вечного огня – всё, что осталось от прошлой жизни, и начал рассказывать про себя. В семнадцать лет, отпечатав стишки на машинке, отправился в Литинститут. Пришёл на экзамен хмельной, так как всю ночь гужбанил с одним московским мэтром («Вольшанский! Слыхал про такого?»). Завалил, потом год шатался по столице, подрабатывая в овощных отделах грузчиком. Вернулся в Казань, поступил на филфак. После первого курса исключили за прогулы, забрили в армию. Там замполит нашёл в его тумбочке трактат о возможности соединения коммунизма с анархизмом. Положили в психушку, а через три месяца комиссовали. Вернули матери. Каждый день она ему выедала мозг…
Чтобы убежать от неё, женился на первой встречной с квартирой, но через месяц понял, что сбежал из одной тюрьмы в другую. Долго обдумывал план побега. Однажды на пикнике, когда жена с тёщей и тестем пошли накрывать поляну («Три толстяка!»), оставил ботинки и одёжку на песочке, а сам, перемахнув через залив, запрыгнул в лодку, которая волочилась на канате за гружёной баржой. Хотел уйти в Астрахань, а может и на Каспий, но, когда баржа шла этими пугачёвскими местами, понял, что волю и глухомань можно и неподалёку найти – под самым носом у Казани!
Я слушал его, трезвея, и вдруг меня осенило. Я понял, что это он про меня рассказывает! Узкими азиатскими глазами душу мою разглядывает, ковыряет чёрным ногтем, выуживает из меня ржавым крючком и мне же самому мою жизнь излагает. Ловко придумал, сволочь! Но ведь я об этом только мечтал втайне, ярко во всех подробностях представляя, а он – сделал!
Я вцепился в перила крыльца, летящего с посвистом, как капитанский мостик каравеллы над ночным морем. Звезда рассыпалась окурком у моих ботфорт. Поскользнувшись на медузе, я полетел на грязный матрас с голубой блевотиной. Отстёгнутая культя весело, как обезьянка, запрыгала по палубе. А дядя Миша хохотал на мачте, влезая в петлю своего одиночества, которое он обрёл на утёсе, обманув судьбу‐злодейку.
Шабашник Надир
Он всю жизнь что‐нибудь строил. То одну дачу, то другую. Всё кому‐то помогал из родни забесплатно, бывало, что и шабашил, но полученные бабки оставлял тут же, не отходя от кассы. И тогда за строительным вагончиком быстро вырастала стеклянная горка тары.
Надир сладко пил горькую. Мог в одиночку выдуть две полулитры за вечер без закуски. Выставив вперёд хромую ногу, как пират культю, он ронял кудрявую голову на верстак, где цыганские кудряшки сразу же начинали дружить с белоснежными стружками, складывал трубочкой губы и начинал сладко посвистывать. Рука с набухшими венами подрагивала, во сне она оживала сама по себе и хваталась то за молоток, то за топор, но тут же роняла. Успокаивалась, только когда находила бутылку. Значит, всё хорошо, значит, в мире полный порядок.
Утром, морщась от блевотного запаха самогона, которым провоняли все чашки с отбитыми ушками, он глотал крепкий чай сразу из двух пакетиков, после чего выходил на стройплощадку и начинал цепляться к своим напарникам, которых ещё только вчера хвалил. Через полчаса придирок командовал: «Переделать всё к ёпрной матери! Косо и криво. Кто ж так строит? Вы ж меня, сволочи, позорите!»
Потом из города приезжал хозяин, привозил водки, сигарет и умолял Надира оставить всё как есть. Наливал ему граммов сто. Щёлкал услужливо зажигалкой. Уважительно называл «бригадиром». Надир тряс упрямыми кудряшками, шевелил ноздрями, громко вдыхал пары водки и немного добрел. Наконец соглашался: «Ладно, чёрт с тобой. Только ты никому не говори, что эту дачу я тебе строил!» «Не вопрос!» – соглашался тот и наливал ещё. Джип хозяина хрустел обледенелой травой, пустая бутылка летела к подружкам. Из угла испуганно, как кутята, таращились две целенькие и грели шабашнику душу. Он любил потянуть волынку. Пусть стоят себе час и два, даже до ужина. Приятно вожделеть, испытывая на себе слезящиеся от похмелья глаза напарников. Зато потом… Кривые улыбочки, гы-гы, добрая матерщина, кислый табачный дымок сединой вползает в нечёсаные шевелюры.
Лампочка мутнела, холодком тянуло в двери. Снаружи скулил абрикосовый пуделёк, забытый дачниками, который уже грыз с голодухи жёлтые огурцы. Аванс таял, росла бутылочная горка. Потом пропили японский инструмент. Внезапно нагрянул хозяин, но водки уже не привёз…
Надир был полугородской. В деревне не зимовал. Глубокой осенью, пропахший костром и мышами, возвращался в город к сожительнице и там дожидался весны. Каждую зиму делал ей ремонт. Без этого не мог. Задыхался без запаха краски. И, наконец, в апреле на первом омике, ломающем вафельный ледок, торжественно прибывал на дачу. Обходил, прихрамывая, соседние участки с плешками снега. Навещал знакомых.
Надир хромал с детства, говорит, прыгнул на спор с пристани, а внизу бревно проплывало. Теперь в его стоптанном ботинке всегда лежала отполированная деревянная пятка. Таких пяток у него было несколько: парадная из груши – к кому‐нибудь на свадьбу или юбилей, вырезанная из пенопласта – для пляжа. Была даже облегчённая из сосновой баклажки для высотных работ, эта прикручивалась шурупами к каблуку.
Любое строительство, которое он затевал, будь то двухэтажная дача с мансардой или банька, замышлялось им грандиозно, как Колизей. Он чертил на обрывках обоев план строения, доказывал заказчику, что надо заранее забабахать фундамент под будущую капитальную веранду, а балкон превратить в отдельную утеплённую комнату. Мало ли! Внуки пойдут, родня приедет… Таких поправок было множество, в результате небольшая фанерная дача превращалась на бумажке в загородный дворец, а баня – в Сандуны! И в первые две недели работа кипела. Надир, восседая на ящике с гвоздями и разглаживая на коленке утверждённый план, командовал шабашниками. Но удивительным образом почему‐то всё сразу шло наперекосяк. Вскоре начинали переделывать, а потом спешно исправлять переделанное…
В прошлое лето я привёз к нему нового заказчика. Это был главный бухгалтер журнала, который хотел построить скромную дачу на зелёном холме вблизи деревни Студенцы. Надир на куске обоев нарисовал ему проект коттеджа с тёплым сортиром, подземным гаражом, погребом, винтовой лестницей на второй этаж и смотровой площадкой над мансардой. На широкой лоджии, опоясавшей фазенду, можно было бегать трусцой, а на полукруглом балконе с роскошным видом на волжские просторы – пить чай из самовара. Проект очень понравился главбуху. Через пару дней тот пригнал на участок тёплый вагончик, троих узбеков, куль риса, мешков десять цемента для начала, а Надиру выдал аванс, завёрнутый копчёным лещом в газетку. И пошло‐поехало…
Наняв себе в помощники соседа, Надир сказал ему: «Дача эта будет, ох, высокой. Почти что три этажа на бугорке! Без лесенки никак. Айда, сначала сделаем лесенку». Надир выбрал самые длинные брусья, шагами отмерил по земле высоту будущей лестницы. Включил циркулярную пилу, и ему в лицо забил фонтанчик золотистых опилок. Мутная капля пота набухла на кончике носа. Лестница постепенно вытягивалась двумя белыми линиями на тёмной зелени сада. Врезные ступени с железными уголками обстоятельно, не спеша, делали две недели. Затем лестницу шкурили и три раза лакировали. Ну потом ещё недельку обмывали…
И вот как‐то чистым молочным утром Надир растолкал соседа, и они вышли в притихший сад. В конце аллеи сонно плескалась вода и поскрипывала пристань. Лестница – ликовала! Они обвязали её верёвками, ухватились дружно, потянули и… Ещё раз ухватились, расставив ноги, потянули и… Вены на шеях вздулись, ноги по щиколотку вошли во влажные грядки, но… Она, собака, даже не шелохнулась, только задрожала на брусьях крупная роса.
– Да, – удивился Надир. – Вот это я понимаю, – капитальная лесенка!
Она была настоящим произведением лестничного искусства. Блестела жемчугами на рассвете, отливала на солнце лаком, нежно оплеталась вьюном, и постепенно, как поваленная древнегреческая колонна, становилась частью природы.
Я открутил проволоку, которая символизировала калитку. Вошёл. С тех пор как Надир разобрал на нашем участке баньку и крышу, прошёл уже целый год. Я приехал разузнать, когда же…
Он лежал, крепко обхватив лестницу, как будто бы карабкался куда‐то вверх – в небо. Ботинок с пяткой слетел в траву. В бутылке с яблочным вином брюзжал шмель. И добудиться Надира было невозможно…
Мубарак из деревни Каляпуш
У всех были добротные ворота и калитки, а у него – голубая дверца от «Москвича». Сначала надо было отодвинуть коленом вислоухие лопухи, похожие на слоновьи уши, затем раздвинуть малину и прижать дверцей ржавую крапиву и тогда уж пробежать к крыльцу, поскальзываясь на скороспелках‐гнилушках. Бежать следовало быстро, потому что навстречу тебе гремела цепь волкодава. Нет, волкодав был первейший добряк, однако любил поиграть своими какашками, а потом положить огромные мокрые лапы тебе на плечи и скулящими глазами спросить: «Ну, как дела, чувачок?»
Но больше всего в тот день я переживал за тёмные прыткие бутылки, готовые выскользнуть пингвинами из потных ладоней. Как бы не кокнуть!
Тем летом всю страну иссушил, испепелил сухой закон, а здесь, в покосившейся избушке сельпо татарской деревни Каляпуш, вдруг выбросили настоящее розовое шампанское «Мадам Помпадур». Восточная сказка! Я их девять, мадамов, и купил. Ещё снулый от жары батон бумажной колбасы, банку килек, кулёк пряников – на всю стипу. В Казани это шампанское смели бы махом, а здесь оно грелось, пронзённое зайчиками, выпрыгивающими из чёрного ведра уборщицы. Низкорослый кривоногий народец с буханками оборачивался на меня, единственного покупателя этой дорогой и никому ненужной ерунды.
С июльского жара (даже яблоки на ветвях висели запечёные) нырнуть под козырёк крыльца в прохладную норку было одно удовольствие. Рубашка потихоньку отлипала от спины, джинсы, как самоварные трубы, остывали, носки мокрыми мышами уползали в угол. Красота!
Пьём исключительно из старинных бордовых бокалов не ради эстетства, просто прощальная гастроль Мубарака на земле предполагает роскошество.
На медном подносе появляется несуразная в данном случае горка редиски, коготки молодого чеснока, ломти колбасы и стеклянная чернильница, превращённая в солонку. Не забыл хозяин и про своё лакомство дембеля – пряники, которые он макал прямо в банку с килькой в томате. Вкуснотища!
Мубарак сворачивает одной «Помпадур» голову. Та шипит на него злобно. Что‐то покрепче пить ему не разрешалось. У него – белокровие. Из пробок от выпитого за июнь «Салюта» он уже смастерил оригинальное жалюзи и повесил над дверью. Приятно, входя, погреметь. Прямо как будто в старый кабачок «13 стульев» входишь: «А вот и я, пани Моника. Здрасьте!»
Главное, не покатиться на пустых бутылках, которые озвучивали ксилофоном каждый твой шаг. Попискивающий пол был весь с буграми, оттого что поблизости росла двухсотлетняя ива и своими корнями‐осьминогами приподнимала лаги. В неглубоком погребке под кухонькой пушистые щупальца лезли во все щели за трёхлитровыми банками домашних солений. Там же в сырой нише в обрамлении новогодней мишуры стояла католическая Мадонна, грубовато вырезанная из деревянной баклажки. Мубарак спускался к ней по вечерам, зажигал толстые огарки и минут пять стоял на коленях. Потом вытаскивал из‐за Мадонны бутылку с полынным чаем и «чистил кровь».
Наверху в спаленке у изголовья лежал в истёртом кожухе бабушкин Коран, и повсюду, даже в бане, были развешаны шамаили с мечетями, вырезанными из фольги от шоколадок, и ползущими гусеницами изречений из Корана. В буфете сидел фарфоровый пёсик, которого Мубарак называл «Святым Христофором» и подкладывал под него денежку. Обязательно должна быть новенькая. Молился он своим богам нагишом. Объяснял, что перед силами небесными человек должен стоять в чём мать родила. Соседи смотрели на Мубарака с ухмылочкой. Не общались, на свадьбы не приглашали. Не позвал и родной сын. Забор, которым он отгородился от отца, был глухой. Мубарак только по голосам понял, что стал дедушкой…
Интересно, как он к внуку свою любовь проявлял. Проходя мимо, как бы невзначай, перебрасывал на «вражескую территорию» золотой ранет, который плодоносил только у него медовыми райскими яблоками.
В воскресные дни, помолившись, Мубарак облачался в тёмно-вишнёвый халат с зелёным пояском, натягивал узкие сафьяновые ичиги, нахлобучивал малиновую феску с кисточкой и не спеша, ханской походкой, направлялся в гараж. Внутри в бензиновом сладком облачке стоял одинокий экспонат – мопед «Рига11». Мубарак сдёргивал попону – красный прикроватный коврик – и несколько минут любовался техникой, что‐то подкручивая, подтягивая, где‐то подтирая салфеткой. Мопед был как будто бы целиком отлит из золота. После покупки Мубарак разобрал его и возил по частям на Казанский вертолётный завод к приятелю, который работал в гальваническом цехе. Тот хромировал детали и покрывал золотой эмульсией. Собрав мопед обратно, Мубарак начал его украшать, как туземного вождя. К каждой ручке прикрепил по пять зеркал заднего вида и повесил два лисьих хвоста от воротника маминой шубы. Седло обшил каракулем. Сзади на шесте закрепил новогоднюю звезду и обмотал багажник гирляндой. На крылья налепил крупные алмазы. Сбоку у бензобака повесил транзисторный приёмник «Турист». Индюшиные перья распушил веером над фарой.
Подняв пыльную завесу в деревне, Мубарак устремлялся в Казань. Как‐то он взял меня с собой, и я стал свидетелем, как советских граждан, облачённых во всё серое, неброское, хватал на улицах столбняк. Они разглядывали мопед и светлели лицом. Мубарака узнавали и махали ему с тротуаров, как Гагарину.
В конце августа я уезжал с филфаком на картошку. На прощанье мы распили с ним последнюю «Помпадур», а когда я вернулся, он уже лежал на мазарках13. Быстро сгорел! Никому не нужный добрый волкодав играл у сельпо своими какашками. Я купил ему пряников, колбаса кончилась, а себе на талон – бутылку «Имбирной». Покрутившись возле дома Мубарака, притулился на какой‐то трубе и помянул…
Уходя, всё же не удержался и заглянул в сад. Под яблоней была свалена в кучу старая мебель, на тахте лежала Мадонна, треснутое зеркало разрезало мокрый сад напополам. По земле были разбросаны книжки и виниловые пластинки. Окна – нараспашку. Во дворе сын Мубарака сосредоточенно обдирал с золотого мотоцикла лисьи хвосты…
Умирали сверчки…
Рауф забрался на холм и упал в ржавую траву, взъерошенную волжским ветродуем. Старый почерневший кузнечик вылез на мостик стебля, сложил лапки, чтобы помолиться, но не успел – окочурился. Откуда‐то из спутанных извилин выскочили стишки, которыми Рауф баловался в юности.
Умирали сверчки от холодной росы,пчёлы сыпались в тёмный шиповник.Собирал помидоры садовник,в горьком дыме желтели усы.Тощих тетрадок с кривыми столбцами было всего две. Одну автор подарил первой жене – Мадине, вторую измусолил и потерял баянист Фаннур, пока перекладывал строчки на свой «фирменный» мотив, который всегда заканчивался убегающими по кнопочкам пальцами: «прыбабаба‐па».
Рауфу нравилось, что человек искренне старается, переживает, чуть ли не рыдает над его «свершками». Этот романс был хитом на деревенских свадьбах. Невесты слёзки роняли в оливье и целовали Фаннура под косые взгляды пьяных женихов. Потом он повторил судьбу сверчка – заснул, нырнув в дырявый шалаш бродяги с матрацем из первого снега. Это произошло за придорожным кафе, где гуляли. Утром он был как мрамор, с белыми пальцами, притопившими кнопочки клюквы, проросшей в шалаш. Баян в руках участкового, хрустнув ледком, спаявшим меха, выдал вступление к «Сверчкам», и в остекленевшем воздухе пробежала трещинка грусти с запашком вчерашней водки. А берёза поблизости с обледеневшими листочками аж вздрогнула, как сервант с рюмками во время драки. Прощай, Фаннур!..
Внизу от пристани отчалила пустая мошка. Рейсы в будни сильно сократили, дачники с октября ездили только по выходным. У окна сидела женщина в голубином платке. Она внимательно посмотрела на Рауфа и вдруг помахала ему. Он выдернул толстый стебель полыни с корнем и вдавил сношенные каблуки в землю, осыпав вниз камушки. Это же Машка! Её платок, её движения. Мошка, отфыркиваясь, затопала на фарватер. Все пальцы были перепачканы кладбищенской рыжей глиной. Закопал он свою Машу и полез на холм, где они любили сидеть, поглядывая на скользящие по стеклу игрушечные пароходы.