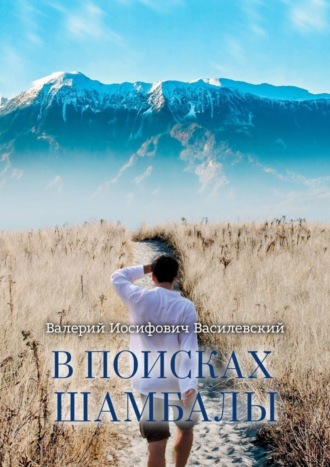
Полная версия
В поисках Шамбалы
Как оказалось, Пашка присматривался к новому знакомому, давал читать приключенческие книжки. Настал день, когда и привлёк его к первому приключению.-Виталий говорил хмуро, словно вспоминая собственную жизнь.
– Стоял возле железнодорожной станции продуктовый павильончик. Разбитная, весёлая продавщица, не могла долго усидеть на одном месте. Когда не было клиентов, выходила на улицу поболтать со знакомыми товарками-торговками семечками, орехами, фруктами.
А с задней стороны павильона росли группой молоденькие пышные деревья, прикрывающие от постороннего взгляда очень заманчивое маленькое окошко, через которое грузчики подавали Нинке ящики с пивом. Так было удобнее, чтобы не загораживать вход во время разгрузки. А летом окошечко это Нинка даже не закрывала: пусть работает как вентиляция…
И вот Павел предложил Виктору небольшое авантюрное, как он сказал, приключение. Сам он отвлечёт Нинку, а тощий Витька ввинтится в это отверстие и вытащит несколько бутылок. Интересно, увлекательно, почти приключение.
– И всё так и получилось? – не выдержал Тёмка.
– В жаркий полдень Паша принёс на продажу собранную заранее малину. Нина, стоящая у дверей и болтавшая с подругой, продававшей грибы, захотела полакомиться. Спросила цену. Пашка нарочно заломил вдвое против обычного. Продавщица стала смеяться, в шутку предлагала заменить её в павильоне, мол, умелец растет. Хохмили оба. В шутку торговались. Этих трёх минуток Виктору хватило, чтобы на половину туловища протиснуться внутрь строения, дотянуться рукой до полки (из рядом стоящего ящика он брать пиво не стал, сразу заметит), выудил пару бутылок и был таков.
То ли Нинка даже не заметила пропажи, то ли подумала, что прихватил их её любовник, который частенько заглядывал, чтобы опохмелиться, но всё для мальчишек окончилось благополучно.
Позже оказалось, что Павел выполнял поручение старших, заманивая Виктора лёгкой добычей. Сам он уже не мог быть успешным форточником, ему исполнилось шестнадцать, за год раздался в плечах, да и задница слишком округлилась.
С тех пор и началась для Виктора жизнь, полная приключений. Он заменил Павла и стал удачливым вором-форточником.
Артём решился перебить рассказчика: – Макс говорил, что история очень интересная, а пока очень обычная.
– Торопишься, парень, – невозмутимо, как обычно, возразил шеф. – Сколько сейчас Винтику лет? Скоро сорок. А я начал рассказывать с шестнадцати. Ну, если короче… В восемнадцать пошёл служить в армию. Стал танкистом, трактористом, бульдозеристом… И вообще – механик, мастер на все руки, как говорят. Отслужил в Прибалтике, вернулся в Опалиху, где жил. Бабка умерла. Дача опустела, разграблена, даже кровати вынесли, бомжи изгадили все вокруг. Куда податься?
Вспомнил одну школьную подружку, которая нравилась. Но симпатия не была взаимной. Где-то она? Разузнал, что замуж не вышла. Живёт одна. Нашёл ее дом. Постучал. Молчание. А дверь возьми и скрипни. Не закрыта. Вошёл. Стол накрыт, тарелка с супом дымится, а никого нет. Вдруг слышит из спальни какой-то шорох, шумок. Осторожно подошёл, прислушался, кто-то хрипит, возится. Открыл дверь, смотрит: на кровати какой-то бугай одной рукой зажал рот девчонке, молчи, мол, придавил её всем телом, вторую руку в карман тянет, что там у него – чёрт знает.
Виктор прыгнул, он всегда был ловок и изворотлив, как угорь, на лету схватил с тумбочки какую-то хрустальную вазу и врезал ею по голове насильнику. Оказалось – убил. Судили, впаяли восемь лет. Посчитали, что превысил меры защиты этой девушки. Хотя в кармане у бугая нашли пистолет.
А интересное в этой истории такое: приехала Марина на зону, где Виктор отбывал срок наказания, и расписались они. Отсидел четыре года, полсрока скостили за хорошее поведение. Двое детей у них сейчас. Марина с ребятами в Бодайбо живёт. Домик построили. Туманов помогал. Знаешь, за что? – Виталий выпил стакан воды – пересохло во рту. Предложил Тёмке, тот отказался.
– Пришлось как-то Виктору под зиму остаться одному с провалившимся под лёд бульдозером. Оставили ему ружьё, брезентовую палатку, железную печку.
Сторожи, мол, друг, утопшую в болоте машину. Иначе потом не найдешь проклятое это место. Два месяца выживал он возле этого болота при 40-50-градусном морозе. Но не просто ждал подмогу. Каждый день осторожно, слой за слоем, долбил наледь, снимая намёрзшую массу воды и грязи.
– Похоже на сказку. Так бывает только в книгах, – возразил Артём. – И уж очень подробно вы всё это рассказываете, словно были рядом. – Молод ты ещё, мало чего повидал на свете. А потому дурак-дурачок!
– Может, я чего и не понимаю. А вот вы, Виталий Афанасьевич, пожалуй, многого не знаете. Дураки-то в нашем языке появились в 17 веке с лёгкой руки протопопа Аввакума. И называл он так почитателей мудрости: риторики, философии, логики. Правда, считал он её бесовской.
Виталий несколько обалдело взглянул на пацана. Откуда, мол, такие знания?
– А позже поборники старой веры «дураками» стали называть защитников исправления богослужебных книг во время реформы патриарха Никона. Ну, а лингвисты полагают, что титул «дурака» был связан с ритуалом посвящения в скоморохи, а происходит это слово от индоевропейского dur – кусать, жалить. Скоморохи, ведь, укушенные, ужаленные – не иначе. Прыгают, чудачат, кривляются…
Виталий удивлённо продолжал молчать, раздумывая: что за помощник у него появился? С Сергеем говорит по-осетински, с грузинами – по-грузински, с армянами – по-армянски.
– Ой, парень, тебе бы именно лингвистикой заниматься, с твоей-то памятью и способностью к языкам. А ты на кухне застрял. – Он помолчал немного, потом решил ответить, почему так подробно знает историю Виктора-Винтика.
– А с Витькой мы служили вместе. Ровесники и земляки мы, из Опалихи. В армии сдружились, а потом встретились случайно в Москве, когда его уже освободили и приезжал навестить родню. Он меня сюда и заманил. Я и в Москве неплохо зарабатывал, но здесь, конечно, больше. И захотелось чуть-чуть попутешествовать, пока не женился.
ОТ АВТОРА
А мне вдруг захотелось повольничать и рассказать о себе, чтобы молодые читатели поняли, с кем имеют дело. Ведь многое, о чём вспоминаю, пришлось пережить и самому. О тех временах молодёжь так мало знает, это так далеко от современости, так непохоже.
Я много путешествовал. Во время войны семью эвакуиировали из Днепродзержинска, где тогда работали родители, в Казахстан. Жили рядом с какой-то воинской частью. Мой (тогда двухлетний) братишка в платьице, сооружённом для него бабушкой, то ли из бывшей скатерти, то ли из занавески, однажды пристроился в очередь к солдатам, получающим в полевой кухне кашу. С того дня в полдень у нас во дворе звучало: рядовой Василевский – на обед!!!
Пока я учился – девять школ поменял в разных городах страны. В первый класс пошёл в Днепродзержинске. Город помнится рыбалкой на Днепре вместе с папой, где он как-то выудил около тридцати сомят, приплывших вместе с плотами с верховьев реки, и майским салютом 1945 года в честь окончания войны. Второй класс – уже в Павловском посаде, где жил тогда мамин брат-художник, вернувшийся с войны.
Привёз он с собой из Германии добычу: пачку швейных иголок, очень они ценились тогда, и альбом с марками да открытками. Красивые, очень познавательные для детского ума – чего только не насмотрелся – королей разных, канцлеров, соборы там были красивые, замки… Однажды бабушка застала меня за просмотром всяких картинок, отняла альбом. Она, учительница, увидела там несколько вульгарных, как посчитала, полуодетых красавиц, танцовщиц… и сожгла альбом. Сколько он сейчас мог стоить – ума не приложу. Но очень много.
Из третьего класса осталась в памяти моя фотография в пионерском галстуке, ботинки, доставшиеся мне из посылок, присланных в помощь стране американцами, да гостиница в Рязани, где во дворе мама готовила на костре обеды для семьи. Ижевск откликается в памяти замечательной рыбалкой да стоянием в очереди за хлебом. Потом был уральский городок Чусовой, где в нашей убогой комнатёнке тараканы во время обеда падали в тарелку с потолка.
Пятый класс запомнился театральными закулисами в городе Рыбинске (тогда Щербакове), где я постоянно пропадал: папа с мамой на сцене, а я в маленькой комнатке рядом, где стояла шахматная доска и куда по очереди, уходя со сцены, садились мои партнеры. Здесь я впервые увидел Павла Кадачникова – живое воплощение любимого героя из кинофильмов «Повесть о настоящем человеке» и «Подвиг разведчика». Он проездом был в Щербакове, и встретился с коллективом театра.
На следующий год, уже в театре Калуги, то ли партнеров не было, то ли шахмат, но почти всё время проводил на балконе или в оркестровой яме: там впервые услышал дуэт Бунчикова и Нечаева, потом Людмилу Лядову, взахлёб хохотал, наслаждаясь «Свадьбой в Малиновке», особенно игрой Михаила Водяного, с которым через тридцать лет вспоминал эти гастроли его театра оперетты, когда он отдыхал в Кисловодске и мы часто общались.
А потом – возвращение на родину – в Смоленск. Это был 1951 год, город ещё не восстановился после войны. Жили в бараке, около восьми квадратных метров на четверых, папа с мамой спали на кровати, а мы с братом – на сундуке (едва ли нынешние читатели даже понимают это слово). Ещё по квадратному метру оставалось для печки и убого стола. Учился в одной из старейших школ в России (сейчас это гимназия), которую прославили многие, в том числе и знаменитый путешественник Пржевальский (сплетники втихаря шептали, что он отец Сталина, уж больно похожи).
И следующие три года – шахматы, шахматы. Шахматы! В девятом классе наш незабвенный физик, умный, проницательный, по прозвищу МГБ (Макс Генрихович Бернацкий), приклеил мне прозвание – ЧАХ. В 1955 году я уже стал чемпионом области по шахматам. Потом играть почти не пришлось: служба в армии, учёба в университете, кочевая судьба собкора центральной прессы.
И в дальнейшем журналистские дороги заносили меня командировочным ветром в разные края, но вот в тех золотоносных местах, где артельщики добывали третью часть золотых богатств России, побывать не довелось. А потому я не сумею описать их, хотя очень хотелось. Фантазия здесь может соврать, тогда начнут придираться знающие люди.
Вот и приходится мне пересказывать дальнейшие события, произошедшие на прииске, со слов Макса, Артёма, с которыми дружил, и Виталия, он не раз угощал меня в Москве, когда вспоминали прошлое.
В клубе. 1980 год
Была в общежитии комната, приличный зал, где в шкафах лежали книги, на столе – шашки, шахматы. То ли библиотека, то ли клуб. Сюда однажды вечером зашел Артём, привлечённый треньканьем гитары. Возле окна сидел на табуретке красивый блондин лет на десять старше, с профилем композитора Чайковского. Пышные волосы сплетены в косичку, длинные пальцы рук, очень сильные, видно с первого взгляда, ласкали гитару. Артём встречал его в столовой, всё хотел понять, каким ветром занесло сюда эту экзотическую для здешних мест птицу. Артист или циркач?
Гитарист дружески улыбнулся. – Кор-ми-лец, – растягивая слово, словно напевая, – протянул он. – Давай познакомимся. Знаю, тебя зовут Артёмом. Аркадий я, Соловьёв, иногда кличут Соловьём, но не к месту. Петь-то я люблю, как все геологи, да голосок слабенький. Вот странно, в руках и в теле силы хватает, а горло подкачало.
Артём решил, что свою кличку в этой обстановке называть не стоит. Подошёл протянул руку. – А спой что-нибудь, мне интересно. – Аркадий не стал кочевряжиться.
– Ладно, я сейчас пробовал переложить на ноты один свой стих. Давно написал, лет пятнадцать назад, ещё в армии. А служил я в железнодорожных войсках, стояла часть в Советске, это Прибалтика, бывший немецкий Тильзит. Помнишь Тильзитский мир? В школе проходили.
– Помню, его император Александр с Наполеоном подписали на плоту посреди Немана. Соблюдали границы!
– Ух ты! Читать любишь? Ладно, угощу тебя как-нибудь вкусной книжицей. А сейчас послушай. Он закрыл глаза, сосредоточился, взял пару аккордов. И запел:
В предутренней рани взлетела ракета,Испуганно канув в полоске рассвета,И вот мы на марше, и ветер навстречу,Усталости нашей он давит на плечи.(– Речитатив был выразительным, но голос не соответствовал тексту. Нужен был баритон, а у Аркаши был слабенький тенорок).
Затылки и спины сомлели от пота,Без отдыха рота, не выспалась рота,– продолжал певец.
– Но воин огромною выдержкой ценен,Качаются рядом упрямые тени.Я верю устанут, я верю отстанут,Я знаю – моею усталостью станут..А солнце – всё выше, а шаг— всё короче.От пыли пожухла трава у обочин.Сапог тяжелее, чем в праздник лопата.И обруча твёрже ремень автомата.– Он вдруг замолчал. Артём непонимающе взглянул на него, продолжай, мол. Но Соловьёв уже поднимался, оказывается в комнату тихонько, чтобы не мешать, вошел Леонид Мончинский.
– Извините, что помешал. Что это ты пел, Аркаша? – Тот немного смутился. Он знал, что Мончинский сам пишет стихи, рассказы. —Да это так, старые стишата.
– Твои? Что же ты мне не показывал? Ещё и музыку сочиняешь. – Закончи, пожалуйста, я очень хочу послушать.
Аркадий снова не стал ломаться.
– Во рту пересохло, в глазах потемнело,Но солнцу до этого вовсе нет дела…Дорога, дорога, дорога, дорога,А сбоку – кому-то родные пороги.И чья-то пшеница под ветром не гнётся.Мой дядя отсюда домой не вернётся.Над Неманом старым давно уже встал онНа бронзовый вечный свой пьедестал…Тут певец закашлялся, отложил гитару.
– Простите, больше не могу.
– Ну, тогда почитай стихи!
– Я никогда этого не делал и никому свои вирши не показывал, – возразил Аркадий.
– Но ведь когда-то надо решиться. А вдруг доставишь людям удовольствие? Попробуй! Не трусь, – добавил Леонид.
Последняя реплика и сыграла свою роль. Показаться трусом? Этого здесь не мог позволить себе ни один человек. Соловьёв достал потрёпанный блокнот, слегка взмахнул им.
– Вот об этом моём старом товарище есть у меня стихи. – И начал.
– Ах, эти старые блокноты-Судьбы опавшие листы.За каждой строчкой – трепет нотыНесостоявшейся мечты.Чуть клавиши рукой тревожнойКоснёшься ненароком, вдруг —Ласкают пальцы осторожноПроекты юношеских мук.Они полны надежд весенних,Неясных снов, тревожных дум,Когда душой владел Есенин,А Богом был не рубль, а ум.Но повзрослевшими глазами,Послав прощальный им привет,Бежишь, не выдержав экзамен,Трусливо отложив билет.Созревший разум откровенноСъедает тайны прошлых лет.Не стало тайны сокровенной,Была загадка – больше нет.Артём, слушая, недоумевал: почему этот талантливый парень варится в собственном соку, почему не оттачивает своё мастерство в кругу себе подобных? И концовка стихотворения: экзамен не выдержан. Интересно какой?
– Да-а-а, рублик одолевает натуру человеческую, – перебил его мысли Леонид. – Но ведь не один же экзамен в жизни человека! Вот сейчас ты на отлично сдал его самому себе, переступил через свою закрытость, стеснительность, неуверенность. Назови как хочешь. Стихи-то хорошие! Выпусти их из заточения. Я помогу тебе, чем смогу. А для начала приходи ко мне, я дам тебе почитать книгу Валентина Катаева «Трава забвения», вышла в позапрошлом году, так что ты едва ли смог её увидеть, Аркадий.
– Да уж, – рассмеялся тот, я тогда и имя-то своё редко слышал, всё больше то Соловьём, то пташечкой звали. А о чём книга?
– Раздумья о творчестве, настоящем, не случайном – выстраданном, прочувствованном. Встречи с Буниным, Маяковским. Я надолго запомнил несколько строк, очень полезных мыслей для начинающих артистов, подходит и для поэтов. Бунин для тогда ещё гимназиста Катаева вспоминает, как великий режиссёр Станиславский на репетиции сказал одному актёру: «Можете играть хорошо, можете играть плохо. Играйте, как угодно. Меня это не интересует. Мне важно, чтобы вы играли верно».
Вот так один из лучших поэтов России обсуждал на встрече со взрослеющим мальчишкой Катаевым его стихи. Поэту важно было увидеть не рифмотворчество, этому можно научиться, а умение видеть суть дела, предмета, явления и образно передать свои ощущения читателю…
Долго они говорили в этот вечер. Говорили двое, Артём лишь слушал. Но уйти не хотел, он впервые присутствовал при полёте мыслей, а не бильярдных шаров.
Вечер с Максом
Вернувшись в свою комнату, застал Макса снова с бутылкой пива в одной руке и газетой в другой.
– Что пишут твои собратья? – спросил Артём, отвыкая от выканья.
– Это «Кавказская здравница», старая газета, прихватил в Пятигорске на всякий случай. Посмотрю, думаю, что там мой друг Венька пишет. Нет его материалов. А из новостей для тебя одно интересно: братья Вайнеры отдыхали в Кисловодске, не встречал?
– Нет, не случилось. Но знаю, что побывали они в гостях у моего знакомого, зовут его Шуриком Шараманом. Знаменитый картёжник, катала, как теперь говорят. Он случайно с ними познакомился, сидел в парке на лавочке возле колоннады. Один его партнёр подбежал занять денег. Ставки в игре, которая проходила неподалёку в шахматном павильоне, резко повысились. Попался какой-то лох, хорошо его заманили, оставалось провести заключительный удар. Шурик достал довольно толстую пачку купюр, и не считая, отдал.
– А не обманут? – проходя мимо, спросил Георгий Вайнер, по прежней сыщинской привычке не упустивший из виду удивительную сцену.
– Меня? – искренне удивился Шурик. Этот ответ остановил чутких на слово и интонацию писателей. Слово за слово – познакомились, сходили в кафе, выпили пивка. А потом Шараман и пригласил их в гости вместе с друзьями.
– Так ты вхож в мир картёжников! – констатировал Макс.
– Кое – чему они меня научили, – неохотно признал Тёмка, подумав, что напрасно рассказал подробности.
– И в преферанс играешь?
Внезапно проснувшийся в нём Темнила усмехнулся и промолчал.
Макс уловил усмешку. – А в «Банк»? Знаешь такую игру?
Тёмка не выдержал: – Играю и в рамс, буру, очко, терц, штос, и в «Фаро», и в «Баязет»…
– О-о-о, – восхитился Макс. Но желание поддеть мальчишку не оставило его. А историю-то борьбы с картами в России знаешь?
– Хазар, так зовут и в Москве сейчас очень известного картёжника, а в школе его называли Серёжкой Хазаровым, немного рассказывал.
– Ну, вечернюю лекцию я сегодня устраивать не буду, хотя знаю на эту тему много, писал материал для одного журнала. Только скажу, что Уложение 1649 года, это свод законов того времени, предписывало замеченных в игре « в картах и зернью» приравнивать к «татям». На первый раз их били кнутом, на второй – отрезали левое ухо, а при третьей попытке отправляли на каторжные работы.
Через полтора века ослабели законы, запрещено было лишь организовывать игорные дома, а за участие в азартных играх налагались взыскания, довольно умеренные по тем временам. А в начале 20 века объявление игры азартной, а следовательно, запрещённой, зависело уже не от закона, а от распоряжения министра внутренних дел.
– Видно, министр этот был в доле у картёжных профессионалов, – пошутил Артём. – Ведь в Кисловодске в то время, рассказывал мне один знающий гид, было много увеселительных заведений. Самое известное, «Казино», помещалось на даче «Мавритания» госпожи Барановской, где были ещё летний театр, ресторан и воздушная терраса. Неподалёку, на даче некоего Балабанова, приютилось «Филантропическое собрание».
В июне и в июле, когда к нам на Воды приезжала воистину «золотая» публика, картёжники снимали очень богатый урожай. Не бедствовало и само казино. Помню, гид говорил, что в первый же сезон, который считали неудачным, «Казино» отчиталось прибылью в 80 000 рублей. Для сравнения могу добавить, что приём одной нарзанной ванны стоил от 25 до 40 копеек! Поэтому «Филантропическое собрание», которое отчисляло 40 процентов от прибыли на благотворительные дела, тоже процветало.
А уж заезжие шулеры тем более. Количество проигравшихся и разорившихся картоманов никто не считал. Но в конце сезона выяснили, что за эти несколько месяцев случилось 10 самоубийств.
– Вот и ты, Артём, прочитал мне лекцию. Счёт равный: один-один. Но я всё равно в выигрыше, понял, что с тобой играть в карты не стоит. Я азартным становлюсь, когда какое-нибудь дело всё же начинаю. Это – не начну. Спать! – скомандовал он.
Уроки в новой школе
На следующий день Артём собрался выбрать часик и смотаться на прииск. Посмотреть, наконец, как добывается золото. Во второй половине дня работы было уже мало, он отпросился у Виталия и вышел на дорогу, чтобы поймать попутку. Вскоре она появилась. Из кабины КАМАЗа выглянул Сергей!
– Ух ты, снова нежданная встреча. Здорово, кормилец. Подвезти? Садись.
– Так ты шоферишь здесь, земляк!
– Подожди, скоро в начальники вырвусь, – пошутил осетин.
Минут пятнадцать болтали о том, о сём. Сергей похвалился, что получил письмо от подруги, она медсестрой работает в санатории «Ласточка». Правда, вести печальные: заболел Степан Гайкович Айрапетов…
– Это главврач, который тебя на работу принимал? – уточнил Артём. – А я вспомнил, что мне о нём рассказывал Леван, мой старший товарищ, живём рядом. Он как-то по случаю выполнил просьбу одного друга – отвозил на своей машине в «Ласточку» трёх гроссмейстеров: Льва Полугаевского, Леонида Штейна и Ефима Геллера. Они участвовали в каком-то шахматном турнире в Кисловодске. Уговорил их знакомый врач, друживший с Айрапетовым.
– Да, я знаю его, это Валентин Погосян, бывал в «Ласточке» он, и оба очень любили шахматы. В тот день устроили в санатории вечер воспоминаний, Геллер ведь тогда только вернулся из Исландии, где был тренером Спасского, проигравшего матч на первенство мира Фишеру.
– Странно только, что гроссмейстеры согласились поехать в гости к незнакомому человеку в другой город.
– Разгадка проста: с ними был еще корреспондент «Кавказской здравницы», кандидат в мастера, писавший заметки с этого турнира.
– Встречался я с ним пару раз, – усмехнулся Тёмка.
– Сам он дружил со Степаном Гайковичем. – продолжал Сергей, – часто играл с ним, давая фору. Он как-то и рассказал гроссмейстерам о необыкновенной судьбе этого человека, его авторитете. Ведь в одном из корпусов санатория, дачей его называют, останавливаются только очень весомые люди. В позапрошлом году был секретарь ЦК партии Фёдор Давыдович Кулаков, который недавно умер при загадочных обстоятельствах. Постоянно, ещё с комсомольских времён, наезжает первый секретарь крайкома Михаил Сергеевич Горбачёв… Не думай, что только из-за комфортных условий отдыха они сюда едут. У Горбачёва по краю много нужных людей.
– Мне знакомые официанты в Кисловодске рассказывали, что любит он бывать в «Храме воздуха», и не раз банкеты за него еще в комсомольские годы оплачивал председатель колхоза Леонид Цинкер.
– А-а-а, я знаком с Женей, его дочкой. Они жили в элитном пятигорском доме этажом выше Виктора Казначеева, который тогда был первым секретарём горкома КПСС. Он в карьере идёт буквально по следам Горбачёва, сейчас уже второй в крайкоме. Я как-то готовился показать очередным гостям любимый фильм Степана Гайковича «Серенада солнечной долины», была такая возможность на даче. И случайно услышал, как Казначеев рассказывал, что Цинкера несколько раньше обвинили в незаконном расходовании средств. Он попытался попасть на приём к Горбачёву, но тот даже не захотел его выслушать.
– Ну, этим-то меня не удивишь. А что же, если не уют и застолье хорошее, влечёт туда начальство?
– Им интересен сам главврач: умница, с блестящей памятью, замечательный рассказчик…
– А чем же необычна судьба Айрапетова?
– Ну… Подробно рассказать не сумею, скоро прииск, подъезжаем. А в двух словах: пионерский, комсомольский вожак, два образования – медик и историк, когда немцы подходили к Ростову был оставлен органами со специальным заданием, явка была разгромлена, связной погиб, остался Айрапетов без связей с подпольем. Устроился в немецкую организацию Тодта, которая кажется, строила различные коммуникации. Побывал в Берлине, рассказывал, что видел Гитлера на митинге… С партизанами установил связь только в начале 1944 года, кажется, с чешскими. После войны работал хирургом, потом стал главным врачом этого санатория. Писали на него анонимки, дескать, прислуживал немцам, пока на одном из активов не поднялся Нордман, начальник краевого КГБ, и не сказал, чтобы прекратили это делать. Закончил словами: «Степан Гайкович очень уважаемый нами человек».
– Я вижу, что и тобой тоже.
– Конечно. Он и мне много добра сделал. Кроме всего прочего, попросил Туманова, с которым хорошо знаком, принять меня на работу, когда я вернулся со службы в армии, поручился за меня
– А почему нужно было ручаться? – спросил Артём, понимая, что не следует упускать удобный случай узнать что-то интересное из судьбы самого Сергея.



