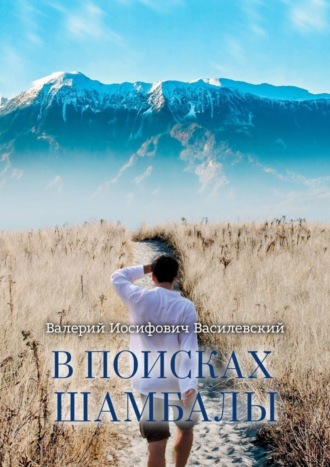
Полная версия
В поисках Шамбалы
– Неужели этого Туманова?
– И не одного. Группа золотодобытчиков на фоне бульдозера, а в центре Туманов в обнимку с Максом!
– Репортёра ноги кормят! – Отреагировала Соня.
– Не совсем так. Он тогда просто работал в артели Туманова. Сначала бульдозеристом, потом бригадиром… А знаешь, чем кончилась наша встреча?
– Не томи…
– На следующий день мы сидели с Максом в «Заре», он познакомился с моим дядей и уговорил его отпустить меня вместе с ним поехать к Туманову. Макс ехал писать репортаж для газеты о новой артели Туманова. Через неделю мы были в посёлке золотодобытчиков… Ну, об этом долго рассказывать. Как-нибудь в другой раз. Расскажи-ка ты о себе.
Соня похвалилась школьной золотой медалью, успехами на выставках одежды. Оказывается, этот дагестанский костюм ей подарили после того, как признали лучшей моделью на Ставрополье.
Вечерело. Артём, так нежданно влюбившийся, растерянно прокручивал в своём обычно безотказном компьютере варианты: пригласить в гостиницу, договориться о встрече на завтра или сначала спросить о её планах?
Соня тоже просчитала ситуацию, улыбнулась и, словно извиняясь, тихонько сказала: – Мне пора. Я ведь ночью уезжаю… Артём попытался что-то сказать, но девичья рука погладила его по щеке, в глазах девушки застыло сожаление. – Меня ждут жених, приключения и дальние страны, – громко, раскатисто рассмеялась. – Может быть, увидимся когда-то, – провещала, вскочила, и исчезла так же неожиданно, как появилась.
(Мне, рассказчику этой истории, очень хотелось вмешаться, остановить этот нежелательный для двоих побег, но тогда тропинка жизненных странствий увела бы моих героев, которым судьба подкинула пробный шар, в совсем иные приключения. И едва ли Артём вернулся бы в 1992 году в Кисловодск, где снова встретился с Тумановым. И снова на опасную вершину)…
1980 год
ОТ АВТОРА
Я легко путешествую в своей книге из года в год. И чтобы помочь читателям не запутаться, иногда приходится кое что подсказывать. Если вы не читали мою предыдущую книгу («Отложенная партия»), в которой много страниц посвящено журналисту Максу Росс, по прозвищу «Везунчик», то давайте последуем за ним сейчас. Он договорился с Вадимом Ивановичем об интервью. Тема была беспроигрышной. Артель Туманова («Печора») начала осваивать базовые принципы предприятия нового типа: многопрофильного, полностью хозрасчётного, самоуправляющегося, социально ориентированного. Это был экзотический уголок свободного предпринимательства в мире жёсткого централизованного планирования. Одновременно с традиционно разрешённой добычей золота артель начала на хозрасчётных условиях осуществлять геологоразведочные, общестроительные, дорожно-строительные работы, причём рекордными темпами и с отличным качеством.
Артель «Печора»
Без приключений Макс и Артём добрались в Инту, где была одна из баз «Печоры». Удивило и обрадовало общежитие: с бассейном и зимним садом. Увы, везунчику, впервые не подфартило, интервью с Тумановым пока не сложилось, Вадим Иванович неожиданно улетел в Москву. Но простаивать пишущий «волк», которого кормят ноги, не умел. Оставил Артёма обустраиваться в комнате, которую им выделили на двоих, и побежал искать знакомых. Не было в мире места, где таковых не находилось.
Так и случилось. Первым же встречным оказался Леонид Мончинский, Макс общался с ним в московском Доме журналистов, и в Иркутске, где тот жил.
– Старик, привет! – раскинул руки Макс.
– Везунчик! Какими судьбами?
– Да вот, хорошего повара сюда привёз, – отшутился Макс.
– Ну, тогда сразу пошли в столовую! Где протеже?
Они захватили Артёма и пошли обедать. Столовая порадовала чистотой, порядком. Познакомились с шеф-поваром.
– Зовут Виталием, – представился тот, – учился, трудился, мучился в Москве, сюда приехал на отдых, – пошутил дородный, молодой еще хозяин кухни. Обрадовался приезду Артёма.
– Говорил Вадим Иванович, что ты прилетишь, хвалил твои киевские котлеты. Рад такому помощнику. Но сегодня ты – гость. Отведайте моих разносолов. Правда, вы опоздали, но голодными не уйдёте. – И на столе появились паштет из фасоли, икра грибная, рыбная солянка. Артёму очень понравился хлеб.
– Бородинский? – спросил он у коллеги, помогая тому убрать со стола использованную посуду.
– Нет, Витальевским ребята зовут, – рассмеялся повар. – Сам пеку, по своему рецепту. А у тебя есть свой рецепт хлеба?
– Нет, – смутился Артём. – Зато я читал о хлебе много. Знаю, например, сведения «отца истории» Геродота о том, что в Египте считалось позором употреблять в пищу пшеницу и ячмень. Хлеб там выпекали из полбы, которую некоторые называют зеей. Хотя, в принципе, это просто полудикая пшеница.
А предпочитали её, наверное, потому что хлеб из полбы лучше бродит, – разговорился Артём. – В Двуречье пекли хлеб из сезама, а у нас на Руси до царствования Петра 1 предпочитали хлеб из аморанта. Пётр почему – то запретил использовать этот злак для хлеба. Я пока не нашёл этому объяснения. Ведь очень полезный злак. Щирица, бархатник, аксамитник, петушиные гребешки, кошачий хвост, лисий хвост – названий у этого красавца предостаточно. Привычный для глаза любого дачника-огородника цветок амарант хранит величайшую тайну!
– Да, – вступил Мончинский, услышавший разгвор поворов. – Мара – богиня смерти у древних славян. Амарант в буквальном переводе означает «отрицающий смерть», начальная буква «а» и имя страшной богини формируют волшебное слово, намекающее на бессмертие…
– Виталий развёл руками. – К сожалению, я и этого не знаю.
Артём вернулся за стол. Старшие говорили, не умолкая. Артём невольно впитывал новые знания.
– Ты тоже приехал к Вадиму за интервью? – спросил Макс Мончинского. Собеседник рассмеялся: —Я уже давно не журналист. Работаю с Тумановым несколько лет.
– Вот те на. Сменил хлеб журналистский на хлеб старательский. Впрочем, неизвестно что тяжелее. У меня всё наоборот, зарабатывал на хлеб, как говорят, топором (с Тумановым просеки прорубал), а теперь – пером. Что случилось-то, журналистику разлюбил?
– Заставили! Я после окончания университета работал в агентстве новостей, писал и для некоторых американских газет. В одной из них стал лауреатом. Редакция пригласила меня приехать в США. Не выпустили.
– Посчитали, что слишком длинный язык? Нет, скорее всего, за то, что была у меня судимость. В армии подрался, попал в дисциплинарный батальон.
– И ты обиделся. Ушёл из журналистики. Прости, брат, это поспешно…
– Не обиделся, просто посчитал, что трудно будет работать дальше. И не совсем ушёл. Писал я в «Огонёк», Сафронов не побоялся сотрудничать с провинившимся перед властью… А сейчас я доволен. С Вадимом хорошо ладим. Есть много общего: я был кандидатом в мастера в боксе, а он – даже чемпионом флота… Да и мыслим с ним в одну сторону… Заработки здесь отменные. Но я и перо-то не бросил. Пишу книгу.
– О чём, не секрет? – Леонид немного помялся. Макс вопросительно поднял от тарелки голову. – Не хочешь – не говори!
– Не один пишу, а друга не спросишь о согласии, он сейчас далеко. Впрочем, он компанейский человек и ничего не скрывает.
– Я его знаю?
– Наверняка! Слышал часто, и уверен, что один раз видел. Мы с тобой на следующий день познакомились!
– Постой, постой! – вскочил Макс. – Это же 1976 год. Иркутск. И с твоего балкона поёт Высоцкий! Я проходил мимо. И на следующий день разыскал тебя, чтобы познакомиться с ним. А он уже улетел, к сожалению…
– Да. Тогда мы с ним поработали над книгой две недели. А позже была переписка и регулярные встречи для вычитки, правки, обработки уже написанного… Мы работали, когда он приезжал в Бодайбо и когда я прилетал в Москву. Должен сказать, что основным его вкладом в общую работу, как поэта, была образность. Этим можно было любоваться. А вот в прозе он был несколько тороплив.
– О чём же книга? Хотя, постой. Попробую угадать. О судьбах заключённых! Ведь бывших зеков в артели не пересчитать. Как назвали?
– Чёрная свеча! – О-0-0! Сразу заставляет задуматься..
Обед подходил к концу. Артём уже подчистил свою тарелку, собрал посуду и отправился на кухню…
Да, подумать есть о чём
Следующий день начался с обычных для него забот: почистить овощи, помыть и порезать мясо, приготовить салаты… Всё это он делал автоматически, а мозг перерабатывал уже накопленную информацию. Вечерние разговоры с Виталием, полуночные – с Максом. Шеф-повар понравился Артёму: основательный, спокойный, очень умелый и знающий, в знаменитой московской «Праге» поработал. Приезду Тёмки действительно обрадовался, за последний месяц двое его помощников уехали. Жёны настояли: денег накопили, домики в Краснодарском крае купили, решили, что детишек лучше растить в тёплых краях.
А Макс дожидается возвращения Туманова, и пока думает попытаться провести маленькое социологическое исследование. Почему народ уезжает из этих богатейших краёв? Ведь заработки хорошие. Макс, лёжа на соседней кровати, размышлял вслух.
– Прочитал я перед отъездом лекцию одного профессора. Убийственные данные. Наши северные территории, Камчатка и Магаданская область – это почти две трети всей страны. А знаешь, сколько там проживает народу? Лишь 7% населения всей России. В начале двадцатых годов здесь было только коренное население. Пустовали богатейшие земли! Ведь тут добывается чуть не 99% золота и алмазов, 97% газа, три четверти всей нефти, наконец, половина всей рыбы!
– Но ведь после того, как ввели Северные льготы и Северные надбавки народ сюда поехал. Это случилось в 1961 году, – проявил свои знания Артём.
– Да. Мера была вынужденная. После смерти Сталина, точнее после реабилитации многих осуждённых, начался массовый отток населения со всего Севера и Дальнего Востока. Правда, за последние годы наметился рост. Но он мизерный. И заработав на квартиру, домик или машину, люди уезжают. Хотя зарабатывают здесь втрое больше. Я не про артель говорю, это отдельный разговор…
День пролетел незаметно. Вечером по пути к общежитию встретился с Леонидом Мончинским. Обменялись ничего не значащими фразами. Но потом Артём переборол своё стеснение перед старшим и спросил. – Извините, можно вопрос? – Тот, улыбнувшись, кивнул головой. – Конечно!
– Правда ли, что большинство живущих в этих краях, только и мечтают заработать и уехать в Москву да в Сочи?
– Ой, парень, это очень долгий разговор. Выделится свободная минутка – обсудим. А сейчас я отвечу тебе так: действительно, такой сценарий, я бы назвал его сценарием отложенной жизни, преобладает. К сожалению, у многих он длится до конца этой жизни! Есть хорошая притча на эту тему.
Далай-Ламу однажды спросили, что больше всего его изумляет. Он ответил: – Человек. Вначале он жертвует своим здоровьем для того, чтобы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление здоровья. При этом он настолько беспокоится о своём будущем, что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не живёт ни в настоящем ни в будущем. Он живёт так, как-будто никогда не умрёт, а умирая, сожалеет о том, что не жил.
Вот пока эту отложенную жизнь не сделаем настоящей, а это ой как трудно, в первую очередь молодежь будет стремиться в какие-то дальние края. Подумай над этим! И – до завтра.
Новые знакомые
…Одному в комнате вскоре стало скучно, Макс где-то бегал по своим делам. Артём вспомнил, что можно сходить в баню. Собрался, пошёл. В раздевалке увидел атлета лет двадцати пяти, ростом под метр девяносто, явно кавказской внешности. Нет, ни бороды ни усов у него не было. Но глаз Артёма привычно отсканировал осетинский профиль. И угадал. Улыбнулся, хотел поприветствовать по-осетински, парень первым представился по-русски: – Джанаев. Лучше просто Сергей. Ты, кажется, тоже из наших краёв?
– Артёмом кличут, из Кисловодска я.
– Так это ты новый повар? Рад земляку. Я вырос в Пятигорске, знавал в ресторане на вокзале замечательного повара. Ребята говорили, что он кисловодчанин. Пожилой уже был. Как же его звали? Вспомнил: Михал Михалыч Саркисов! И в столовой возле крытого рынка один кисловодчанин работал, кажется, Володей Лобжанидзе звали. Почему знаю? В газете писали. Он был депутатом на 16-ом съезде комсомола…
– У нас много хороших поваров. Так уж получилось, что во время революции богатые аристократы отдыхали у нас вместе со своими поварами. А когда пришлось князьям да графиням уезжать за границу, челядь их осталась в наших краях. Дети перенимали опыт родителей. И теперь во многих наших ресторанах – в «Чайке», в «Замке», в «Театральном», в «Храме воздуха» – могут похвастаться мастерами-поварами. Такими званиями награждают сейчас самых умелых. Я с малолетства на кухне, помогаю своему дяде, но в последние полгода набирался ума у Эдуарда Георгиевича Петросяна из «Дружбы», одного из лучших. О нём могу рассказывать часами.
– С удовольствием послушаю. Бывал я в «Дружбе», конечно, только в зале. Вкусно кушал.
Артёму хотелось спросить нового знакомого о многом, но тот цепко держал нить разговора в своих руках. Помылись, потёрли друг другу спины. Наконец, Тёмка выбрал удобный момент и спросил: – А ты-то чем занимался в наших краях и что сейчас делаешь здесь?.-Сергей положил мочалку на полку. Улыбнулся. Что-то хотел сказать, но внезапно между ними возник тощий маленький человечек, ткнул пальцем в грудь Сергея и то ли проблеял то ли проворковал: «Страна должна знать своих героев!».
– Уймись, Винтик! – Сергей положил ему на затылок ладонь-почти лопату и легонько, словно боясь сломать ему шею, подвинул нежданного оратора.
– Ладно, пойдём оденемся, расскажу о себе немного. – Начал говорить по пути. – После школы устроился я электриком в санаторий «Ласточка». Мама упросила главного врача, Она там работала библиотекарем. Золотой человек Степан Гайкович Айрапетов взял мальчишку на работу, а ведь мне ещё не было восемнадцати лет. Как-то он уладил это дело. Да-а. Электрику я знал хорошо: отец покойный натаскал. Проблем на работе не было. Зато они буквально давили нашу семью. Мама и сестра болели постоянно… Моих деньжат не хватало. Правда, иногда, когда проходили какие-нибудь соревнования, я получал талоны на питание и потом их отоваривал у знакомых официанток.
– А что за соревнования?
– Да, ты же не знаешь, почему Винтик сегодня выступил. Я был чемпионом краевого «Спартака» по борьбе, выступал и в российских первенствах. Силушку некуда было девать, в деда пошел, он был сибирским охотником. Рассказывают, на медведя с ножом ходил… Такие дела. – Сергей замолчал. Артём переваривал услышанное. «Дед, осетин, в Сибири. Почему? Сослан, конечно». Но уточнять не стал. Сергей долго молчал, а Артём не знал, о чем раньше спрашивать: то ли о дальнейшей судьбе, то ли о нынешней работе.
Первым прервал молчание старший: – Что-то мне не до воспоминаний. Тоскливо. Я бы выпил сейчас чарку-другую, да Туманов узнает, неловко мне будет. Правда, абсолютного сухого закона здесь нет. Но лучше воздерживаться. А ты еще мал, чтобы составить мне компанию, проницательно помял он немаленькую руку Артёма. – Ещё увидимся.
Макс рассказывает
Макс был уже дома. Встретил Артёма лёжа, с бутылкой пива в руке, оставшейся из его дорожных припасов. Жестом предложил составить компанию. Когда тот отказался, любитель пива молча поставил ее под кровать.
– Как успехи? О работе не спрашиваю, Виталик тебя хвалит. Ребята сказали, что ты в баню пошёл. Успел с кем-нибудь пообщаться? Ведь баня – это лучшее место для знакомства, для исповеди, для начала дружеских отношений. – Артём коротко рассказал о Сергее, упомянул мимоходом Винтика.
– О-о-о! – вырвалось у Макса любимое восклицание. Ты, брат, в следующий раз посмотри на этого Винтика повнимательнее. Он сказал: «Страна должна знать своих героев?». Так это не только о борце знаменитом, это и о нём самом. – Макс словно загорелся, двумя руками взлохматил свою гриву, резко привстал с кровати, стал похож на горьковского Челкаша, как его воображал Артём в школьные годы.
– Он один из тех, кто вместе с Тумановым направился добывать золото на Охотское побережье. Впрочем, тебе это ни о чём не говорит. Те места для золотодобытчиков считались совершенно пустыми. Правда, был слух, что ещё до революции там мыли золото. Туманов решил проверить. Многие посчитали это авантюрой. – Глаза у Макса горели, он сам по натуре авантюрист, видно, завидовал Винтику и другим участникам сурового похода, сожалел, что не был с ними.
– Артель их называлась «Восток». В первую зиму 1970—71 гг. им пришлось пробивать зимник протяженностью в полторы тысячи километров (!), преодолеть Джугджурский хребет, чтобы выйти в долину Лантаря на побережье Охотского моря. А климат там очень суровый. По признанию Туманова, им даже самим не верится, что смогли прорваться к морю через эти непроходимые места. Помню, как он рассказывал. – Макс выпрямился, встал, словно на сцене, говорил, почти декламируя.
– Это надо видеть своими глазами: Охотское побережье, зимники. Ты едешь по льду на грузовой машине, лёд трещит, колёса уже покрыла вода, и остановиться нельзя, потому что может вся машина под воду уйти. А эти парни – не на грузовиках, на бульдозерах… Бульдозер проваливается, кругом тайга, жрать нечего – сечка одна без соли, или вообще продуктов нет, и надо что-то придумывать… – Макс сел, осунулся, запал кончился, взрыва не последовало. Он улыбнулся своей горячности, вздохнул и спокойно продолжал.
– Чтобы понять цену этого прорыва или порыва, не могу подобрать точного слова, нужно просто узнать, что недавно где-то в Тюмени ребята получили звания Героев труда за то, что пробили в тундре 80 километров дороги. Сравни: 80 и 1500, Тюмень и Джугджурский перевал…
– Ну, а золото-то оказалось там? – с нетерпением спросил Артём.
– В первый же год они добыли тонну золота! А потом уже добывали по полторы… И это не с помощью драги. Правда, позже артель Туманова всё-таки первой в стране стала применять землеройную технику. Убеждён, что артель, где люди работают на себя, – это самая эффективная, самая демократичная форма хозяйствования. В иные сутки, а работали они по 80 часов в неделю, превышали норму добычи во много раз.
Ну, и зарабатывали, конечно, очень хорошо. Туманов как-то сказал: платить надо не за то, что косишь, а за то, сколько накосил. Мудрые слова. А главное – они очень быстро становились понятны бывшим зекам, ворам, отсидевшим свой срок где-то в этих местах, узнавшим об артели, примкнувшим к ней. Артель его всегда гремела по всему северу, а потом и по всему Дальнему Востоку.
Представь, какой подарочек стране они делали, если артели старательские начали намывать третью часть всей добычи ценного металла в стране. Однако из-за управленческой неразберихи несколько лет назад объёмы отечественной золотодобычи у государственных предприятий стали сокращаться. Поэтому власть, предвзято относившаяся к «несоциалистическим» формам производства, решила усилить за ними контроль, артели могли действовать только по договорам с государственными золотодобывающими предприятиями.
– Макс, вы всё время говорите «они».
– Дружок, во-первых, и я не привык к разговору на «вы», и здешний народ тоже, и среди моих нынешних коллег-журналистов это не принято. Во-вторых, я себя со сторожилами не ровняю, отработал с Тумановым всего несколько месяцев. Меня уже тогда влекла журналистика. И очень нравилась рубрика «Журналист меняет профессию». Кем я только не поработал: и в метро ночью уборщиком, и рыбаком на траулере, и санаторий строил в Пятигорске, и проводником дальнего поезда. Вот и с Вадимом Ивановичем познакомился, загорелся идеей и тут же в очередной раз поменял профессию…
– А когда это случилось?
– Пять лет назад.
– А что поразило тогда…? – Артём споткнулся, постеснялся сказать «тебя». Макс понял, улыбнулся.
– Привыкай, старик! Тебя, Тебя, Тебя! Здесь ко многому придется привыкать. А поразило в тот раз и меня да и всех новеньких-бульдозеристов, экскаваторщиков, сварщиков, отсидевших разные сроки: кругом чистота, в тумбочках замков нет, лежат там деньги, паспорта, вещи разные. Никто пальцем не тронет. Может кто-то у соседа с тумбочки взять водку и выпить, но деньги – ни-ни. И новичкам приходится менять старые привычки. Отработали сезон, через год возвращаются уже другими: чисто одетыми, подтянутыми и желающими еще заработать, поскольку появилась какая-то цель в жизни – не пропить, не прогулять нажитое, а дом построить, семейное гнездо начать вить…
– Неужели за год на дом зарабатывали?
– Если бульдозерист или экскаваторщик зарабывал трудодень, его оплата была больше, чем у тогдашнего секретаря обкома Бориса Николаевича Ельцина, который получал примерно тысячу рублей в месяц. А у тебя в Кисловодске, наверное, рублей сто двадцать выходило? – Артём молча кивнул головой. – Вот. А наши ребята по государственным, заметь, расценкам, но с бешеными артельными темпами работы, огребали вдвое больше Ельцина. Ну, а Туманов, естественно, – ещё в два раза больше – четыре тысячи. В Политбюро был шум, истерика, почему это Туманов получает столько…
Артём вспомнил хату-мазанку, в которой вырос, прилепленную кое-как к ней и уже просевшую на плохом фундаменте кирпичную пристройку – результат торопливого аврала дядькиных родственников, собравшихся помочь ему после рождения пятого ребёнка. И, пожалуй, впервые у него возникла мысль о том, что высококачественный, добротный труд много ценнее для государства. Если специалист построит дом – он простоит без ремонта и полсотни лет. И не надо будет вечно латать заплатки в дорогах, которые построили наспех да ещё в дождливую или морозную пору.
Макс выслушал с улыбкой, радуясь в душе, что парень мыслит, а не просто откладывает накопленную информацию.
– Ты прав, кацо, позволил он себе употребить грузинское словечко, зная о происхождении Артёма. – Если уж ты начал думать, то я расскажу о том, что ещё не учитывают уважаемые министры, когда завидуют деньгам старателей.
– Тяжеленный труд – это еще не всё. Работали они без северных добавок, без налоговых и кредитных льгот, без капитальных вложений со стороны государства, которые, если дают отдачу, то спустя годы (а нередко вбухиваются и впустую). Вспомни еще о необходимых затратах на социальные проблемы для работников государственных предприятий: трудоустройство жён добытчиков, строительство и содержание детсадов, школ, коммунально-бытовое обеспечение, охрана порядка… Здесь обходятся без этих затрат, экономится столько, что даже прибыль трудно подсчитать. Молиться надо государству на этих людей…
Макс приостановил свой спич, достал из-под кровати бутылку с пивом, сделал пару глотков, помолчал… Потом ухмыльнулся, снова улёгся в кровать, укрылся одеялом, поворочался, показывая, что готовится ко сну. Но вдруг добавил: – Вот и посчитай теперь, имеет ли право Туманов зарабатывать больше Ельцина. А тому это едва ли нравится. Да и министрам разным.
Вадим Иванович рассказывал как-то о своём разговоре с министром цветной металлургии Ломако. Тот с усмешкой сказал: «Туманов, у тебя зарплата выше моей». На что Туманов быстро среагировал: согласен, мол, поменяться местами! Посмеялись оба.
Пиво закончилось. Макс перевернул бутылку кверху дном, с сожалением цокнул языком и поставил её под кровать. Поправил подушку, улыбнулся каким-то своим мыслям. Видно, что-то вспомнил. И рассказал ещё один эпизод.
– Однажды министр выделил Туманову «Волгу» – дефицит по тем временам. Когда через несколько лет он подписал распоряжение на вторую «Волгу», что было единственным случаем за всю историю министерства, начальник УРСа (Управление рабочего снабжения) не выдержал: – Пётр Фаддеевич! А вы ведь вторую машину ему даёте! – Ломако вскипел: – Да этому парню уже два раза надо было Героя дать!
Однако Туманов получал только «Отличника социалистического соревнования», иногда по два раза в год, словно в насмешку.
– Ладно, заболтался я. Давай спать. Впрочем, ещё один совет: о Винтике спроси у Виталия, он лучше меня о нём расскажет. Очень интересная история.
Сложные судьбы
К вечеру, когда работы на кухне убавилось и повара сами решили перекусить, Артём и задал шефу вопрос: «А что за человек Винтик и почему его так зовут?».
Виталий посмотрел внимательно на помощника, подумал, на гладком лице вдруг образовалась маленькая морщинка.
– Здесь все человеки с очень сложной судьбой, многие привыкли к своим прозвищам. Вот и Винтиком он стал годам к тринадцати, когда подружился с ворами-домушниками в Подмосковье. Пригрели они голодного пацанёнка, подкормили. Родителей у него не было, мать умерла, отец – в тюрьме. Жил на старой даче у одинокой двоюродной бабки своей, которая его воспитанием не занималась.
Лазил по соседским садам, воровал яблоки, груши, пытался продавать, плохо получалось. Старушка одна торговала на вокзале, согласилась помочь ему, он приносил добычу, она продавала, ему отдавала как-будто половину выручки. Виктор тем был и доволен. Однажды старушка познакомила его со своим племянником. Подружились, играли в футбол на заброшенном поле, ходили купаться, иногда выбирались за грибами.



