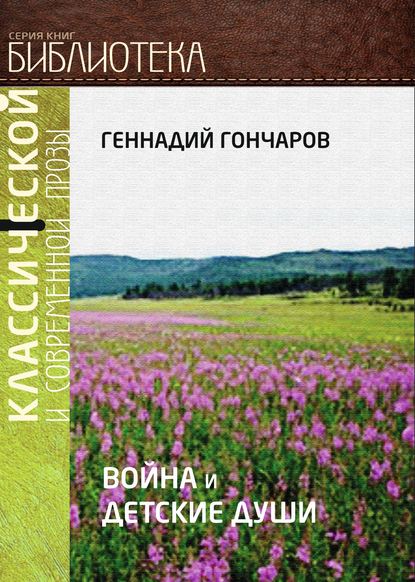Полная версия
Пришедшему – крест

Игорь Корольков
Пришедшему – крест
Роман
«Лживое лицо скроет все, что задумало коварное сердце»
Уильям Шекспир, «Макбет»Об авторе

Корольков Игорь Викторович родился в 1951 году в Украине. Служил в армии. Окончил Киевский государственный университет имени Т. Г. Шевченко. Работал в районной и многотиражной печати. Был собственным корреспондентом газеты «Гудок» на БАМе, собкором «Комсомольской правды» в Волгограде. В «Известиях» возглавлял отдел журналистских расследований. Этому непростому жанру посвятил более тридцати лет. Лауреат премии Союза журналистов России и Академии свободной прессы.
«Пришедшему – крест» – первый литературный труд известного журналиста.
Тайна протоиерея Ионафана
Солнечный луч упал на стопку чистой бумаги. Шариковая ручка зависла над белым полем, замерла, словно собиралась с силами, и, наконец, побежала, оставляя за собой круглые, ровные литеры.
«Его Высокопреосвященству, Высокопреосвященнейшему Митрополиту Нижегородскому и Арзамасскому Милентию», – в правом верхнем углу вывел протоиерей Ионафан. Затем ручка переместилась в центр листа.
«Дорогой Владыка,
Извините, что пользуюсь столь древним способом излагать мысли: компьютер освоил, однако печатаю на нем только официальные бумаги. Разговор же с Вами предполагает иные чувства, иные мысли.
Хочу доверить тайну, носить которую один более не в силах. Доверяю ее именно Вам потому, что мы давно знаем друг друга, потому, что отношусь к Вам с симпатией и любовью как к человеку честному и чистому душой. Содержание письма в том числе заставляет меня прибегнуть к уходящему в Лету способу общения. Не уверен, что мой компьютер не контролируется спецслужбами и что мою почту не читают многочисленные доносчики патриарха. Поэтому прошу: если сочтете возможным ответить на это письмо, пишите на адрес моей сестры, который Вам хорошо известен.
Итак, о тайне.
Я люблю по утрам обходить собор. В эту пору в храме никого нет, только двигаются тени свечниц. Завидев меня, они приветствуют поклоном и крестятся. Я отвечаю им тем же. Скажу откровенно, мне приятно их почтение, именно это почтение рождает во мне ощущение, что я близок к чем-то непостижимому, о чем все говорят, но мало что понимают.
Всем иконам в нашем храме предпочитаю икону Христа, вставленную в мраморную нишу у алтаря. От нее исходит какая-то непреодолимая сила, противиться которой, как мне кажется, невозможно. В полных мудрости и печали глазах Спасителя можно угадать не только трагическое будущее самого Христа, но и будущее мира – несовершенного, тревожного, запутавшегося. Каждое утро я останавливаюсь у этой иконы и читаю Символ Православной веры. Не откажу себе в удовольствии прочесть его в письме к Вам, Преосвященнейший Владыка, тем более, что именно после прочтения символа в очередной раз и случилось со мной то, о чем собираюсь поведать.
Верую во единаго Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым. И во единаго Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единороднаго, Иже от Отца рожденнаго прежде всех век: Света от Света, Бога истинна от Бога истинна, рожденна, несотворенна, единосущна Отцу, Имже вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения сшедшего с небес и воплотившагося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася. Распятаго же за ны при Понтийстем Пилате, и страдавша, и погребенна. И воскресшаго в третий день по Писанием. И возшедшаго на небеса, и сидяща одесную Отца. И паки грядущаго со славою судити живым и мертвым, Егоже Царствию не будет конца. И в Духа Святаго, Господа, Животворящаго, Иже от Отца исходящаго, Иже со Отцем и Сыном спокланяема и сславима, глаголавшаго пророки. Во едину Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую едино крещение во оставление грехов. Чаю воскресения мертвых и жизни будущаго века. Аминь.
Я читал, едва шевеля губами, прикрыв глаза. Как обычно, в такие минуты всегда представлял одну и ту же картину: изнывающее от боли и стыда тело Учителя. Иногда я видел все так отчетливо, что, казалось, кровь, брызнувшая из ладони Христа, когда в нее вколачивали гвоздь, попала на меня. В тот раз все оказалось настолько явственно, что я увидел: на кончике носа солдата, старательно вбивавшего гвоздь, висела капля пота. Она сорвалась, упала на плечо Иисуса. От солдата пахло давно немытым телом. Но в следующую минуту я подумал, что это, скорее, запах Христова тела. Ведь оно давно не знало воды. Слипшиеся волосы на голове, мокрые от пота, висели, будто издохшие пиявки. Солдат прижал к перекладине вторую руку несчастного и несколькими ударами вогнал в ладонь граненый гвоздь. От крика, исторгнутого из впалой груди, мое тело покрылось мурашками. Видимо, боль была такой сильной, а тело изможденным, что страдалец обмочился.
Простите меня за такую подробность, но я с недоверием смотрю на иконы, где Иисус изображен висящим на кресте в набедренной повязке. Это историческая неправда! Иисус висел на кресте обнаженным! Такой была задумана в ту пору казнь: чтобы было не только больно, но и стыдно. История Христа, лишенная этой жестокой, неэтичной подробности, лишает нас верного восприятия всего того ужаса, который претерпел Сын Божий. Стыдливо надев на Христа повязку, мы смягчили драму, ослабили нравственные страдания, которые претерпел Иисус, выставленный на всеобщее поругание в виде, в котором его, как и всех нас, создал Господь. Я же видел все как было!
Моча попала на солдата. Солдат вскочил, ударил распятого ногой, смачно плюнул тому между ног и, грязно выругавшись, преодолевая брезгливость, привязал к бревну ноги Христа. Стоявшие рядом солдаты рассмеялись. Они подняли крест, вставили в выкопанную яму и закидали ее камнями.
Я был так близко от креста, что мне показалось, солдаты схватят меня. Однако они прошли мимо. Я приблизился к несчастному, осторожно коснулся немытых ног. Обратил внимание на изуродованный ноготь на левой ноге: черный, растущий вбок, он, видимо, был поврежден еще в детстве. Иисус посмотрел на меня. Мы смотрели друг на друга по-разному: я с состраданием и страхом, он – со спокойствием обреченного. Губы Иисуса шевельнулись, я едва расслышал: „Прощай, ключарь… Я приду…“
Не могу объяснить, на самом ли деле я переносился во времени на Голгофу, или это было только мое воображение – пылкое, воспаленное, порожденное неистовой верой? Я смотрел на икону, пред которой стоял, и находил, что Иисус мало похож на того несчастного, которого я видел на горе казней. Но в ней был точно передан взгляд человека, которому предстояло уйти в Вечность. Этот взгляд преследует меня – долгий, всепонимающий, бесконечно печальный. Мне кажется, печаль эта лишь отчасти имеет отношение к его страданиям на кресте. Она глубже, вселенней…
Я огляделся вокруг. Храм блистал красотой, роскошью и величием. Мне вдруг представился посреди гулкого зала, на мраморном полу босой Христос, и я ужаснулся от мысли, что должен был бы подумать этот бедный проповедник, оказавшись в бесстыже богатом храме, воздвигнутом в его честь.
„…когда придет день суда, не спросится у нас, что читали мы, а спросится, что мы делали, не спросится, хорошо ли мы говорили, а спросится, по вере ли жили мы“ – эта простая мысль Фомы Кемпийского не дает мне покоя.
Достопочтеннейший Владыка, возлюбленный во Христе отец, мне кажется, я делаю что-то не так. Стыд не покидает меня, когда хожу среди сверкающего мрамора, золота и серебра. Мне стоит труда читать проповеди и смотреть в глаза прихожанам. Я подумываю о ските.
С братской любовью во Христе, ключарь храма Христа Спасителя протоиерей Ионафан».Ключарь перечитал письмо, вложил в конверт, заклеил и спрятал в кейс.
Странный нищий
В средине апреля на Волхонке, у храма Христа Спасителя, появился нищий. На нем были обтрепанные джинсы, изношенные кроссовки, армейская куртка оливкового цвета. Сильно поседевшие волосы касались плеч. Усы и борода старили мужчину, но, если приглядеться, на вид ему было лет сорок. Единственное, что в новичке обращало на себя внимание, так это хлопчатобумажные перчатки с отрезанными «пальцами». Дни стояли теплые, и неуместность перчаток бросалась в глаза. Но мир нищих – особый мир. Они и летом могут носить пальто или валенки, их собственное тело служит им и вешалкой, и камерой хранения.
Мужчина остановился у калитки, через которую верующие шли к храму, вынул из полиэтиленового пакета картонную коробку, положил перед собой. Четверо нищих, уже стоявших здесь, недовольно посмотрели на пришедшего, но промолчали – он был моложе и сильнее их.
Вот-вот должны были зацвести вишни. Словно в благодарность за такую щедрость, все, что могло, блестело, сверкало, искрилось – мутная вода в Москве-реке, золотые купола церквей, битое стекло пивных бутылок у продуктовых ларьков, серебристые крылья очнувшихся мух…
Шедшие в храм редко подавали. Да и подавали исключительно мелочь. Мужчине в куртке почему-то бросали чаще других. Это раздражало нищих. Какое-то время они терпели, но около полудня, когда монеты скрыли дно коробки, женщина в коричневом демисезонном пальто с серым каракулевым воротником, изъеденным молью, и в войлочных ботинках на молнии, выждав, когда рядом не будет прихожан, голосом прокуренным и тяжелым крикнула новичку:
– Эй ты, патлатый! А не пошел бы ты отсюда куда-нибудь в другое место?!
Темно-синяя фетровая шляпа, похожая на треуголку, придавала женщине вид пирата, вышедшего в отставку по причине возрастной слабости. Как и на новичке, на ней были перчатки только не хлопчатобумажные, а шелковые, лоснящиеся, под цвет пальто.
Женщину поддержал хромой на костылях:
– Это наше место!
Остальные двое закудахтали, словно куры у просыпанного зерна:
– Да-да, уходи отсюда!
– Ишь, пристроился!
Мужчина в куртке растерянно посмотрел на агрессивных соседей.
– Разве здесь мало места? – удивился он.
– Да, мало! – отрезала женщина в коричневом пальто. – Иди вон туда!
Она указала на дальний угол площади.
– Но там прихожане не ходят, – возразил седой.
– Это уже твои проблемы! – сказал тот, что был на костылях.
Лоб хромого напоминал мелкую рябь на воде перед дождем. Морщины катились одна за другой и исчезали под грязной бейсболкой, повернутой козырьком назад. Борода у хромого была такой же, как у новичка, с сильной проседью, но гуще. На темном, давно не мытом лице блестели глаза, чистые и голубые. Вначале можно было подумать, что они случайно достались этому человеку – неухоженному, неопрятному, с гнусавым голосом и бранной речью. Но достаточно было задержать на них взгляд в минуты, когда хромой молчал, начинало казаться, что глаза – то единственное, что всегда принадлежало ему. В них таились воспоминания…
Опираясь на костыли так, что голова едва возвышалась над плечами, хромой стоял напротив пришельца, посягнувшего на его копеечный заработок, и готов был пустить в ход костыли. Он сделал бы это, но враг смотрел на него так пристально, что хромой не выдержал.
– Ты чего так смотришь?! – грозно прогундосил он.
– Кто ты? – отозвался пришелец.
– В смысле? – не понял хромой.
– Кто ты? – повторил новичок.
– Бомж…
– Кто ты был, когда тебе было хорошо?
Хромой растерянно посмотрел на седого. Вначале хотел ответить что-то дерзкое, но упустил момент, потому что память зацепила что-то очень далекое, давно не востребованное, радостное до головокружения. Он хотел что-то сказать, но в горло вкатился ком, отчего даже стало больно. Хромой испугался необычного состояния, кашлянул, еще больше разозлился на пришельца, замахнулся костылем, но затем опустил его.
– Так кто ты был, когда тебе было хорошо? – терпеливо переспросил седой.
Хромой молчал, словно не понимал, о чем его спрашивают.
– Как тебя зовут? – спросил новичок.
– Хромой.
– А как тебя звала мама?
– Чья?
– Твоя.
– Мама?
– Ну да.
– Мама… звала меня…
Бомж так неуклюже произнес слово «мама», что сам понял это и выкрикнул:
– Какое твое дело?!
Он хотел добавить любимое выражение «дерьмо собачье», но почему-то передумал, повернулся и снова встал у ограды.
– Я такой же, как вы, братья и сестры, – сказал мужчина в армейской куртке. – Почему же вы гоните меня?
– Это место занято! – сказала женщина в коричневом пальто.
– Но я же стою дальше вас всех, – возразил мужчина.
– А подают тебе чаще! – вырвалось у женщины с бельмом на левом глазу. Она была в плаще цвета аравийской пустыни и черных мужских ботинках на красных шнурках, оборванных в нескольких местах и связанных.
– Моя ли в том вина? – пожал плечами седой. – Прихожане сами решают, кому подать.
– Ты их чем-то приманиваешь! – воскликнул мужчина, чья правая рука была вывернута, а пальцы не гнулись.
– Чем же я их приманиваю? Стою смиренно и лишь уповаю на человеческую доброту!
– Почему же мне, калеке, подают меньше, чем тебе?! – возмутился хромой.
Новичок внимательно посмотрел в голубые глаза бомжа.
– Может быть, потому, что ты не калека? – сказал он.
Нищие в изумлении застыли.
– Да за такие слова!
Хромой снова замахнулся костылем.
– Ты можешь меня ударить, – сказал седой, – но от этого твоя ложь не перестанет быть ложью.
Мужчина опустил костыли.
– Кто тебе сказал? – прошептал он.
– Никто. Вот он, – седой указал на мужчину с вывернутой рукой, – действительно калека.
– Но как ты узнал? – растерянно повторил «хромой».
– Это проще, чем ты можешь себе представить, – ответил пришелец.
– Ты хочешь занять мое место! – догадался нищий.
– Никто не может занять чье-то место, – сказал мужчина в армейской куртке. – Ты не станешь мною. Я не стану тобой.
– Точно кто-то тебе настучал на меня! – воскликнул бомж, по-прежнему опираясь на костыли. Видно было, что мозг «калеки» пытается вычислить того, кто разоблачил его.
– Ты ошибаешься, друг мой!
Седой посмотрел на «хромого» и улыбнулся. Обращение «друг мой» произвело на нищих не менее сильное впечатление, чем то, что незнакомец разоблачил мошенника. Ни к одному из них давно так не обращались. В этих словах было столько тепла, доверия и уважения, что неприязнь к новичку исчезла, как появившееся было облако над собором.
– Ты ошибаешься, друг мой, – повторил пришелец. – Никто ничего мне не говорил о тебе. Так же, как и об этой женщине.
Незнакомец указал на затеявшую ссору.
– У нее на руках экзема.
Женщина растерянно посмотрела на седого.
– И правда, у меня экзема… – сказала она. – Но как ты узнал?
– Имеющий глаза – да увидит.
– Но как?!
– Очень просто. Хотя это и трудно объяснить.
– Разве трудно объяснить то, что просто?
– Труднее всего.
– Почему?
– В простоте – истина. А путь к ней труден.
– Ты мудришь, парень! – сказал «хромой».
– Ничуть!
– А отчего у меня экзема? – спросила женщина. – Заразилась, что ли?
– Причина в тебе.
– Во мне?
– Вспомни!
– Что вспомнить? – не поняла женщина.
– Вспомни, что было 23 года назад.
– А что тогда было?
– Твой муж работал на стройке мастером.
– Да, работал…
– У тебя была подруга. Ваши мужья работали вместе.
– Да…
– Мужа подруги назначили прорабом.
– Да…
– Ты посчитала, что это несправедливо.
– Несправедливо…
– Тогда и появилась экзема.
– Тогда?
– Именно. Черная зависть породила ее. Ты больше не встречалась с подругой. Муж уволился. У вас начались семейные неурядицы. Помнишь?
Женщина взглянула на седого растерянно, удивленно. Сняла перчатки, посмотрела на изувеченные язвами руки, будто увидела их впервые, заплакала.
– Стоило ли так завидовать чужому успеху? – с сочувствием спросил седой.
Женщина помотала головой.
– Не плачь, милая, – сказал пришелец. – Я помогу тебе.
Он взял ее обезображенные руки в свои – нежно, бережно, долго смотрел на них, погладил, будто старался стряхнуть струпья, затем прижался к ним щекой. Стоял так долго, минут пять, затем опустил руки.
– К утру все пройдет, – сказал он.
Женщина смотрела то на руки, то на седого, не зная, верить ему или нет.
– Верь! – сказал новичок.
Потрясенная услышанным и увиденным компания растерянно молчала. Первой очнулась женщина с глаукомой.
– Добрый человек, – обратилась она к седому, – может, ты и мне поможешь? Левым глазом совсем не вижу!
– Я помогу тебе, – сказал мужчина в куртке. Он прикрыл ладонью больной глаз, подержал руку минуты три. Затем плюнул на пальцы, растер ими глаз. Снова прикрыл глаз ладонью. Через минуту отнял руку и отступил.
Женщина растерянно посмотрела на седого, перевела взгляд на стоявших рядом.
– Я вижу! – воскликнула она. – Ей Богу, вижу!
Закрыла рукой правый глаз.
– Вижу!
Хрусталик был совершенно прозрачный, а роговица – чистая. Женщина шагнула к исцелившему ее, взяла его руки, поцеловала.
– Спасибо тебе, добрый человек! Дай тебе Бог здоровья!
– Я рад, что получилось, – улыбнулся седой.
– И мне помоги! И мне!
Инвалид с вывернутой рукой подошел к пришельцу, умоляюще посмотрел в глаза.
– Тебе не смогу помочь, – спокойно ответил седой.
– Но им же помог!
– Их болезни приобретенные. Их я лечить могу. Твоя же болезнь – глубинная. Твои предки изменили структуру твоего тела.
Мужчина с недоумением смотрел на целителя.
– Твоя бабушка вышла замуж за родного брата, – сказал седой. – Они нарушили правило: нельзя смешивать кровь родственников. Ты – результат их греха.
Мужчина сник.
– Как тебя зовут? – спросил седой.
– Яков.
Пришелец сочувственно посмотрел на калеку.
– Прости им, Яков!
– Ты – знахарь? – спросила та, у которой была экзема.
Седой улыбнулся.
– Можно сказать и так.
– Ты извини, что мы на тебя набросились, – сказал «хромой». – Но пойми, всем не подадут.
– Это так, – согласился новичок. – Но у тебя не больше прав, чем у меня. Мы все дети Господа. Я собрал больше, чем вы, и поделюсь с вами.
Седой зачерпнул из коробки мелочь, высыпал «хромому». Затем остальным. Когда коробка опустела, та, что прозрела, удивилась:
– А себе? Ты ничего не оставил себе!
– Господь мне еще даст, – ответил седой. – Вам сейчас нужнее.
– Как тебя зовут? – спросил «хромой».
– Сын Божий, – ответил мужчина.
– Не хочешь говорить – не надо, – обиделся «калека».
– Я сказал, – ответил седой и обратился к «хромому», – Брось костыли. Украденное не принесет тебе счастья.
– Я не ворую! – воскликнул мужчина.
– Люди думают, ты калека, верят тебе, сочувствуют и подают. А ты обманываешь их. Это грех! Ты – верующий?
– Конечно! – воскликнул мужчина.
– И ты знаешь заповеди Господа?
– Не убий, не укради…
– Вот видишь, знаешь, а крадешь!
– Я не залезаю к ним в карман!
– А давай сделаем так: когда прихожанин захочет бросить тебе деньги, я его предупрежу, что ты не калека.
Мужчина смущенно молчал.
– Попробуем?
– Не стоит, – буркнул нищий.
– Возможно, без костылей ты заработаешь меньше, но пользы от этого будет больше.
– Больше денег всегда лучше, чем меньше, – усмехнулся бомж.
– Ты ошибаешься, – возразил седой.
– Это тебе скажет каждый ребенок.
– При чистых помыслах и от малого большой толк.
– Он прав, Михалыч! – вмешалась в разговор исцеленная от глаукомы.
Михалыч промолчал.
– Вы были в храме? – спросил седой.
– Конечно! Как не быть! – заговорили все наперебой.
– Хороший храм?
– Богатый! – сказала та, у которой была экзема.
– Да-да, богатый! – подтвердили остальные.
– Богатый? – удивился седой.
– Там много золота! Смотри, какие купола!
– А зачем? – спросил пришелец.
– Что «зачем»? – не понял Михалыч.
– Зачем золото?
– Но это же храм! – удивился бомж.
Новичок усмехнулся.
– А разве, чтобы обратиться к Богу, нужно золото?
– Нет, но…
– Господь внутри нас, – сказал пришелец. – Мы можем разговаривать с ним, где угодно. Зачем же для общения с ним золото? Или вы считаете, что Господь – взяточник?
– Не кощунствуй! – воскликнул «хромой».
– Я всего лишь спросил, – невозмутимо ответил седой. – Ты ведь можешь поговорить с Господом вне храма?
– Как это? – удивился Михалыч.
– Подумать о нем. Обратиться внутренним взором к нему. Помолиться.
– Здесь?
– Да, здесь. Или вон там, чтобы никто не мешал.
– Наверное…
– Если Господь в сердце твоем, если ты веруешь в него, если твои слова искренни, услышит ли он тебя? – спросил незнакомец.
– Наверное, да…
– Тогда зачем золото?
– Так принято…
– Принято кем?
– До нас…
– Когда люди только принимали веру Христову, когда их преследовали за это, они молились в пещерах. Там не было золота. Значит ли это, что они были хуже вас?
Нищие не знали, как отнестись к словам незнакомца. С одной стороны, он был добр и двоим из них помог, а с другой, говорил вещи странные… Возразить ему было трудно, а хотелось: то, что говорил седой, противоречило тому, к чему они привыкли. Они молчали, испытывая неловкость и смятение.
Именно в это растерянное молчание ворвалось утиное кряканье – громкое, требовательное, нахальное. Распугивая транспорт, на Волхонку ворвалась полицейская машина. Следом за нею неслись два черных мерседеса с тонированными стеклами. У храма авто остановились. Правая передняя дверца у первого мерседеса распахнулась, из машины выскочил молодой мужчина спортивного сложения в темном костюме, белоснежной сорочке с галстуком и открыл заднюю дверцу. Из второго мерседеса выскочили еще трое мужчин очень похожие на первого, окружили появившуюся в проеме ногу в сверкающем черном ботинке. Один из охранников наклонился, и на тротуар ступил человек в длинной черной рясе, в белом головном уборе с изображением трех шестикрылых Серафимов. Сверху убора крепился крест. Мужчина опирался на посох с позолоченной ручкой. Оглядевшись, священнослужитель неторопливо двинулся в сторону храма. Один охранник шел впереди, один – сзади, двое – по бокам.
Нищие подобрались, засуетились, подступили ближе к калитке, немигающим взором следили за каждым движением важного духовного лица. Когда он приблизился, нищие стали отвешивать поклоны и неистово креститься. Важное лицо повернулось к ним, трижды осенив их крестом, отчего нищие стали кланяться еще ниже и еще неистовее креститься.
– Кто это? – спросил седой, когда важное лицо скрылось в храме.
– Это же патриарх! – воскликнула та, у которой была экзема.
– Первосвященник?
– Глава Русской Православной Церкви!
– А что он делает? – снова поинтересовался седой.
Все недоуменно посмотрели на мужчину в оливковой куртке.
– Как «что»?! – удивился Михалыч.
– Ну, что он делает? – повторил свой вопрос седой.
– Служит Богу! – сказала исцеленная от глаукомы.
– И как он это делает?
Нищие смотрели на пришельца, не понимая, то ли притворяется, то ли на самом деле хочет понять то, что знают малые дети.
– Служит службу, – пояснил «хромой».
– Как?
– Читает проповеди, возносит хвалу Господу…
– И все?
– Управляет патриархией.
– А как управляет?
– Как, как! – разозлился «хромой». – Подписывает бумаги, дает указания, следит за порядком…
– И что, все священнослужители – его подчиненные?
– Ну да! – сказал «хромой».
– Все-все?
– Ну да.
– В таком случае это не церковь. Это министерство. А ваш патриарх – министр!
Нищие переглянулись.
– Патриарх – наместник Бога! – воскликнул Михалыч.
– Да? – удивился седой. – А кто его назначил?
– Собор.
– Так не может быть, – возразил седой. – Наместника Бога может назначить только Бог!
– Ты что, дурак?! – не выдержал «хромой».
– Почему? – невозмутимо отреагировал седой.
– Как же его Бог назначит? Его же никто не видел!
– Ты не веришь в Бога? – спросил седой.
– Почему не верю? Верю!
– Как же ты веришь в то, чего не видел?
– Он потому и Бог, что его никто не видел.
Незнакомец широко улыбнулся, словно учитель на уроке, услышав милую глупость ученика.
– Ты ошибаешься, друг мой! Он Бог не потому, что его никто не видел. Он Бог потому, что мы чувствуем: он есть!
– Хорошо журчишь, – заметил Михалыч. – Но объясни мне: как тот, кого я только чувствую, должен назначить патриарха? Он что, указ должен подписать? Или как, мать его ети!