
Полная версия
Зарево над юностью
Петр перетащил ящики и цинки в кусты, затем, взявшись за дышло, подтянул повозку к обрыву и столкнул вниз. Опорожнил коробки, диски сложил в рюкзак, бросил пулемет на плечо. Теперь он знал, что надо делать.
Собака опять завыла.
– Эх ты, бедолага!.. Ну, пошли со мной, ничего ты тут не высидишь.
Через полчаса место происшествия было оцеплено полицейскими и немцами, но установить, откуда и кто стрелял, не удалось.
Расследование перенесли на утро.
Овчарка обежала вокруг дерева, под которым остался ее мертвый хозяин, жалостливо скуля, она словно пыталась в последний раз пробудить его, но он не отзывался, и тогда она решилась и ушла за живым.
3
Пять человек – три командира и два рядовых. Три лошади. Одно орудие. Все, что осталось от батареи. Пехота отошла так спешно, что артиллеристы не успели даже разобраться в обстановке, как оказались окружены. Пути отхода были отрезаны. Сначала немецкие танки, густо облепленные автоматчиками, а затем и пехота устремились в образовавшуюся брешь, растекаясь по скатам лощины, опоясывая безымянную высоту, занятую батареей капитана Михайлова. Он сам – растерянный, бледный, – закусив губы, сидел на командном пункте и, опершись локтями на бруствер окопа, застывшими глазами глядел вниз. В двух километрах от него пойменные луга упирались в зеленые камыши, окаймлявшие извилистую речушку, на другом берегу которой дымчатой стеной голубел смешанный лес. В бинокль было хорошо видно, как танки выползали из темного леса и, не сбавляя скорости, плюхались в воду, на какое-то время исчезали из виду, а потом выныривали из камышей уже по эту сторону. Стальная лавина накатывалась все ближе и ближе… Уже без бинокля видны были стволы орудий с огненными вспышками на пламегасителях.
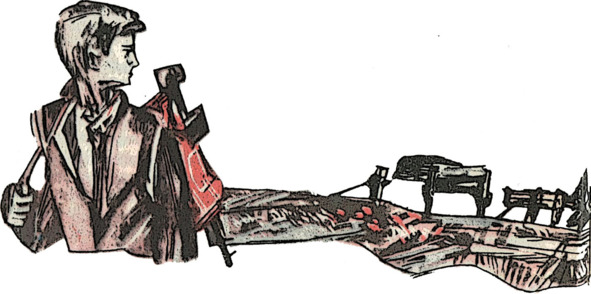
Дойдя до высоты, танки круто разворачивались и устремлялись в лощину, в глубь прорванной обороны.
– Что будем делать, капитан? – послышалось за спиной Михайлова, но он, потрясенный, никак не мог справиться с нахлынувшим страхом.
Кто-то дернул его за плечо. Михайлов вскрикнул и, резко отскочив в угол тесного окопчика, схватился за кобуру.
Перед ним стоял политрук батареи Вильсовский, высокий, сухой, с продолговатым костистым лицом. Фуражки на нем не было. Смолевые, коротко постриженные волосы слиплись не то от грязи, не то от крови. Левый рукав гимнастерки разодран, а рука до самого локтя была обмотана бинтом.
– Вон – гляди! – Михайлов указал вниз.
– Вижу.
– Чего же спрашиваешь?.. Нет капитана Михайлова!.. Нет батареи!.. Ничего больше нет!.. Кончено!.. Отвоевались!.. – Михайлов торопливо, словно все зависело от долей секунды, начал рвать шпалы с петлиц.
Вильсовский изменился в лице. Тонкие брови сошлись на переносице, губы сжались в черную полоску.
Хрипло дыша, из хода сообщения вынырнул тощий безусый солдат.
– Комвзвода Петрина убило… Качалина ранило… В голову.
Вильсовский повернулся, толкнул перед собой связного, и они скрылись в ходе сообщения…
К вечеру шумы боя стихли, лишь изредка издали доносилось неясное погромыхивание, похожее на апрельский гром, – где-то бомбили или ухали дальнобойные орудия.
Батарея – вернее, то, что от нее осталось, – находилась все еще на прежней позиции. Капитан Михайлов немного успокоился и теперь жалел, что Вильсовский был свидетелем его истерики. Было стыдно перед политруком. В который уже раз подвели нервы!.. Нервы, нервы!.. А какие, спрашивается, могут быть нервы в этом кромешном аду, когда все кругом рушится, бежит…
Вильсовский сидел на покореженном лафете разбитого орудия. Раненая рука ныла, он не находил себе места. Случайно он бросил взгляд на ноги и только сейчас заметил, что голенище одного сапога распороло осколком, словно кто-то осторожно разрезал бритвой, – удивительно, как не зацепило ногу.
Стреноженные лошади паслись на ржавой от гари лужайке, фыркали, чуя запах крови.
– Ну что, политрук? – первым не выдержал тягостного молчания капитан Михайлов. И так как Вильсовский не отозвался, продолжал, сдерживая раздражение: – Ты вот разгорячился, а ведь нам вроде и взаправду крышка. Идти-то некуда. Да-а, земля велика, а укрыться негде. Чего молчишь? Не до конца же войны будем сидеть тут?
– Надо догонять фронт, своих. Не могут они все время отходить, где-нибудь остановятся.
– Пока остановятся, от армии ничего не останется, – равнодушно возразил Михайлов.
Он сказал это голосом безмерно уставшего человека, которому теперь уже все равно, что будет с армией, с ним самим, с теми чудом оставшимися в живых солдатами, которые ждут от него какого-то решения.
– А что ты предлагаешь? – в упор спросил Вильсовский.
– Прежде всего, – растягивая слова, ответил капитан, – надо убираться с этой никому не нужной высоты, пока нас не прихлопнули. А потом будем думать. Черт возьми! – опять не сдержался он. – А может, действительно все кончилось?.. Может, нам просто…
– Договаривай, – почти шепотом сказал Вильсовский.
– Чего договаривать? Пойдем у них вон спросим. – Михайлов кивнул на солдат. – Теперь мы все равны… И вот что, политрук, препираться нам нечего. Было – прошло. В этом бедламе и железные нервы согнутся.
То ли слова капитана тронули Вильсовского, то ли боль в раненой руке притупила ненависть и боль душевную.
– Орудие можно взорвать, – подумав, согласился он. – А вообще-то река рядом…
Через полчаса батарея как артиллерийское подразделение перестала существовать. Орудие и ящик со снарядами полетели в воду. От берега почти до середины речушки вскипела мутная пузырчатая дорожка. Когда-нибудь на эту луговину придут косари, и шумная ватага мальчишек, купаясь, найдет ржавую пушку, в заиленном стволе которой раки оборудуют себе гнездо. А может быть, к тому времени течение наметет вокруг орудия плотный земляной бугор, и какой-нибудь вихрастый Васька будет стоять на нем по грудь в воде, не догадываясь, что у него под ногами. И уж, конечно, никто не узнает, какая участь постигла горстку людей на этом берегу и что с ними сталось в дальнейшем.
Так думал политрук Вильсовский, глядя на то место, где из глубины на поверхность все реже и реже выскакивали пузырьки…
…Над костерком, на нижних ветвях молодого дубка, натянуты плащ-палатки. Их приказал навесить капитан Михайлов, чтобы огонь не привлекал внимания немецких самолетов. И – странно! – никому это распоряжение не казалось нелепым. А оно действительно было нелепым. Вокруг горели десятки деревень и сел, лесные массивы. Что значил крохотный огонек костра в сравнении с этими пожарами? Сверху он мог бы казаться мелькнувшей вспышкой сигареты, не больше, а то и вообще не был бы виден, потому что все небо было багровым от зарева.
Вильсовский лежал поодаль под старой сосной. Рука болела. Но усталость брала свое. В ушах еще звенело от недавнего грохота. Ни о чем не хотелось думать.
Сквозь тяжелый полусон пробивались резкий голос Михайлова, хрусткое потрескивание сухого хвороста и звяканье котелков. Звуки, казалось, исходили из другого мира.
Вильсовский не знал, сколько времени прошло с того момента, как он перестал различать говор людей и шорохи леса. Проснулся он неожиданно. Говорили совсем рядом.
– Ну что? – негромко спросил кого-то капитан Михайлов.
– Все в порядке, товарищ капитан!
– Не ори, разбудишь… Пошли!..
«Проверяет посты, – подумал Вильсовский. – Чего сейчас больше в этом Михайлове – дисциплины или страха?.. А куда он повел солдата? Где другой часовой? Им же было приказано не отходить от костра далеко. А лошади? Где лошади?..»
Вильсовский вскочил. Лошадей с вечера они привязали поближе к костру, чтобы им меньше досаждали комары, но теперь на прежнем месте их не было.
Громко затрещали кусты в той стороне, куда только что ушли часовой и Михайлов. И тут же голос – тревожный и приглушенный:
– Да тише ты, боров!
Раздвигая ветки кустарника, Вильсовский пошел на шум.
– Продукты у тебя, Храпкин? – услышал он снова голос Михайлова.
– Все тут.
– Табак?
– Говорю – тут.
Теперь Вильсовский все понял.
– Стой! – закричал он. – Михайлов!..
В ответ полоснула автоматная очередь. Как под ливнем, зашумела листва над головой Вильсовского. Треск ломаемых кустов, понукания лошадей – и все.
Вильсовский вышел к костру. Опустился на поваленную кряжину.
– Раненый Качалин выжидательно смотрел на него.
– Где комбат? – тихо спросил он.
– Сбежал. – Вильсовский не мог обманывать этого совсем юного солдата.
– Как же это, а? – заикаясь, спросил Качалин. – Он же нам говорил – присягу помнить… друг дружку в беде не бросать, а? А сам-то!.. Как же это?
Вильсовский сидел неподвижно. Что он мог ответить?
– Не оставляйте меня одного, товарищ политрук, – прошептал Качалин.
Вильсовский укрыл его своей шинелью.
Еще сто метров…
Пятьдесят…
Десять…
Голова кружится, и многоцветная рябь мельтешит в глазах. Подламываются ноги. Нервы напряжены и дрожат, как перетянутые струны. Еще несколько шагов, и Евгений Вильсовский упадет лицом в зыбучую болотную хлябь. Случись это, ему уже не подняться. Оба, он сам и Ваня Качалин, неизбежно погибнут в этой усыпляющей трясине. Все мучения, вынесенные за многие сутки скитаний по белорусским лесам и болотам, будут напрасны.
Нет, он не сдастся. Вон впереди сухая поляна. Перевязать Ваню, передохнуть, а вечером – дальше. Он должен, обязан выдержать! У него на плечах красноармеец, испивший с ним из одной чаши страданий. Его надо спасти и уцелеть самому.
Думать. Больше думать! О чем угодно, только не дать мыслям остыть, замереть.
Евгений начинает говорить вслух. Ему кажется, что говорит он не с самим собой, а с кем-то другим, незримым, но чье присутствие ощущается рядом, и этот кто-то поддерживает его под локоть, помогает превозмочь усталость.
Он должен выжить, чтобы рассказать людям правду. Как их батарея была окружена и почти полностью уничтожена. Как ее командир, взяв с собой ездового и оставшихся лошадей, сбежал. У него также списки и адреса. Предатель будет писать письма родным и слезно рассказывать им, как погибли героической смертью или пропали без вести их сыновья и братья…
…Ну, еще шаг, еще…
В лесу ни малейшего дуновения. Но почему в какой-то сонливой истоме раскачиваются макушки деревьев? Может быть, там, наверху, все-таки ветер? Или это обман зрения, рябит в глазах?
Болотная испарина тягучим едким туманом висит над закамышенными разводьями. Каждый вдох вызывает удушливый кашель. Першит в горле, слезятся глаза,
«Грэээ-грээ!» – монотонно кричит сойка.
Впереди – болото.
«Пинь-пинь!» – вызванивает зяблик.
Сзади – болото.
«Так-так, тре-тре!» – стрекочет дрозд-рябинник.
Кругом болото.
А тело с каждой минутой слабеет, наполняется вялостью, и мутная, пьянящая дрема застилает сознание.
Наконец крохотный сухой островок. Еще немного, и шелковистая теплота нехоженой травы мягко щекочет босые ноги.
Евгений осторожно опустил на землю Качалина. На этих небольших привалах Ваня возвращался из забытья и долго, почти не мигая, смотрел на окружающий мир.
Ни на секунду не умолкая, шепчет и шепчет о чем-то тревожный вербейник. Беззаботно тренькают птицы – что им война! Вот одна из них свесилась с ветки, скосила желтоватый глаз и удивленно разглядывает незваных пришельцев. Она нисколько не боится людей. Просто ей интересно, зачем они явились сюда. В золотистом полусумраке осин бродят беззвучные тени, будто там, в низинах, собрались на гульбище какие-то неведомые бесплотные существа, прячутся друг от друга, потом ищут и не находят. Мерно и тихо течет извечная жизнь. Ничем не тревожимая, полная первозданных красок и звуков.
Страна сказочной глухомани. Как похожа она на родную Смоленщину! Да тут и недалеко до нее. Добраться бы до милых мест, глянуть еще раз на тихую деревеньку, неприхотливо примостившуюся на лесном взгорке, на серые соломенные крыши, низкие оконца, покосившийся колодезный журавль с замшелой от старости рассохой и сращенной в двух местах вереей, с клепаной-переклепанной бадьей над щербатым срубом…
– Ты о чем думаешь, Ваня?
– Я вот слушаю все это: ну, птиц, ветер, листья, и мне думается – за все надо отплатить. – Повернув забинтованную, похожую на красно-белый кочан голову, отозвался Качалин. – Не может же человек так вот, задарма, наслаждаться красотой. Она ведь чего-то стоит. Ты как считаешь, Женя?
– За это мы заплатили сполна, Ваня, – грустно сказал Евгений.
– А мне, Женя, кажется, что мы платим сейчас не за это.
– А за что? – настороженно, словно боясь, как бы мысли друга не совпали с его собственными, спросил Евгений.
– Не знаю. Не могу сказать, но как-то происходит не так. Трудно понять все это… Вот ты мне рассказывал – до армии работал учителем. А так ли ты учил ребят жить, как надо? Смогут ли они выдюжить теперь вот, глядя в глаза смерти? Ведь вот наша батарея… Дружно жили, казалось, все вместе. А что вышло? Почему же мы с тобой здесь, а они неизвестно где. И, видимо, мы виноваты… А ведь впереди – долгая война, Женя? Как же мы будем воевать, а?..
Вильсовский приподнялся на локте и долго молча смотрел на товарища. Совсем еще мальчик – и вдруг эти туманные намеки на какую-то свою вину. В чем он может быть виноватым? Он и пожить-то еще не успел.
– Женя?
– Да.
– Оставь меня здесь, слышишь? В последний раз прошу. Ну пойми, как мы выберемся из этой глуши вдвоем? Мы с тобой как листики с березки: сорвал нас горячий ветер с родимой ветки и бросил на болото. Слиплись, огрузли. Один бы поднялся, а оба нет… Оставь. Твоя рука быстро заживет, ты догонишь наших. А я уже не борец. Я ведь знаю: несколько дней – и все. А для тебя эти несколько дней – спасение.
– Все? – жестко спросил Вильсовский.
– Честно прошу, товарищ политрук! – Голос Вани дрогнул.
Евгений разломил сухарь и половину вложил в руку Качалину.
– Ешь!
Качалин нехотя начал жевать. Он знал: этот сухарь последний.
– Ты мне эти мысли брось! Нам еще жить и жить! Мы еще с тобой повоюем, – убежденно сказал Вильсовский. – Слышишь кукушку? Это она тебе годы насчитывает. Раз, два, три… семь… Видишь, сколько! Семь лет! Это она, бездомница, еще соврала, больше проживешь…
Они помолчали.
– Пить хочешь, Ваня?
– Хочу.
Воды больше чем надо. Она терпко пахнет болотными травами, но это ничего, главное – освежает. Ваня взял фляжку и, обливаясь, стал жадно пить.
– Женя, поищи на полянке, тут щавель должен расти, набери в дорогу, все-таки еда.
Ваня слышал, как поднялся Вильсовский, как удалялись его шаги.
Нет, вместе не дойти!
Рука его – высохшая, с тонкими синими прожилками, медленно сползла с груди и потянулась к карману брюк.
Качалин рванул с лица жесткую от засохшей крови повязку. Нестерпимо голубой цвет неба остро резанул по глазам. Чтобы не застонать, он так закусил губы, что почувствовал, как по подбородку потекли теплые струйки.
«Ку-ку, ку-ку!» – вновь засчитала кукушка чьи-то годы.
В бездонной голубени ни облачка. Манящая звонкая даль. Придет время, и люди помчатся ей навстречу на чудо-кораблях, сошедших в жизнь со страниц детской мечты. Но никто не будет знать, что тихий, застенчивый парень со Смоленщины, по имени Ваня Качалин, в самую трудную минуту своей короткой – такой короткой! – жизни думал о них. Он останется в них – в Вильсовском и тех, что рассеяны по лесам и не рассеяны, дерутся в окопах, бросаются под танки. И может быть, частица его души будет и в тех, кто полетит туда, в бесконечную синь неземных миров…
«Ку-ку, ку-ку!..»
Непослушные пальцы нащупали кольцо, потом – усики запальной чеки. Нет, его не обвинит никто. Даже мать, если узнает правду.
– Прощай, Женя!.. Ложись!..
Вильсовский бросился на крик.
Срезанная осколком ветка березы упала ему на плечо. Ошалело захлопала крыльями улетающая кукушка.
Из пробитой фляжки тонкой струйкой выливалась вода.
– Что ты наделал, Ваня?! – в диком отчаянии закричал Вильсовский.
«Что… ты… наделал… Ваня-а-а?..» – с угрюмой торжественностью подхватило печальное эхо.
И вот он один. Во всем мире один. Кричи – никто не услышит, зови – никто не отзовется, не придет разделить скорбь утраты. Лишь собственный крик набатом колотит в виски, разрывает перепонки, давит на сердце.
Многое довелось перевидеть политруку Вильсовскому за первые недели войны. На его глазах гибли товарищи, с которыми он успел сродниться, и те, которых он знал только по фамилии. Некоторые кончали самоубийством, не желая попадать в плен. Кое-кто, вроде его комбата, выкупал у судьбы свою жизнь иудиной ценой – смертями людей, с которыми столько раз ели из общего котелка.
Все видел Вильсовский, но то, что сделал Ваня Качалин, потрясло его, на какое-то время лишив способности даже соображать.
Он просидел перед мертвым телом до вечера, затем достал из планшетки нож и, выбрав место посуше, стал срезать мягкий дерн…
4
По центральной улице поселка шли на восток отступающие войска…
На обочинах дороги, затаив в глазах молчаливую скорбь, стояли жители Осинторфа.
То, во что так не хотелось верить, свершилось…
С тупым лязгом и грохотом ползли танки, заволакивая улицу дымной гарью, выворачивая булыжники из мостовой. Надрывно урча, тянулись длинной вереницей грузовики ранеными. Лишь некоторые из машин были замаскированы пожухлыми ветками, и пока, видно, счастливая случайность оберегала их от налетов вражеских бомбардировщиков.
Взбудораженная гусеницами, колесами и сапогами пехоты пыль серым тяжелым облаком поднималась над поселком. И в этой душной, горячей пыли, как сквозь позорный строй, брели солдаты.
Стась протиснулся поближе к дороге. Одна единственная мысль гулко билась в его сознании: «Уходят, уходят…»
Рядом с собой Стась увидел Трублина, начальника электроцеха на торфопредприятии.
– А вы почему не ушли с Амельченко, Иван Сергеевич? – спросил Стась.
Трублин покосился на парня, узнал его, ответил добродушно:
– Дел у меня и в поселке хватит. Не понял? Поймешь, придет время. Ладно, не мешай, дай еще разочек наглядеться на наших защитников. – И насмешливо продолжал, обращаясь к самому себе: – Хороши, хороши Аники-воины!.. За такими, как за каменной горой, не пропадешь. Особенно вон тот, видишь?.. Ах, горемыка!..
Впереди одноликой группы солдат, которая еще вчера именовалась ротой, имела свой порядковый номер и входила в состав теперь уже не существующего батальона несуществующего полка рассеянной по лесам дивизии, враскачку шагал молоденький командир с обеими руками на перевязи. Голова его была замотана грязной нательной рубахой, окровавленные рукава которой болтались за спиной, как концы красного шарфа. Одна нога обута в кирзовый сапог, другая обернута портянкой, из которой торчали пальцы со сбитыми ногтями. Гимнастерка и брюки изодраны. И как-то нелепо было видеть новенькую скрипящую портупею, что выдавало в командире вчерашнего выпускника военного училища. Каждый шаг отзывался болью во всем его теле, но он улыбался: и нельзя было понять, чего больше в его улыбке – мальчишеской бравады или взрослого отчаяния.
– Чему радуетесь-то! – с трудом сдерживая злость, сказал Стась. – Вот придут фашисты!..
Трублин усмехнулся:
– Они только коммунистов и жидов вешают, мне бояться нечего. Да я, кстати, и не радуюсь, – поправился он, перехватив гневно-изумленный взгляд парня. – Просто погода хорошая… Ладно, ты гляди, а мне все ясно. Пойду, завтракать пора…
Над поселком висело удивительно мирное солнце.
Из толпы протиснулась старуха с корзинкой. Вышла на дорогу, раскинула руки перед молоденьким командиром. Закричала хрипло и исступленно:
– Нас-то на кого оставляете?!
Толпа загудела и еще ближе придвинулась к дороге. Командир посмотрел на старуху с глухой укоризной, тихо сказал:
– Пропустите, мамаша. Не по доброй охоте отходим.
Старуха будто окаменела.
– Назад-то вернетесь, ай уж насовсем?..
Люди затаились в ожидании, словно в ответе командира крылось их спасение от надвигающейся гибели.
– Будем живы, вернемся, мамаша.
– Как зовут-то?
– Андреем… Андрей Кузьменков.
Старуха достала из корзины моченое яблоко, вытерла о фартук, протянула командиру.
– Возьми, сынок… Антоновка…
Кузьменков виновато повел плечами.
– Спасибо, мамаша. Руки у меня…
Строй пошел дальше и вскоре скрылся за поворотом.
Тревожная, настороженная опустилась на поселок ночь. Вставала из-за леса ущербная луна, заливала улицы бледно-зеленым светом. Поселок затаился, был тих и пустынен. Ни огонька в окнах, ни запоздалых голосов, ни стука дверей.
В саду на лавочке, прижавшись друг к другу, сидят двое. На своем лице он ощущает ее теплое дыхание. Ему сейчас очень хорошо. И что бы ни случилось с ними, он ее в обиду не даст… Милая Люся! Стасю казалось, что он знает о ней все… В девять лет она тяжело заболела, полтора года пролежала в постели с туберкулезом коленного сустава, а потом еще целый год ходила в школу на костылях. Однажды – это было в апреле – Люся поскользнулась у школьного крыльца и упала, выронив костыли. Она не могла до них дотянуться и беспомощно лежала на земле. Он подбежал и помог девочке подняться. С того дня они подружились. Он приходил к ней домой, когда она пропускала занятия, приносил новые книги из библиотеки… Было хорошо – сидеть вот так, рядом, вдыхать спокойную, влажную ночь и тихо думать о прошлом. Вся земля, все звезды – для тебя. Но как объяснить, почему на душе – тревога, почему так неожиданно сузился мир?..
– Мать, наверное, волнуется? – спросил Стась, отвлекаясь от воспоминаний.
– Я сказала, что ночую у Вали Бугаевой. Они долго молчали.
– Стась?
– Что, Люсенька?
– Может быть, все это зря, Стась?
– Что?
– Ну, все. Что мы дружили, учились, мечтали… Где они теперь, эти мечты? Что нас ждет завтра?.. Сидим мы тут с тобой… нам хорошо, а завтра придут эти… Нас учили, как надо понимать счастье, а как мы должны поступить сейчас, чтобы сохранить его, удержать?.. Вот есть ты, а кто поручится, что скоро мне не придется думать – был?..
– Люся! Разве я?.. Да я!..
– Я не об этом, Стась, – продолжала она. – Ты меня неправильно понял. Я вот думаю все эти дни. И чем больше думаю, тем мне становится страшнее… У меня в жизни огорчений было больше, чем радостей, но я видела какую-то цель, а сейчас я будто ослепла, ничего не вижу…
– Это на твоих думах сказывается нервотрепка последних дней. И неопределенность положения. Да, наступило очень трудное время, но это время нашей проверки на любовь к Родине. Тебе кажется, что у нас теперь нет цели, но она есть, ты ошибаешься.
– Какая цель, Стасик?
– Бороться.
– Как?
– А вот соберем наших ребят, посоветуемся.
– Как соберешь? При немцах?
– Ну и что? Наш фронт теперь здесь, мы не имеем права сидеть сложа руки.
В глубине сада вдруг что-то затрещало, и оглушительный свист вспугнул ночную тишину.
– Это Петька! – вскрикнула Люся.
– Ну иди, чего ты там? – позвал Стась.
Петр возился у ограды и не спешил подходить к ним. Наконец он переволок через ограду что-то тяжелое, бросил под куст смородины и поманил их к себе.
– Глядите на эту штучку, только прошу в обморок не падать… Что, глаза запорошило? Развяжите рюкзак, там еще кое-что есть.
Петр стоял перед ними, победно подперев бока.
– Где взял? – выдохнул Стась.
– Где взял, там… еще много! И вам достанется, если, конечно, будет нужда. Устал я зверски и жрать хочу до смерти. Целый день и вечер за поселком пролежал, не мог понять: пришли немцы или нет. Боялся напороться.
Откуда-то издали донесся шум моторов.
Они бросились к дому.
Было уже светло. Улица отчетливо просматривалась до самого конца.
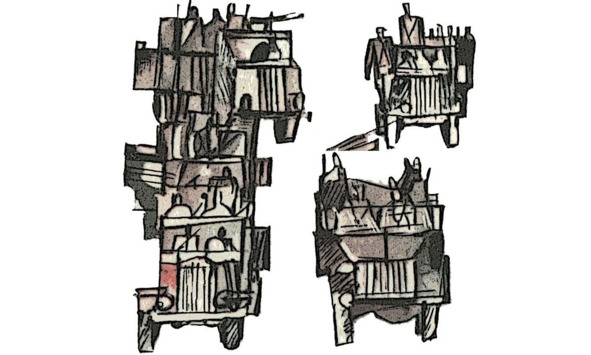
С запада в поселок входила колонна мотоциклистов. Она шла медленно, черными пальцами пулеметных стволов прощупывая тишину улицы. Впереди, в коляске, ехал торжественный, как на параде, офицер. На высокой тулье фуражки серебряно поблескивала кокарда. Он проехал так близко от забора, что ребята хорошо разглядели его лицо – прямой нос, в нитку сжатые губы, выпяченный вперед подбородок над стоячим воротником мундира.
Так въезжал в Осинторф комендант гарнизона майор Готфрид Зеербург.
– Полыхнуть бы! – У Петра загорелись глаза.
Стась схватил его за руку, прижал к забору.
– Успеем!
– Попробовать бы только, как бьет.
– Успеем, Петро! – повторил Стась.
5
– Какого черта не заменили эту дрянь? Неужели вы не чуете, что от сукна за верстищу несет большевистским нафталином? Ну!.. Сколько раз я должен приказывать?..



