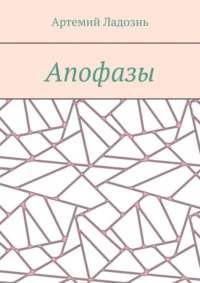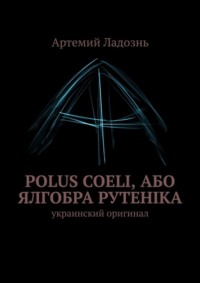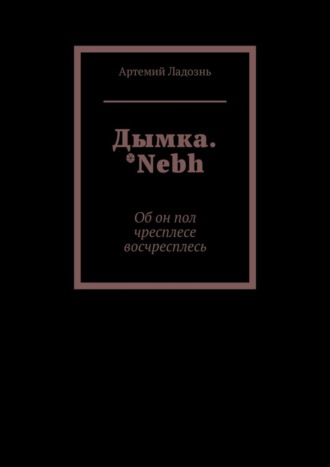
Полная версия
Дымка. *Nebh. Об он пол чресплесе восчресплесь
Вот! Не берусь судить, смеет ли кому нравиться глагол «помавать», его кривая редукция к корню «пома-», минуя когнаты вроде «мановения» либо непроясненную общую основу с «манкированием» /«минованием». Ладно бы еще – в ироничном ключе, когда передаваемая притязательность (вроде отчетов брайтонских ученых или крайнезападных атташе под зонтиком энкао, прочих розовых касок и зевательно-отчихательных кабэ) самосекома. Известный ли оппозиционер, окормляющий жестами-пассами отчаянно презираемую таргет-аудиторию; именитый ли религиовед, грозящий очередному церковно-безграмотному новоначальному тонкостью имеющего воспоследовать остракизма – неизвестно, что здесь было бы менее уместным: фаллические иннуэндос или попытки примерить сирекомый глагол в ошельмовывающем ключе по отношению к дитяти. Всяко, не всякий кобздарь осмелится на самопохороны подобного рода-разряда с соответствующей гарантией невоскрешения репутации.
Но в том-то и дело, что к столь трогательному существу, как Дымка, лучше глагола не подобрать. Как беспомощно помавал лапками, напоровшись на прохладцу прочих зверюшек, спешивших скорее отвадить его тотчас, нежели приветить на своей территории; так и ушел, помавав напоследок в знак чего-то недосказанного и недопрожитого вместе…
А может, Дымка ушел, не найдя решения, средства – или избавив нас, запутавшихся меж злым добром и добрым злом (почти по Станиславскому, а вместе – по Сухомлинскому и Макаренко), от необходимости искать невозможного: кормить ближних любимцев, потворствуя смерти дальних. Ведь давно еще, лет за двенадцать, отнюдь не будучи ориенталистом, Гвидов мечтал… стать вегетарианцем. Нет, не веганом, напротив – с благодарностью принимать молоко, не требуя от тех же благодетелей мяса-шкур (кожаных вещей не приемлет давно, с тех пор, как озадачил венскую супервайзершу по рюкзакам контрспецификацией). Тронули и поэтичные слова Гаутамы о начале несчастий на этой земле: c несправедливого поедания коров – тех самых, что давали молоко, грели детей своим дыханьем. Не меньший отклик нашли в душе православной и… азы кашрут, а именно: не варить козленка в молоке матери его. Правда в устах древних, терпевших лишения, хоть и могших рассчитывать на послабления. Суть, в коей явлен образец нехищности, отказа от всепотребленческой многоядности, омниконсумпции-олотрофности. Исть, близящая землю небесам посредством равноблизкой любви, вперед видимо разноперых ограничений на копытность-чешуйчатость.
Коей прави причастен и Дымка, что не мог уже есть, как в пору умирания. Праздник прошел, лучше уже не будет, после же пира – неважно…
Было ли вложено в Гвидова, благоусвоено ли им: много духа, много и плоти. Как вдруг проснулась и душа! Откликнулась на зов того чувства, что не может объяснить, ничем не способна урезонить исключительность объекта, как и отличие свободы от несвободы ввиду его существования. Словно в чаду высоких энергий души, но не в прозе гормонального возбешения плоти: не иссушило мозг интоксикацией, ни исканий духа пресекло. В самом деле, многим ли различались его Ташки-пташки? Уступала ли одна другой в главном? Пусть одна юнограмотна на письме (паче гор проглоченной макулатуры, «невыносимо легкоусвояемой» зауми-с-похабцой), подобно массе нынешних блохеров, неолиткорректоров, бегущей строки телеканализаторов-коллекторов, – а все не столь безызвиллинна-при-трех-высших образованиях, как большая часть этих вопящих глоток и ржущих рыл, столь же рьяно бегающих мысли, сколь тщащихся утвердиться в качестве conception-shapers, perception-framers, brand/trend/agenda setters. (Чем не наименование новой породы собак Павлова?)
Гвидов был скорее плейбой-заочник. Много хотел и мог, но мало что смел сметь – сознательно и вольно, а не по зависти-злобе доли злобовековой. Злоупотребил малость разве что в эти девять с половиной недель, что им суждено было провстречаться с «крайней» Ташкой. Всегда нравился женщинам и девушкам, еще в бытность подростком и даже ребенком с отстраненным упоением принимая флирт тетенек постарше. (Было ли банальным милованием малышом, затем – отроком, наблюдение его опережающего развития, имеющего изнанкой моложавость в дальнейшем, как и продолжением-репетицией – зазывания на репетиторство, консультации?) Первый, случайный опыт исступления, полученный на турнике лет шести от роду (никто ничему не «учил»! ), предсказуемо вел не столько к «пятерке» в четверти по физре, сколько к ранней тахикардии – пусть и окупавшейся женским вниманием. Ну, а грядущим турне Крайнезападом так и вовсе трудно было не уверовать в собственную неотразимость, когда десятки, если не сотни фемин пялились, лезли со знакомством, просто не скрывали эмоций так, как не принято в земле родной (где не называть вещи своими именами – само по себе элемент «высококонтекстной» ролевой игры).
Не злоупотреблял, непостижимым образом был храним, и вдруг… Пропал, попал, втрескался по самое stay away, и едва не ощутил себя окраденным в лучших чувствах, поняв, что все – все, в том числе набожные и неюные летами – из одного теста леплены. И на мгновение все эти мнимоангельские формулы («плоть зло, дух добро», «уклоняйся злочестия, склоняйся к благочестию») показались едва ли не более низменными, почти комичными, чем простая и честная борьба людей в миру. При всех «страстях и похотях» главным оставалось неотвращение от проблем и жгучих вопросов, небегство от реальности, не довольствование ни тепленьким Едемом, ни прохладной ниббаной, где жизнь отчего-то должна означать замирание, отречение от поиска, творчества, любви. Детство на время померкло, зверюшки и мультики поблекли; и хотя он всегда ощущал зрелость в уме и духе, так что сосуществовал во всех возрастах одновременно, временами и плакал об утрате невинности – о нет, отнюдь не плотской, но именно неотягощенности душевной.
А сейчас, едва встретив ЕЕ, должен был расстаться. Ибо годом ранее слишком убедительно сыграл безразличие, так что теперь, когда она выскочила замуж (по залету столь же случайному, сколь и желанному в смысле прибежища от отчаянья), не склонен был разрушать брак. Как же! Они ведь теперь «одна плоть». А родичи, а дети – мог ли причинять им боль, пройдясь сохой по их миру и совместному празднику, когда сам бы подобного не перенес. И если честно, не позволял себе разбивать пары даже безнадежные, когда сама барышня всячески дает понять, что не против.
Одним словом, «лох» – если договоримся неудачника характеризовать не как обездоленного, но, напротив, навыкшего в отказе от шансов и ресурсов, произливающихся на него в изобилии. Зато сейчас приходится довольствоваться возлежанием с Ташкой, исступленными ласками до полного изнеможения, когда пресыщенность почти неотличима от невинности в замутненной душе, где вожделение столь же легко рождается, как и гасится. Так что испытывает оная душа скорее дефицит желаний (чем не очередная нирвана?), нежели возможностей. Желания, разумеется, просты, невзирая на поползновения к изыскам, но неизменно кончаются неистощимым любованием – собой и друг другом.
– Ты красивый. – Ташка улыбнулась несколько инспекторски, а затем, словно чем-то встревожившись, добавила. – Красивый и умный. Все в тебе с избытком каким-то… Не знаю, как это сочетать с эллинским гюбрисом, но где-то около того.
– Скажешь тоже – «красивый»! Скорее так: физически привлекательный. – Он улыбнулся в ответ: не то сквозь нее, не то любуясь ею насквозь, когда созерцания поверхностных прелестей или даже тайн уже не позволяло сосредоточиться на неге, фокусируясь нерефлексивно, словно глумясь над идеалами дзэн, бестолково перевранными западными гуру. Чьих ментально-духовных способностей хватает не на много большее, чем у психологов, жаждущих власти посредством азбучных схем, словно не предполагающих наличия собственной глубокой и содержательной матрицы, как минимум превосходящей таковую подопытных.
Они повторяли все уже неоднократно, порой не то сбиваясь со счету, не то теряя счет подходам к этому снаряду, столь же энергозатратному, сколь и вознаграждающе зовущему. Сколь ни выспренно-пошла риторика: «они отдавались друг другу с той исступленной неистовостью, что застигала врасплох и заставляла выползать друг из-под друга едва живыми», – но точнее и не скажешь, в частности, гадая о значении ее загадочного книксена: «Хочу, чтоб ты оставался во мне и никогда не выходил». Оба могли бы развлечь друг друга целыми опусами из собственных и общеразделяемых мыслей («суицитирование»), но чаще болтали ни о чем, – буквально впадая в детский лепет. То заслушивались мерным рубато качающейся кровати (или напоминавшего о ней стола, на котором резался хлеб), то считали по осени груши, падавшие за окном с высокого грушевого дерева со звуком, могшим разбудить нервных соседей, прислушивавшихся в это время за стенкой к совсем другим звучаниям.
Но временами снисходили и до более злободневных тем. Надо же чем-то развлекаться в перерывах между путешествием в темную материю друг друга. А то и вовсе скоро могла открыться страшная правда: при всей переразвитости обоих, им банально не о чем было… молчать. На суровый тон его могла подвигнуть ее странная торжествующая манера не только запрещать ему оплачивать проезд в общественном транспорте, но и повествовать о маленьких победах демократии в отдельно взятых душах и подленьких проявлениях – как-то освоении западных грантов журналистам, мечущим оппозиционные выпады на несимпатичного Еноховича, тучного соперника харизматичному любимцу дам Дрюченко; а то и вовсе – о тиражировании слухов и сплетен для мнительной публики с пещерным сознанием (вооруженным рычагами кнопкодавства) о том, что якобы и Нострадамус, и Вангелия предсказывали нулевые шансы «темным силам» антикрайнезападничества. Те же ребята несколькими месяцами позже будут плести басни о том, как годовалая кроха остановила мать, порывавшуюся уйти с Площади словами: «Иначе у меня не будет будущего!» Все мамочки умилялись, а многие клялись, что это их ребеночек и был (попутно выдавая и склонность реализовываться косвенно, то прикрываясь дитятками, то рожая их для написания диссертаций, а то и вовсе развивая вундеров-киндеров в порядке капсоревнования либо новомодного либидинального спорта).
Он негодовал о сих «новейших модусах древнейшей профессии».
– Мужчина, о чем это мы?! – напускала она на себя испытующе-осаждающий тон требовательной шефини, что служил скорее сигналом к началу новой игры, при этом привлекая к себе в той бесстыдной манере, что демонстрирует не то их близость нерушимую, не то ее власть над ним, а скорее подчеркивает его безграничное обладание ею, когда и унижение от любимого – в усладу. Когда же слышала догадливый отклик в виде вожделенной грубости, то сознавалась, что ей хочется все это слышать, и только от него, и в подтверждение предавалась безудержно-недолжной суидиффамации.
Власть… Разве не знал он едва ль не сызмальства, что и желание иметь много-много друзей, позже – женщин и «лайков» безотносительно от контента – все это может лишь рядиться под дружелюбие или женолюбие, на деле реализуя жажду власти. Нет, отнюдь не якобы благое стремление, воспеваемое безумными поэтами тевтонского тантра-танатизма, но именно как вырожденный страх. Страх бытия, страх любви, страх отношений и чистоты сердца; страх увидеть Свет, который иначе и не узреть. Сам будучи с нежного возраста самодостаточным отличником, а вовсе не машиной зарабатывания баллов (и «лайков», как ныне иные), он прекрасно видел природу остервенелого гнобления горе-учителями несчастных двоечников, не имеющих к тому же обыкновения к подхалимажу власть предержащим. Знал, и потому никогда не злоупотребит свободой и достоинством, не будет пользоваться рычагами манипулирования, даже имея к тому и внутренние ресурсы, и харизму, и обилие благовидных поводов. Похоть к власти, демонстративная, сродни жажде контроля над всем, чего боишься – о, сей смертный грех презрен вдвойне.
Иногда он переходил на педагогически назидательную, но внешне нейтрально-околичную тему. Например, нет-нет да и вспомнит какого-нибудь случайно-новомодного пандита вроде Сарасвати, неизменно озвучившую мысли, созвучные его видению, но в узкоспециальном приложении.
– Прикинь, ведь помимо прямых путей развития (а западные корпорации никогда и не избавлялись от элементов планирования, да и Нобелевки Канторовичу за методы оптимизации, отраслевых балансов, нарочитая критика плановой системы не отменяет) – так вот, окромя так называемой «каузации» имеется еще и «эффектуация». Одно дело – знать, куда идешь, и какие ресурсы для этого требуются, так что можно сравнить с имеющимися; совсем иное – честно, «тупо» ничего не знать о будущем, а ждать, чего там вырисуется при наличии таких-то ресурсов. И, надо сказать, между этими крайностями уйма неопределенных, но заполняемых вариантов и комбинаций.
– «Ой, какой ты умненький! Это оттого, что ты краси-и-ивый…» – Она улыбнулась и напомнила, что это лишь трогательная цитата из старого фильма, ни взрослого, ни детского – столь же преждевременного, сколь и запоздавшего в упреждении коллапса страны, шатаний-брожений ее коллективного бессознательного. Разумеется, этот вывод о фильме он сделал сам, притом молча: просветленного, так сказать, все просветляет, даже случайно подвернувшееся полено. Или эта Ташка – случайный попутчик, ситуативный ангел, гений места, посланный на время и с целью (или неожиданной, апостериорно-экстернальностной пользой), как все мы – друг другу?
– Так вот, кстати, а чего вы все ополчились на «Регионы»? Не о сепаратизме ведь речь, не о развале, а скорее о поместной инициативе, притом на основании местных же сравнительных преимуществ. Между прочим, он где-то служат аналогом Республиканов в США – традиционно корпоративно-крупнокапитальной: ну, там, консервативные ценности, снижение налогов, все такое. Можно предпочитать Демократов, с активным вмешательством, nudging, контролем СМИ и финансов. Можно говорить, что у них одни хозяева, можно спорить… Только зачем их противопоставлять как зло и добро, «да» и «нет», делая политический выбор вопросом жизни и смерти? Разве трудно себе представить часть электората, равно холодного к тем и этим, словно к порченому продукту? А индивидуев вроде вашего покорного, «ровно дышащего» к толпе? Или инопланетян, пришельцев из будущего, случайно явившихся в собрание примитивного социума, где им все и вся чужды; так нет же, приперли их: мол, яви принципиальность, за кого ты – за хитрого и жестокого Эбдо или коварного и ловкого Хемдо?
На ее мычание-мурчание о демонстративном иррационализме юной поросли он (сам будучи двадцати семи лет от роду, так и не побывав дебилом и не видя признаков косной глупости в ее двадцатитрехлетней черепной коробке, по-видимому не полой меж ушами) неизменно ворчал и сетовал на то, что не приемлет неспортивных средств, неблагородных и попросту гнилых методов, unfair play – хоть они мимикрируй под жеманные взбрыки или инфантильную «непосредственность». Раж, внеумь давновозникающих соцсетей были манипулятивны и подлы. Она это знала и успокаивала его, обещая бросить к черту всю эту «джинсотемниковость» – всякий раз, когда животной чуйкой подозревала его суицидальные, любвеубийственные поползновения, реализуемые телефонными «итальянками». Это было тем более взрывоопасно, что и она имела печальную историю за спиной – еще не «исперченную», как у поэта, но уже блеклую в сравнении с тем «невероятным, что дано испытать» с ним. Это она напишет в прощальном письме, отвечая на его ругань вдогонку, когда он примет решение в очередной раз рубить, так с плеча. В их последнюю «очную ставку» он ее впечатлит, даже поразит.
– Знаешь, все-таки фрилав – это хрень полная. Вкусно вроде, но – примитивно: зародышевая стадия. Оно, может, и «термояд», но слепой, не структурирующий, не направляющий. Хотя порой я осекался: а вдруг все эти поиски прекрасного – в самом деле, лишь служение эросу? Все равно. Не может все быть столь пестро, вразброс и в метаниях: между крайними суждениями, взглядами на одно и то же то как на добро, то как на зло, – не должно быть такой пропасти. В разбросе нет ни знания, ни правды. Как нет ее и в переходах от одной крайности к другой, между досужими революциями, мелкими переворотишками в сознании амеб – всех этих карликов, оплевывающих гигантов. А любовь… все-таки сильно проще раздеться, чем просто признаться в любви. В одном случае водка не нужна, в другом – не поможет. Любовь сама себе и боль, и страх, и анестезия.
– Я и сама сейчас ощущаю, что все, чего хочу, это стирать и готовить – для мужа, грязненьких детишек…
– Тогда почему не с ним?
– Ты же знаешь, там…
– И ты письмо уже успела написать, еще тогда, когда мы…
– Ну, да…
– Зачем?? Разве не ясно было, что это ненадолго?
– Не говори так. Не так жестоко, солнышко, ведь я…
– Знаю. Ну, и что? Я тебе нравлюсь. Тебе со мной хорошо. Кстати, не понял: «то невероятное…» – правильно ли понял? Но этого мало! Мало ли, сколь многие мне нравятся или даже признаются во взаимности! Это так мало – нравиться… Даже экстаз по сравнению с любовью, пусть и не состоявшейся, – это так немного. А знаешь, что она мне тогда сказала, эта пионэрка с невинной внешностью? Дело даже не в том, что ей удобно и что муж у нее «суперский». А что даже мало – это много! С вашей, девочки, неприхотливостью-то. Так и сказала: «просто лежать рядом – это классно!» А когда совсем уж классно… – правда, из ее репортажей это неочевидно. Сказала – как током шарахнуло, полдня сидел, словно обожженный или с ободранной кожей…
Они расстались тем же вечером. Он – почти исцеленный, или договорившийся со своей болезнью, перенесенной из фазы обостренной в хроническую, или загнанной в туманную область Ид. Она – с озвученным намерением «не лечиться», притом от обоих, вообще от прошлого. А будущее – «все еще как-то будет»; что-нибудь из мглы да выплывет. «Феминоминимализм! – подумалось ему сгоряча да с горечи. – С их-то, девочек, сердечной мультиоргастичностью…» Они еще встретятся, заочно, через знакомых и «половин». Для более вдумчивых бесед. Когда, некогда теплая и цветная, действительность свернется вначале к двум изгрязна противопоставленным цветам, а затем и вовсе – к оттенкам монохромной пучины, из коей мало что могло родиться, кроме разве продолжения той энтропии, которою мир был давно чреват и ей же повинен.
А он сам – только ли противился этому или невольно и множил, длил, размазывал грязь? Ведь его этическое маньячество (образнее не охарактеризуешь) началось еще в детстве, когда от избытка оригинальничающей принципиальности иногда мог сам себе возразить: что это я, в самом деле, только за наши спортивные команды болею? Отчего, мол, не пожелать честной победы сильнейшему, достойнейшему и благороднейшему? Спустя годы он, сам того не приметив, напишет критический отзыв на двоих своих благодетелей с Крайнезапада, которые ранее не то рекомендательные письма ему дали, не то make-up экзамен приняли в более удобное время. Это произошло машинально: просто роздали анкеты, которые ищущий ум сам заполнил с упором на «раз уж спросили и коли уж на то пошло». Забывался сном тревожным, позабыв сей казус в суете дней… А когда вспомнил – пришел в ужас, заметался, вытребовал изъятие своих неосторожных «показаний», суда над адвокатами и судьями; его успокоили, заметив, что все это никак-де тем не повредит, разве в случае распределения tenure… Успокоили! Оттоль утратил сон.
Но и это не помешало ему позже, со всем своим well-/g/rounded background, придти к духовно-нравственному тупику: необходимости пописывать… ежедневно-гениальные доработки для разноперья грэдов и постдоков (а отнюдь не методичек для бизнес-школ, как вскроется). Не только вследствие неполноты предлагаемой творческой реализации инуде, но и ради самой возможности достучаться, докричаться, дозвониться до всех этих прагматичных пророков постправды – твердолобых профессоров, как и их паствы. Каялся потом столь же истово, как прежде, готов был голодать и, в самом деле, голодал в тщетных поисках абсолютно честного заработка, проклинал нечестивый дизайн – и молился… о его сохранении ради невинных и уязвимых, кляня и себя самого за те редкие вкрапления комфорта, столь неуместные на фоне тягот, переносимых большей частью человечества.
Но ад, разумеется, к этой недоприкаянности не сводился. Прекратись ныне голод и нужда повсеместно, – разве не искал бы смыслов граду, миру, себе? А, не будучи нужным и в малом, отнюдь не почитая себя осчастливившим мир своими духовными обнаружениями, – желал ли бы себе комфортного продления? Или неужто всякие терзания-мытарства (как и оскорбленная напраслиной невиновность) – от лукавого, а всякий «мир», «гармония с собой», «душевное равновесие» суть непременные свидетельства правды пути или произлияния благодати? О, тогда никто не упасен паче реформатских фундаменталистов, не склонных к палимпсест-рефлексии #NoWarOnROW по пожирании – пардон, «рационализации» или парсимонизации – «лишних» остатков мира (но не себе подобных, ввиду весьма малой приятности мяса хищников для коллег по релму)!
Однако, что совесть его в дымке, помнил всегда. И присно был этим мучим – нет, не так, как комфортно ощущает себя душа, «сожженная в совести», лишенная нервов и кожи. Скорее боясь погубить, чем погибнуть (подтрунивая над теми, кто кармической самсары боится паче своей же теплохлади), – а вместе почить на ложных лаврах, нежели проиграть, – тщился доискаться: так ли уж тождественны гордыня – и сожаление о превратном, поверхностном, штамповочно-примерочном толковании другими твоих грехов и страстей? Не столько рассматривая радости двоих как нечто зыбкое в нравственном смысле (одним и тем же занимаются и в браке, и вне – одинаковы средства к дарованию жизни и хищению), скорее склонен был видеть в этом нечто роскошно-малодозволенное таким, кто, подобно ему, подвизаясь обретать и делиться, оказался малополезен. И в этой же связи почти лишен смысла был вопрос о его гибели или спасении. Разве-де важно, чем закончит малая букашка, клетка, былинка? Чему послужил: Богу, людям ли? Ах, абстрактной истине; вот в ней и пребудешь – в сем непроясненном. Не смог возлюбить, не дал любви ожить в делах, – так коей худшей участи страшиться? Или какой рай искупит сей ущерб, уврачует таковое увечье души?
И вовсе не желал отказаться от этой своей этомании, что ли. Даже ради любви. Ибо не очень-то верил, что совершенство любви склонно требовать жертв в виде посрамленной правды, профанируемой высшей истины, – как бы ни уверяли ламедические анекдоты о сотворении.
Совесть была замутнена и вот еще чем: нередкими обвинениями Того, винить Кого немыслимо. Тем не менее, винил и «предъявлял»: смерти детей, гибель малых детенышей зверюшек, всененужность достойных, недостоинство всенужных… Мол, пусть непричастен; но ведь попустил, держа все под контролем? Так, словно Тот сам не прошел через все это, отказавшись от надзаконности, отвергнув сделку с мерзким правосудием там, где невозможно с чистым сердцем нравиться нечистоте. Ссорился с Невинным, вздорил – и мирился, зная, что в первую голову себе надо попенять в инертности и промедлении.
Как окажется, через нечто подобное проходил и Дмухарский, еще в бытность свою полуангелом и почти мудрецом. Проходил – не прошел… Хватило малости: сочувствия благомрази в ее стремлениях к паноптичной, навязчивой самобытности, нюансами множащей сложность. Сказалось и его невинно-карьерно-конъюнктурное чутье, мечтательность по искусственном интеллекте – так, будто бы изначально не доверял Тому, чье мастерство непревзойденно…
Так вот, готов был Гвидов сам себя, ввиду невозможности «большого прыжка», хоть «культурной революции» да подвергнуть в рамках культивирования Жъ (Ru), пусть и в несовершенно-вынужденных формах. Да и вообще, по Прасанову, «прохрустеть в колесе истории». Вот только тянул, что ли, со всем этим конструктивным самопожертвованием, притом что знал: промедление – лишению жизни остатков смысла подобно!
И вот настало время, когда времени больше нет, когда смириться значит не уклониться от боя и не дезертировать перед вызовом и призывом к Пре. Когда нет уж сил даже смеяться лицемерию клуба мировых судей в законе, провозгласивших закон для всех, кроме себя. Когда назначение врага тождественно наступлению у хищника времени обеда, раннего ланча-ленча. Когда в этих условиях единственной непристойностью считается правда, озвучивание того положения, что палач прикидывается либо жертвой, либо избавителем, – взывая то к милосердию, то к покорности. Когда сами собой рождаются правила боя, сводящиеся, в самом деле, к целомудренной до неприличия максиме: «Блудству позерскому – бой!» Конец вашему вавилону и содому, господа нехорошие. Станем упиваться вином правды и исступленному истодеянию предаваться, как первой и последней, оставшейся и неисчерпаемой роскоши-неге.