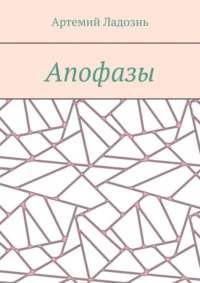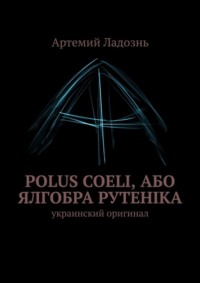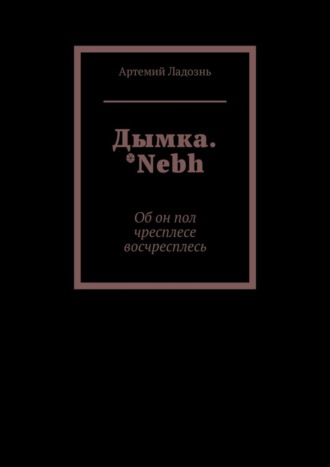
Полная версия
Дымка. *Nebh. Об он пол чресплесе восчресплесь
Ведь не в ill-defined property rights, не в волатильности цен real estate нынче дело – в сугубосохранности, сверхмарже пустого, условного, виртуального. И возрастание доходности beatcains (о пирамидальности коих он догадывался столь же рано, как и о «демократических» корнях Дейш/Teut/Tot-радикализма) – лишь образ, метафора неуемного, злокачественного роста ренты глупости, на фоне которого блекнет доходность малопонятных деривативов для исчезающе малого числа счастливчиков. В том ли дело, что некто вздумал «включить дурака», возомнив, что никто более не покусится на сию прерогативу (та же ошибка, что и с ядерным сдерживанием помимо «беспредела смотрящих»)? Или – что многие, предсказуемо, «ломанулись включать дурака», так что спираль эскалации карнавала ведет к крайнему средству от глупости: гильотине.
А что же – новоизбранный народ, поспешивший спасти мир от сползания к повторению трагедии Израильского царства, потерпевшего от неправедных судей? Слишком ли рано нарушил джентльменские принципы приличия как условия пакта о ненападении (озвучил общеизвестное, назвав шулера шулером – и это в доме, где, парафразируя из PulpFiq, никто, кроме шулера-из-шулеров, никого не смеет обманывать)? Поспешил, хуже того, уверить оного смотрящего, «пошедшего по беспределу» и винящему в том других, что готов не только иск отозвать, но и заявление забрать, – тем самым рьяно поддержав ветхие понятия. То ли шварцевский Ланцелот, то ли – быковский охотник.
Магистры демократии призывают подсудных не забываться, равняясь с надзаконными презумпцией равночестия. Тем – токмо в радость!..
Вместо пролога. ForeLife. UrSterben
Ад имеет своих патриотов. Все начиналось с вялотекущих пересказов мифов и апокрифов, всех этих переплетений козаччины-казачества и прашумеротрипольского эпоса, егоже всяк (включая и Нацакадемию наук в лице отдельных членов) волен был множить безудержно-невозбранно ввиду отсутствия письменных свидетельств антеделювиального генезиса. Это не просто подымало тонус (все больше – посредством нагнетаемой ненависти ко всякому скепсису и критике), но – в отличие от америнд-индигенных культур и культов, в коих ткань «сторителлинга» составляет самое жизнь (столь же неотделимую от мира духовного, как в семитских традициях, или от закона юридического – как в нарративах ведических) – составляло причудливую структуру-амальгаму пустотьм, из коей суждено было материализоваться сценариям светлого индоевропейского будущего. Как водится у безресурсно-притязательной серости, было принято меряться славой предков, с одновременными сеансами спиритического растаскивания наследия или принадлежности по этнонациональным гадюшникам. Злые языки могли бы возразить: дескать, не странно ли, что природа эвон насколько отдохнула на потомках – носителях столь предположительно блистательной родословной. На что радикалы – впрочем, периодически выпадающие из моды синхронно внутри- и геополитическим циклам – всегда имели в загашнике ДНК-шантаж в виде тестов на гено- и фенотипическую аутохтонность злопыхателей, коей имели обыкновение трясти перед аудиторией подобно пресловутой пробирке Фауэлла. И если последнему, купно с CEO Run-On, по мановению палочки позволительно стало ссылаться на некомпетентность вразрез с занимаемой должностью – сей подвиг изворотливости будет воспроизведен высшим руководством нацспецуры, уходящей от ответственности на фоне обвинения всех недовольных бабушек и голодных внучков в ношении грушных погон-эполетов, – то нам с Вами, въедливый слушатель GeoPol for Circuit Wooers 101, предстоит еще убедиться, сколь хрупки основания для негодования всех несогласных с хрупкостью миропорядка, расшатываемого самими дизайнерами, архитектонами гуттаперчевой резилиентности.
Мало кто из серьезных (но уже подцепивших бациллу неспортивности-во-благо-клуба, пусть сообщества надуманно-дуто-рекуррентного вроде пользовательских сетей, служащих референтной группой себе подобным), из иссочувствовавшихся болезненно-щемящим фантазиям – уж и не возьмусь судить, саудаде ли иль ваби-саби, ввиду примитивности ускользающей эстетики неоформленного, – без ухмылки воспринял бы побасенки вроде крайне-рустикального происхождения Мессии («Лелю-лелю! лем ся в-остани?»), притязания на доисторическую автохтонность вне письменной преемственности и прочих факторов, долженствующим ускорить возврат в лоно Европы того и тех, кто и заявлял тезоименитость таковому.
Однако, и среди сравнительно сдержанной публики жажда престижа, – каковой не знавала тогда еще не слишком запущенная сетевая лихорадка, когда IRC уже не мог, а iFB уже не хотел (не) жить по-новому, – наметился крен в сторону признания братских языков столь искони различными, что и новгородская береста, и «Слово», и «Повесть», и «Назидания» (карпаторусского боляра сынови) уже были не указ; когда вкрапления германополонизмов («кшталт/gestalt», «шукати/suchen») в одном столь же приветствовались, сколь порицались намеки на те же, и к ним финно-угорские заимствования, в другом («есть/gibt» помимо «имею/habe»), которые грезилось преподнесть как системные расхождения.
Пока газ-батюшка да нефть-матушка стоили копейки, модными стали лозунги о ненадобности благодарованной дешевизны. Та же судьба имела постичь стабилизаторские потуги и даже достижения предположительно про-соседского премьера, который в бытность президентом будет изгнан с вердиктом: нам, молодым, нужна не стабильность, а бурленье! Лучше-де с Крайнезападом потерять, чем с Юговостоком – обрести. Как произойдет, причем по тем же лекалам, и на Крайневостоке во время буяющих «весен» (эти «спонтанные» волнения-волеизлияния кураторы-попечители Пражско-Будапештских проектов прошлого века даже не потрудятся переименовать; видать, дабы не спугнуть удачу).
Так первая Площадь и стартовала: под фестивальный ритм, камлание «мы не быдло, козлы не мы», и столь показательно (на еврокамеру) мирно-улыбчиво, что поначалу имелись основания видеть в этом нечто «вышеестественно-надмирное», а не просто – попущенные инферналии-сатурналии бесных, как покажется девятью с половиной годами позже. На площадке действовал сухой закон, строгость порядков и фейс-контроля вроде лембержской кнайпы или ее лесного прототипа – схронов для «наших партизан». Кстати, так звучал и одноименный альбом популярной в столично-немагглянской тусе расово-чистой и кристально-свидомой группы, переучредитель коей был сыном одного из поэтов «расстрелянного возрождения». Это ничего, что пророки последнего, как и годится либералам, подобно азимовскому Мулу взывали к сочувствию с тем, чтоб позже явить свою инициативную сущность. Одни, как-то Хельга Тельга, приветствовали Фюрера и его sustainable policies, но, подзарвамшись, начали хамить, уверовав в собственную лицензию и уберорднунговость. Видимо, первым их разочарованием было то, что херр Ади первым «предал» дело BundEhr – а именно, не одобрил примата уникальной и эксклюзивноярлыковой триполоарийскости. Из не «мертвых и нерожденных», а молодых околошестидесятников выделялся Стусан, воспетый, помимо местами опасно-сносной лирики, интеллигентской хуцповатостью: одним из первых, упослившись на Юговостоке, стал требовать от абориген пользоваться в быту исключительно литературной, в высшем и подлинном смысле «соловьиной».
Ой ли #некозлы? Проведем небольшой мысленный эксперимент по решению задачи трех тел на современном этапе, а именно – выявлению наиболее деспотичного вольнодумца и заискивающего сноба среди троих: физикозавистника от экономистов Глюкмана, беспощадно-фанатичного заводчика чернушек ТуЛепа и дьяконски хитрого духовных джихадов мастера, по совместительству жреца поттерьянства Гуруева. And the answer points to… правильно, BundEhr. Во всяком случае, для некоторых аудиторий, привычно выбирающих его же меж Ларисой Косач и Сковородой. Впрочем, как и для варькарауловых, имеющих своими первыми гуру Гуруевых, а те – опять верно, #ХареПоттеров, которые и обучили их искусству утонченного (как и не весьма) хамства, причем пополам с трансовым подхалимажем. Причем занятнее всего то, что заигрывание с аудиторией сопряжено скорее с презрением, особенно в части необязательной аргументации. Впрочем, даже взыскательная аудитория порой того заслуживает, довольствуясь малым и лукавым в рамках прагматичного целеполагания.
Вообще, редко какой Философский пароход той непростой эпохи, будучи выслан, добирался до определенного места назначения; по большей части, куда сроднее было раствориться фаршем, фарсом робких сценариев слабоопределенными колеями да кильватерами изысканий. Решительность действия и сердце-впереди-мысли столь же уверенно двигали к пропасти и бронепоезда революцьонэров, и шахид-мобили небесных туристов, и «глендевагены» небедных мира сего – профессиональных народобудителей в веке сем. Нередко во мгле маячил ин айсберг; ан мало кто успевал заметить то, чего ленились чаять в угаре Великих виртуально-институциональных переселений народов и интеграционных блоков…
Лежа на диване в преддверии переломной поры (эпохи нескончаемых перемен с неопределенными чаяньями и вчерне предначертанной сценарностью), Гвидов, добросовестно перевыполняя условия согласия двух одиночеств, ласкал свою Ташку после всего. Да, они почти сразу стали позволять себе все друг с другом, честно потребляя другого как лекарство, «юзая», словно куклу вуду (притом что оба набожны, пост нейдет к изглоданному сердцу) для изгнания воспоминаний о других-других или жизни-до, что снедали душу. Сказано: и будут двое одна плоть. Причем относится это, вообще-то, и к соитию с «блудницей», со всякой даже вынужденной заменой. Но блаженнее ли было б сойти с ума, чем дать не вполне законную нагрузку плоти, которая тем и ниже души и духа, что ее единение едва ли может быть превыше слияния последних?
Он обеих – всех: так получится! – звал Ташками, хотя той первой и единственной имя было Татьяна («якобы-нерусская душою, сама не зная почему»), а этой нынешней – Натали (столь же самонапраслинно нерусская, несмотря на корни, прекраснодушь обеих, свидетельствовавших скорее о противном). В этом портманто, безлично-безрисковом именовании была не только известная экономность (спросонья не ошибешься и не выдашь себя), но и нечто от времени челночного похмелья, когда словацкие пограничники весь свой словарный запас скукоживали до этого самого немецкого заимствования, означавшего «суму» (тюрьма светила позже лишь особо зарвавшимся из дорвавшихся да нерасторопных, ибо люди «серьезные» так и не «присели»).
Можно, конечно, было бы аналитичненько распестрить бессознательное: не фроммовский ли возврат к лону (с метафорой кенгуру) имеется в виду, словно опасное утешение, граничащее с самоотрицанием и инцестуозно-суицидальным трансцендированием в, казалось бы, знакомое и безопасное, на деле сулящее гибель или же остановку развития? Нечто, за эросом скрывающее танатическую тьму, сумрачностью эреба окрадывая первый.
Ташка. В этом свально-безадресном индексе не было ни на гран непочтения. Напротив, это была песнь вечной женственности, которую он постиг благодаря первой музе, которая его не то погубила (всеподобно Еве), не то спасла (так же, открыв путь к поиску смысла в поте лица). На самом деле, он воспринимал женскую интеллигентность куда серьезнее мужеской: ибо где они, гении былых эонов? Да и обитали ль? Герои еще обретаются – в том числе в простых и честных парнях, воинах и водопроводчиках, всех тех, что в качестве принцев на белых глендевагенах редко рассматривается не самыми дальновидными из незалетных. Самозваной мещанской интеллигенции никогда не жаловал, ибо нигде, как среди этих хамоватых позеров, не сыщется столько образованных дураков, что лишь обваливает средний срез и планку, одновременно близя конец – апофеоз эволюции. Ведь если это цвет, то каковым же прикажете быть темным массам, батенька? Наконец, давайте приоткроем завесу маскировочную: Ташка главным образом означает «та самая, та же, таттва и татхагата», ежели на благоусмотрение самопросветляемым блогодетелям. Таня-Ната же, помимо имен-как-мен, напоминало бы «пустоту-всепорождающую» на пали (sunnata), да и на славянском (тоун*ность/суе*тность/шуй*ность <*tьnъ/*sujь), и всех «индо-германских» (thin/duenn/thynne/thunnuz/tenuous Впрочем, минуя непочтение и прочие девиации от идеала размена человечности на дамо- и человекоугодливость, на перверзии конечностепожатности, настанет время и для уже зарождавшегося в нем презрения, веселого смеха в адрес всего того зудяще-смердящего, чем оборачивался их мертворожденный проект членения и дробления – убиения присно-живого ради еще-не-умершего. Содом – не просто род извращения; это сворачивание смысла жизни, живой мысли до смертоносного все-/взаимо-потребления… Ад имеет и местночтимых святых. Помимо BundEhr это еще и Фройд, которого (анахронически) удобно рассматривать как «даунгрейд»/флипсайд Фромма (словно соотнося демо-/охлократию и политейю), или тень, изнанку его любви. Попробуйте напугать немагглянских спудеев блудом или впечатлить студиозусов идеалом чистоты! Вас засмеет и матюшевская «Ласа Даринка», повествующая о (надо сказать, неизменной, невзирая на сопутствующую религиозность пополам с мнительной внушаемостью) необремененности нравов крайнезападных земель этой широты. Расслабленная веселость обхождения и чувство юмора, пусть недюжинное (а все ж едва ли тождественное мудрому напряжению), – упасут ли эти края от безумия? Возможно. Но – не их собратьев крайнезападающих, ввиду тяготения к крайности и черной же грани иронии. Крайнезапад… Исток всего животворно-прогрессивного – для недорослей, коим не суждено вырасти, которые так и пребудут в своем идолопоклонском райке, внемля ироничной магии эрона и осмеивая простые чудеса агапе. Ни дети, ни мужи совершенного разума. Шарахаясь мысли, как черт – ладана, будут неизменно возвышать голос за свободу высказывания, как и манеры – демонстративно безграмотной, так словно инструментарий грамматики служит не раскрытию и реализации, но удушению их безудержной креофрении. Изначально окормляем скорее к северозападному монополю соответствующим well-/g/rounded образованием, он все же сохранил «совковую» искру интернационализма, миновав плавильный котел мягкопастельного расизма крикливо-либеральных элит, беспардонных благовмешателей, обходящих сушу и море, ища обратить в себе подобных, а при вящей удаче – соделать пущими себя. Казалось бы, после нескольких поездок «туда» (уволивших от ad hominem: «тебе просто не с чем сравнивать!»), он должен был превратиться в верного подмастерья, члена одной из греколитерных лож, называемых братствами-сестринствами. Ан нет: с первых дней «ревущих девяностых», едва поступив на экономфак и получив доступ к текстовой разновкусице, и по сей день не вместил послушания в виде воспевания «neat little models, as-if metaphors’ там, где напрашивались (и бывали зашикиваемы) нарративы более общие и изящные, пусть не без творческих оговорок. Так, воздавая должное глубине капитального труда о капитале, разве что пожурил автора (разнеся прежде в пух и прах его хулителей) за неучет восполнений: ведь, помимо труда, всякий фактор производства мог бы, устами контролеров и носителей (а то и потребителей, наделяющих стоимость субъективным либо навязанным «восприятием»), требовать протекции или перераспределения. Как попенял и на фанатичную презумпцию окончательной победы материализма (предрасполагающего к затхло-присмыкновенческому НЭПу), едва ли зиждущуюся на глубине формально-структурных проработок более, нежели на легковесных следствиях моды на гегельяно-дарвинизм. Кстати, споры об удельном вкладе коалесцирующих во Вторую Мировую – не оной ли модели наследуют, так что Юговосток силен «трудом» (живой силой), Северозапад же – «капиталом» (лендлизом, кредитами) и «землей» (территорией, ресурсным вспоможением)?.. Одним словом – «неблагодарный, безблагодатный»?.. Ingratus! Но ведь не предъявите же того же, положим, Моисею, получившему «завидное египетское образование» (хоть, возможно, лучше говорившего на армит-мцри, нежели писавшего на лишон-кудош). Гвидов рано приобрел вкус к – о ужас! – самостоятельному мышлению, и потому, наивно веруя попервах в спортивность гуру-адептов глобализма с реформатским лицом, искренне дивился их снисходительно-непреклонным вердиктам на его робкие эстетские попытки обобщить их мечтательно-смиренческие теоремы торжества «невидимой руки», сводящие рациональность к алчности, когнитивные наклонности – к оптимизаторскому копейничанью, склонность анализировать – к «рациональным ожиданиям» в смысле всепредвидения, а все вместе – к тезису о невозможности неэффективности рынков, опровержения абсурдности коего служили… очередной сенсацией, источником добавочного научно-политического капитала для всех участников жреческого кружка по изгнанию непосвященных или нелояльных. Коли тщишься поставить нашу генеральную линию и веру под вопрос, то мы-де быстро поставим тебя в смешное положения вечного безработного. Инквизиция не утратила навыков. Но тогда и он оставил за собой право не быть их клириком. Как не обратиться и в записную белую ворону – маверика и уислблоуэра, склонного разражаться обличающими тирадами раз в жизни, и то с целью сгрести свой миллион на бестселлере, свалить с рынка и заткнуться for good. Сам того не замечая, от рефлексий он перешел и к позволению себе предпочтений. В частности, возвернулся годам к тридцати к люблению старых фильмов, причем не только советских, но неизменно тех самых, где теплилось еще уважение к красоте и душевному теплу, покуда не сметенному необузданно-книжнопривитой чувственностью, ищущей даже в готических соборах, в самом слове fallacy (характеризующем сию зашоренность) исключительно фалличность, так что возражения, если и поступают, то – от феминисток средних лет и созывов. Пусть оные произведения скорее призывали к лучшему, нежели фиксировали подобное состояние и время. Пусть противники подобной ностальгии-как-инфантили твердят, что саудаде – едва ли не психическое отклонение, а тоска по подлинному сродни тяготению к будущему-эфемерному; да и вообще неуместно сравнивать идеальное с худшим из реального. Пусть так. Но вопят об этом все больше те, чей идеал инфернален от начала, иной раз рядясь под маску то гедонизма аки пост-материализма, то ему оппонирующих халифатов, чей самовозгоняемый максимализм сопряжен с лукавой манерой обходить разумную нравственность браками-на-пять-минут, такыйей превратно-отдаджяльной (зде: гюбрикономией) и борьбой с идолопоклонством в малом на фоне претворения самого процесса в идолатрию латентную. И не в том дело, что длина бороды или одежд, как и зычность междометий, постепенно стали олицетворять букву (осколок ускользающего смысла), так что невразумительность положений компенсируется неукоснительностью соблюдения. Полагаете, Крайний Запад грядет инуде? Все выродилось до ритуалов, схлопнулось к сигнальности ввиду незыблемости кумиров, гуру, окормителей (отравителей) – даже в среде реформатов, с оными ритуалами видимо сражающихся. Горе – сомневающимся, ибо на них найдется инквизиция коллективная: улюлюкающая толпа прогрессистов, эрастэроменов и «воинов света», требующая расправ над духом-логосом во имя свободы буквы-эроса. Как сетовали мудрейшие от эллин… Старые фильмы… Порой они снились. Вот грезится, как идут съемки картины, причем сама массовка вроде как и не догадывается, что они не то в ролях, не то снятся ему! Эпизод прорыва низкопередельного чугуна из мартена: полыхнуло жерло, полилось жидкое солнце, добытое потом того же, казалось бы, кровавого отлива. Сколько их угорело, сколько надорвалось непосильными трудами; как долго строили эту страну, как скоро поставили на ноги! Для того ли, чтоб потом кучка резвых да ранних самоценов решила, что созданное многими «унтерами» по праву сильного принадлежит немногим «оберам»? Имут магическую власть в лице формулы, мантры, междометия: «свобода»! Деморализовали Страну, выставили чернее черта в глазах самосвятой же мировой общественности – клуба лицемеров в манжетах с руками по локоть в крови. Покайся-де! А лучше – рухни, прижухни, притухни, – и все будут довольны. Все схлопнется до столицы с пригородами, которая станет и бессмысленно-удаленным хабом для полетов даже меж соседними пунктами. В центре – град, за оградой – тьма кромешная, ад ссыльный, скрежет зубовнопротезный… А покамест празднуют сердешные, ликуют, разливая чугун и перегоняя в столь нужную сталь. И мы ликуем вместе с ними. Снова вспоминаем, что это кино и сон, и у нас текут слезы; но не станем их огорчать, раскрывая, что же станется со Страной, миром далее… Молодцы, ребята! А которого из троих младых мудрецов нашего кинематографа пощадил рок? Быкова? Шпаликова? Бодрова-младшего? Однофамилец-погодка первого, пережив страну и опередив мысль ее легкомысленных детей, – не обречен ли был в кассандрином бессилии созерцать медленное, покадровое раздробление ее сосуда, зашатавшегося от потрясений, грянувших гурьбой, гроздью, грозой? Среда-трудоустроительница рассудила: overqualified?.. Жаль Гвидову было не только Страны. Как ни странно, ему – конфирмату правдоправия (хотя в детстве, в бытность свою пионером, имел наглость скалить зубы по поводу ожидаемого «стирания грани меж городом и деревней») – в уже пост-руинную эпоху конца 90х – начала нулевых (в самом деле, нулевые…) доводилось, возвращаясь к родным пенатам-ларам, сокрушаться, видя упадок некоторых из тех лавочек-ларьков, что привык видеть в родном городке давно. А главное – цирк! Он всегда старался покупать билеты, случись в городе появиться этим благородным кочевникам. Брал билет, стремясь защитить, продолжить жизнь любимым… Но сам не ходил, ибо не всяко можно продлить детство. Как ни крути, а это великое искусство и один из бастионов оного царства. Того времени, когда бредил тайной – в числе прочего, цирком и космосом – той, куда нет царских путей, но куда так хочется проникнуть, овладев без обладания… Наверное, забыть и отвернуться было бы не единственным предательством, внушающим ему, как нынче модно выражаться, «комплекс вины» (вот ведь возгосподствовали адепты самовозлюбления!). С детства, бывало, подбирал, кроме сверкавших кусков гранитов-кварцитов-обсидантов на стройках (минералы и монеты к нему так и липли!), еще и всякую, казалось бы, дрянь: то кусочек конструктора, то поблекшую картинку с хрюшей… (Много позже, уже в более зрелые лета, ему вдруг станет жаль… простых чисел, этих замухрышек недолюбленных, словно мышей и воробьев – и те тотчас ответят взаимностью, раскроют во мгновенье ока тайны, закономерности сродни периодическому закону. Не свойства – отношения.) Не оттого подбирал, что нужно было ему, а – что другим не нужно. Вещицы, некогда сделанные заботливыми и не очень руками одних, были преданы руками других. А может, всему виной кучи игрушек, что родители щедро-откупительски покупали, а затем выбрасывали, даже не спросив его, не задумавшись: не ранят ли сердце легкомысленной черствостью к тому, с чем уже сжился как с родным? А может, то раннее было во искупление ежегодного акта предательства, вершащегося с тяжелым сердцем всей Страной? Нет, дело даже не в вырубке елей (индюшкам в Америке, должно быть, тоже не дали последнего слова в канун всеобщего праздника); скорее – в последующем выносе. Несколько недель, а то и (давайте признаемся) месяцев зеленая красавица, как могла, радовала весь дом, будучи сердцем праздника добра и непротивостояния меж людьми и народами – в сезон благой, когда нет места ни фанатизму, ни одеревенелой черствости. Когда даже снобы диванных войск снисходят до «ящика» и сливаются с народом, отложив гаджеты-виджеты хоть на пару часов. И вот приходит час Ч и Д-день, который (признаемся вновь!) отодвигали, сколь могли. И не потому, что – лень. Тут другое… Ритуал выставления друга за дверь, предательского оставления в опасности, надежды – лишь на очищающий огнь: грехоопаляющий и вечнозеленящий. Когда, когда же быть сему? Не наша печаль – числа. Будет День, будет наш Новый год, если не отягощаться ложными радостями… А разве не жаль было Куста – душистого цветка, что вымахал метра на три прошлым летом на огороде и уперся прямо в окно первого этажа, срубленного случайной рукой, маловдумчиво внявшей не весьма умной подсказке о том, что тот способен-де корнями фундамент разворошить. Ведь цветок этот почти имел имя, наверняка улыбался и приветствовал хозяев, весь дом! Этот цветок ассоциировался с Дымкой – ведь обоих Гвидов спасал одновременно ноябрьской стужей: котика, – пуская в дом, цветок, – укрывая пленкой от ледяного дождя и аномально же снежной метели… Нет Дымки – нет и цветика-семицветика. Все логично, congruit universa. Не с оной ли печалью взирал на некогда сочное, еще недавно плодовитое дерево, с которого о прошлом годе насобирал несколько сот крупных орешков, то самое дерево, от которого и колоды не осталось – так, лишь трухлявое отрубие ствола, кора одна величиной с сажень, так что и в траве не сразу приметишь… А сколько деревьев пошло на сруб в виде теремка для магазина и летнего кафе, что радовал глаз лет двадцать, с самых мрачно-сумрачных девяностых, и что сейчас глядел обугленными головешками, обезоконенными глазницами «фрагмента несущих конструкций», без крыши и подворья, пав жертвой истовой «сердобольности» очередного героя-патриота с верхних этажей, в который раз спровадившего жену на мытье забугорных афедронов и усмотревшего в них (теремках) мало «автохтонности», а значить – ноль прав на жизнь (тем паче – на отныне-незаконно занимаемом участке). Им-де рассудилось, что всему, не укладывающемуся в идеал фольклорно-выверенной стилизации, не должно бытовать (даже Юго-Востоком, чья самобытность есть оккупированность), а потому и не будет. Это ничего, что и сам щирозападенский, ежели очистить от креольской шелухи, вполне себе по-старорусски зазвучит: сей неудобной правде тоже нет места в бессознательном сознательных и сознании несознательных… Чудно: почему эту животно-бесноватую невменяемость нарекают то «пассионарностью», то «сознательностью»? Транс – от членения смыслов на звуки? Обессмысливающе-освобождающих помаваний?