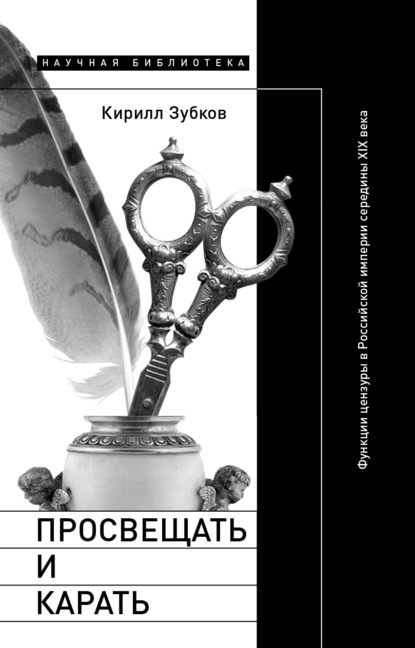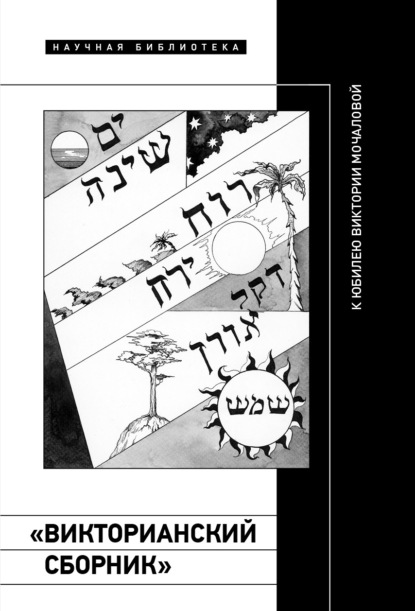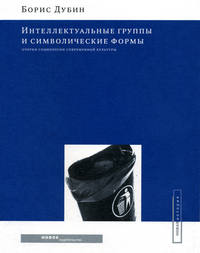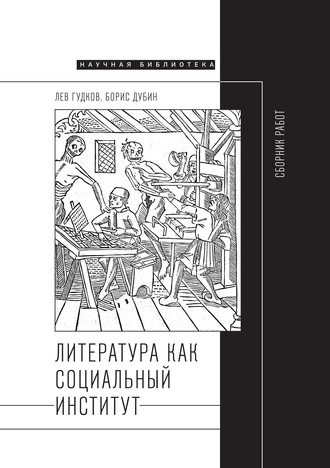
Полная версия
Литература как социальный институт: Сборник работ
Таким образом, категориальный аппарат литературоведения является системой герменевтических канонов, правил, формул, фиксированных понятий «жанра», «стиля», «романа», «оды», «целостности» произведения и проч. Последние, в свою очередь, представляют собой не дедуктивные формулы или логические правила, типологические образования, позволяющие в каком-то виде верифицировать или фальсифицировать выдвигаемые гипотезы в отношении содержания или строения текста, а своего рода топику, топические точки зрения, служащие средством достижения согласия в отношении текста, внутрикорпоративным конвенциональным средством интерпретации и дискуссии.
Литературоведческая «истина» не тождественна «научной», а, соответственно, отличается от фактографической констатации эмпирического исследователя74. Однако, ориентируясь на идеал позитивной науки, особенно значимой для современного литературоведения, филология декларирует готовность подчиняться требованиям объективности, т. е. воспроизводства тех же результатов при интерсубъективной проверке. Напряжения, открывающиеся в антиномических интерпретациях, свидетельствуют об идеологическом характере подобных форм аналитической работы. Каноны филологического труда являются лишь методическими формулами интерпретации и задают правила истолкования, постулируя необходимость определения «целого» и «частей», последовательности и связи различных переходов и т. п., но не содержат никаких элементов теории, т. е. содержательных, конститутивных признаков дескрипции или структуры объяснения, исходящих из определенным образом проведенного трансцендентального описания реальности.
Функциональным восполнением, аналогом отсутствующей теории в процессах герменевтического истолкования являются постулаты соответствующих идеологических учений (что сравнительно редко) или ценностных представлений, групповых норм литературности, скрыто обусловливающих отбор элементов задаваемых «целостностей» канона и направленность объяснения литературных явлений (устанавливается нормативный предел, к которому редуцируется проблематический феномен). Как и всякое идеологическое образование, представление о литературном качестве (о том, что такое тот или иной факт литературы) обладает всеми признаками естественности, универсальности, «природности» и «самоочевидности»75. Таким образом, задаваемая культурная ценность эстетического, приписываемая или «обнаруживаемая» в художественных текстах, может воспроизводиться и в трансцендентальной структуре авторской субъективности (ценность «эстетической автономии»), и в структуре объяснения и истолкования (герменевтические каноны и нормы филологии), и в самом «материале» литературоведения – конструкции и содержании всеобщей (универсальной, мировой и т. п.) истории литературы. Но принципиальные особенности деятельности литературоведа остаются теми же, какой бы уровень литературы ни затрагивала его работа: постулаты «адекватного» прочтения, «высокой» ценности образца, объяснение «из самого произведения», требование указать «генезис» и др. сохраняются. Иными словами, они не обладают никаким содержательным, предметным качеством, а являются методологическими максимами, регулятивными (и в этом, социологическом, смысле – ценностными) предписаниями.
Блокировка самой возможности теории и ее развития, вызываемая подобными аксиоматическими постулатами, конкретное содержательное наполнение которых зависит от действующих идеологий литературы, т. е. от соответствующих авторитетных групп в литературоведении, постоянно находит выход в обращении литературоведа к исторической работе. С логической стороны в этом реализуется давление «генетического» объяснения, т. е. функциональная необходимость причинного объяснения, вплоть до выстраивания династической цепи преемников, являющихся одновременно предками (своего рода «этиологический миф» литературоведения, генеалогическое древо литературных генералов), а с предметной – задается идеологическая легитимация собственной авторитетности в культуре и литературе, производящая посредством бесконечного регресса отождествление собственных ценностных оснований и самоопределений с отдельными историческими формами бытия образно-символических рядов (предварительно выделенных и оцененных), в их разнообразных манифестациях и декларациях, – т. е. опять-таки в «самом материале». Именно в этом и заключается смысл деклараций о «вечных» ценностях литературы, об «эстетических» способностях древних (хотя самому слову «эстетика» лет примерно столько же, сколько и «литературе» в нынешнем ее понимании), а также тех стремлений находить литературу (или такие ее подвиды, как «массовая» и «детская» литература) везде, где только можно. Ею становятся и Ветхий Завет, и сакральные гимны или поучения (например, Ригведа или Дхаммапада), и прославление харизмы вождя, как в саге или былине, и космологические или другие мифы, софистические диалоги, мистерии, тексты заклятий, магических формул и т. п. и т. д., т. е. практически все, на что падает эстетизирующий взгляд литературоведа76. Существенно в подобном отношении к материалу – стирание культурного своеобразия соответствующих смысловых структур и определение их как подобных нашим собственным системам значений, что позволяет методологу характеризовать такую ситуацию как не столько «исследование» литературы (и культуры), сколько ее «изобретение», обнаружение или экспансию. (Эта проблематика, знакомая и очевидная, скажем, для культурантропологии, где она систематически осознается и эксплицитно фиксируется77).
Возникающие вместе с идеей мировой истории литературы парадоксы историзма (идея «универсального объективирования» прошлого) образуют точную аналогию парадоксов «множества всех множеств», не содержащего самого себя. Это схоже и с конструкцией рабочих процедур литературоведа, отмеченных характерным ролевым конфликтом – «теоретика» и «историка» литературы. Логические парадоксы такого рода оборачиваются семантическими парадоксами, и им отводится соответствующая роль: чтобы быть универсально-историческим, необходимо излагать повествование одновременно с самими описываемыми событиями. Другими словами, решение этих парадоксов требует догматического, аксиоматического, спекулятивного и т. п. постулирования, т. е. введения в структуру объяснения априорных компонентов.
Обычно это предполагает телеологическое или какое-то иное смысловое истолкование развития литературы (например, «эволюцию»). Но поскольку выстроенная история отлична от «возможной универсальной объективации структуры объективирующего воспроизводства прошлого», то неизбежны «характерные трансцендентальные мнимости», эпистемологически осознаваемые как разнообразные содержательные антиномии78.
Самим литературоведением обнаружение подобных противоречий и опыты их снятия не производятся. Специфический способ трактовки возникающих расхождений или разногласий – упразднение предшествующей «истории» литературы и (как это и должно быть в соответствии с характером идеологических построений) целостное замещение новой конструкцией, представляющей собой очередную содержательную проекцию ценностей группы на интуитивно представляемый ряд социально-исторических изменений и трансформаций, остающихся в этом смысле столь же аморфными и неопределенными. Поэтому и построение «истории теорий» литературы осуществляется таким же примерно образом. Не случайно, что в литературоведении любой опыт теоретизации принимает форму «систематической» истории литературы, равно как и построение историй литературы не мыслится без предиката «теории». Выход из этого «круга» (опять-таки, герменевтического, однако большего объема) для социологии может быть указан в анализе идеологий литературы, точнее, тех групп (смысловой структуры социального действия), которыми устанавливается связность литературных процессов и явлений.
Остановимся только на одном специальном обстоятельстве: символическом значении «теории» (категориального аппарата, герменевтических канонов и их составляющих) для поддержания групповой сплоченности, т. е. поддержания стандартов «группового действия» (и прежде всего – процедур объяснения и интерпретации). Покажем это на двух примерах – категориях жанра и массовой литературы.
После «литературы» наиболее общей категорией не только литературоведения, но и искусствознания является категория «жанр». Именно через нее осуществляется литературоведом первичная процедурная маркировка и тематического, и экспрессивно-технического своеобразия произведения, поскольку тем самым задается известное соответствие тематизируемых ценностей, определений реальности и т. п. Вместе с тем, обычными давно уже стали пени на то, что дать однозначной дефиниции жанру не представляется возможным, так как в практике обязательно найдется ряд значимых примеров, разрушающих границы определяемого. Соответственно, исторической социологией подобный тип проблем (идеологических определений и средств определения ситуации) может быть решен только при трактовке таких значений в качестве элемента группового действия, т. е. устройства, конституирующего смысловую структуру действия.
Проблема жанра в литературе и искусстве (или – в позднейшем варианте – приравниваемых к ним образно-символических форм выражения – ритуал, эмблематика и др., либо даже «практических» средств повседневного взаимодействия – «речевые жанры» у М. Бахтина и Ц. Тодорова79) возникает в совершенно определенных ситуациях: необходимости классификации эстетических феноменов. И именно анализ этих ситуаций дает возможность преодолеть как крайности релятивизма по отношению к любой вновь возникающей эстетической группе, выступающей с манифестациями в оппозиции к канонам предшествующего этапа, так и крайности догматического характера различных учений, включая и концепции учебников.
Общим признаком подобных ситуаций является то или иное сознание «кризиса», эрозии традиционной практики образно-символического выражения, вызывающей усилия определенной группы, сознающей эту эрозию, по поддержанию определенной нормы понимания литературы (как правило, выдвигаемые в форме «восстановления», «сохранения»). Интерес к сохранению значимости подобной нормы является стимулом к рационализации, кодификации аморфной, обыденной, рутинной традиции выражения. На этот момент заинтересованности в поддержании или, точнее, установлении нормы указывает прямая оценка форм действующей практики. И в этом смысле положение здесь нисколько не изменилось со времен Аристотеля или Буало.
Нормативная оценка, предполагающая известную иерархию ценностей, шкалу экспрессивно-символических форм, базируется на их замкнутой систематике, а соответственно, конкретная оценка единичного артефакта отсылает к наличной тотальности, целостности априорных канонов, причем каноничность интерпретации осознается при рутинной работе как каноничность «самого» кодифицируемого материала.
Следовательно, эмпирический анализ эстетических проявлений, начинающийся с историзации нормативных систематик и кодификаций, должен дать ответы на вопросы, кому и в каких условиях бывают необходимы законченные, замкнутые классификации эстетических форм, кто вводит, при каких и на каких условиях принимаются согласованные определения эстетической практики, т. е. как складывается консенсус в отношении социальной и культурной реальности и т. д. Соответственно, понимание усилий и действий по поддержанию и заданию нормативного состава культуры (кодификации, систематизации и упорядочению действующих и значимых образно-символических форм, маркировке феноменов и т. п.) может реализоваться только в перспективе конкретного анализа определенных интересов группы – агента и носителя процесса рационализации. При этом осью организации символического состава культуры, как уже говорилось, остаются временные механизмы («традиции»): ценностные ориентации на значимые образцы «прошлого».
Понятно, что категория традиции вводится в данном случае рефлексивно, а дихотомия «прошлое» – «настоящее» является эффективной формой определения актуальной для кодификаторов реальности, т. е. она выступает как проекция ценностных представлений группы, фиксирующей в образцах «прошлого» значения «самодостаточных» авторитетов, иными словами: она очерчивает границы допустимой гетерогенности культуры. Собственно эстетическую специфику образуют такие символические конструкции, в которых функции самодостаточности придаются персонажам, «незаконно» присваивающим себе право на самоопределение, на свободу и автономность поведения, на индивидуально-субъективный произвол действия (например, Эдип, Медея, Макбет), приличествующие лишь богам, царям и року. Символически это выражается как предельно высокий социальный и/или культурный ранг трагических героев.
Устойчивые схемы организации тематизируемых конфликтов ложатся также и в основу формулы интерпретации, образующей целостность жанрового «рода», т. е. в учение о трех стилях, разработанных еще в античности. Они образуют иерархию внелитературных значений (называемую в средневековых трактатах «колесом Вергилия»). Таким образом, начавшийся в подобной форме процесс рационализации, т. е. построения кодификационных и классификационных систематик образно-символических форм, включая и литературные, имеет своим пределом всеобщую культурную легитимацию субъективного самоопределения и субъективного определения действительности, иначе говоря, снятие социальной маркировки (указаний на социальный или сословный ранг персонажа) со значений проблематики личностной идентичности. В таком случае группы кодификаторов (и, соответственно, их высокий статус и авторитетность в культуре) утрачивают свою силу единственных законодателей в этой сфере, поскольку именно подобный статус и коррелирует с высоким социальным рангом лиц, героев, персонажей, репрезентирующих собой проблематику легитимной субъективности в указанной культурной сфере.
Дифференциация социокультурной системы, предполагающая различную степень относительной автономизации литературы, а соответственно, культурный плюрализм современного общества, дифференцированность типов действия и интересов групп творцов и интерпретаторов, делает невозможным (прежде всего – для исследователя) представление какой-либо эстетической классификации или системы как единственно авторитетной80.
Если в условиях нормативной литературной культуры за создателем символических образцов социального действия (в самом широком смысле) – поэтом или писателем – культурно закреплены функции фиксации (в принятой здесь логике рассмотрения) границ ценностно-нормативной эрозии, степени контролируемой аномии, а значит, и интеграции – через указание ограничений – применительно к культуре в целом, то группа кодификаторов образно-символических структур осуществляет через процедуры систематизации, упорядочения и т. д. интеграцию литературной культуры, точнее – ее нормативного ядра (или же, в отдельных ситуациях, литературной культуры как нормативного ядра культуры в целом), чем и определен, а значит, и ограничен, в том числе и во времени, ее культурный авторитет. Изменение содержания ценности литературы в культуре влечет и изменение статуса ее интерпретаторов.
Фундаментальный характер изменений социокультурной системы Нового времени (конец XVIII – начало XIX в.), отмечаемый как интенсификация процессов дифференциации, исследователь литературы может фиксировать и на собственном материале. Это время перехода от исчерпывающих классификаций экспрессивного и тематического состава «литературы и искусства», от нормативного предписания к аналитической реконструкции норм производства самих «литературных» форм, инновационных элементов, а соответственно, и описания значений, тематизируемых в литературе данных типов. Другими словами, наряду с прежде единственно полномочным кодификатором образно-символических форм, предписывающим ту или иную рецептурную практику, возникают столь же авторитетные и становящиеся все более многочисленными фигуры интерпретаторов (критиков, философов, литературоведов, фольклористов и т. п.), задающих принципиально иное – проблематическое – упорядочение, частичность которого определена их теоретическими или, шире, аксиоматическими, культурными интересами. А это уже значит, что в методологическом плане проблематика «жанра» приобретает постепенно совершенно иной порядок развертывания и функциональный смысл. Для исследователя-эмпирика представляется уже предпочтительным говорить не о «классификации», а о типологии, идеально-типических конструкциях тех или иных выдвигаемых, исторически конкретных систематик, имеющих принципиально открытый характер, поскольку основой их, так или иначе, становятся смысловые структуры исторических форм литературного поведения (прежде всего – авторского, но не только его).
Исследователь при гипотетической реконструкции или анализе типологических структур текста и совокупности текстов вправе предлагать (и говорить о них) лишь известные наборы знаниевых средств и методические правила их сочленения, организации, которые он отбирает исходя из собственной задачи, т. е. в зависимости от характера полагаемого в основу объяснения типа литературного действия (оно, как правило, конституируется через условного или «модального» читателя). Наряду с этим сама структура «теоретических построений» в современном литературоведении делается предметом изучения либо методолога (в аспекте корректности и непротиворечивости построений), либо социолога знания, рассматривающего их в контексте проблематики понимания исторически конкретных мыслителей и систематиков, а также с учетом самих принципов отбора концептуальных элементов, их социокультурной и ситуативной обусловленности и т. п.
Однако нормативные жанровые компоненты литературной культуры не исчезают, а составляют один из пластов многоуровневой организации литературы. Эти элементы в самом материале литературного произведения (метафорике, композиционных особенностях, соответственно, в языке героев и типовых структурах их мотивации и т. п.) или в качестве предмета исследования в литературоведении образуют наиболее консервативную часть культурных значений, обеспечивающих воспроизводство и сохранение стандартов литературной культуры, чаще – особенно во втором случае, в литературоведении – даже в качестве механизмов поддержания организации литературной культуры.
Так, если проблематика жанра постепенно вымывается из обихода критики, то она остается в качестве формообразующего принципа определений реальности в самой литературе, в произведении (это особенно значимо для массовой, тривиальной литературы, которая пользуется, как правило, рутинными, «стертыми» нормами реальности, содержащими компоненты актуальной проблематики элитарной литературы на предыдущем этапе ее развития). Можно это детально проиллюстрировать на примерах обращения с экспрессивно-символическими формами античного «литературного» или «эстетического» наследия.
Приданный античности статус изначальной эпохи, прекрасной поры детства человечества (общее место в классицистских и романтических риторических обращениях к античности), превратил ее в «заповедную» сферу методологизации, т. е. она стала экраном, символическим пространством «беспрепятственной» (поскольку – вполне фиктивной) реализации и проекций культурных интенций авторитетных групп интерпретаторов. Функциональное значение таких референций к подобной «фиктивной античности» в самоопределениях эстетической практики европейского классицизма, Нового и Новейшего времени состояло в маркировании воображаемых пределов литературной культуры (посредством ввода мифологемы «первого» и «последнего» поэта) и интеграции значений, очерченных этими фиктивными границами. Содержание традиции («античное наследие»), будучи трансформировано в призмах различных культурных систем, универсализировалось и последовательно превращалось в образцы, правила, примеры, аллегории и т. п., утратив с течением времени сколько-нибудь содержательную определенность. Тематические образования античной культуры, став до неузнаваемости стертыми формами «высокого» или «красивого», тематически пустыми, превратились в динамические механизмы организации культурного пространства, вроде феноменологических «интенциональных горизонтов», в значимые формы культурной идентификации. Аналогом этого в современности можно считать и такое функциональное образование, как «литературная классика».
Разрушение жесткой иерархии оценок, фиксированной жанровыми канонами и определениями, наиболее последовательно и основательно производилось романтизмом. Романтики, выдвинув в качестве единственной инстанции культурного авторитета метафору авторской субъективности – тематически пустую фигуру «гения», выбили основание у претензий на универсальную значимость образцов классицизированной античности. Вневременности (вечности, бессмертности, совершенству) канона классицистов они противопоставили конструкцию современности, субъективной значимости «настоящего», «мгновенного» (и – в этом смысле – «небывалого» и «неповторимого», т. е. собственно «оригинального»), а общезначимости античности представили альтернативную ценность локального своеобразия любой «древности» (т. е. «почвы» – германской, шотландской, славянской, экзотического Востока и т. п.).
После этого перелома задача интерпретатора все более стала осознаваться как описание и объяснение (в отличие от предписаний кодификатора) распавшегося и тематически и риторически умножающегося универсума значений культурной традиции. Единство описываемого материала после этого задается лишь познавательным интересом интерпретатора и совокупностью методических процедур, эксплицитно применяемых им.
Обнаруживающаяся проблематичность новых эстетических практик (романа и т. д.), каждый раз осознаваемая как «кризис» культуры, единство которой определяется значимостью традиции, обусловливает кодификацию нетрадиционной практики в категориях прежних авторитетных образно-символических сфер (сменяющих друг друга ритуала, эмблематики, музыки, живописи, театра и т. п. для литературы). Более того, сама сомнительность, неопределенность, проблемность новых эстетических практик парадоксальным образом воспринимается в качестве опознаваемого признака, на который ориентируются литературоведы в попытках строить тем не менее содержательную жанровую определенность.
Применительно к проблематике «массовой литературы» внимание социолога прежде всего задерживается на том факте, что в поле литературоведения и даже актуальной критики попадает сравнительно ничтожная часть всего массива вновь поступающей литературной продукции. Выводы социологических наблюдений над тем, что большие организации работают на самих себя, уделяя большую часть средств и усилий на самовоспроизведение, в известном смысле могут быть отнесены и к «высокой» литературе и ее институтам, фиксирующим наиболее существенные механизмы и темы культуры. И это кажется тем более странным, что в реальном чтении, т. е. в общем объеме прочитанного широкой аудиторией за определенную единицу времени, высокая, традиционная и авангардная, элитарная литература составляет несравнимо малую часть.
Обычные оценки, практикуемые в нормальном литературоведении, определяют массовую (она же – низовая, тривиальная, банальная, макулатурная, развлекательная, популярная, китчевая и т. д.) литературу как стандартизированную, формульную, клишированную, подчеркивая тем самым примитивность ее конструктивных принципов и экспрессивной техники. Однако внимательный анализ обнаруживает чисто идеологический характер подобных групповых оценок81.
Для нас социологически релевантным всегда остается вопрос, кто определяет «избитость», «шаблонность» построения неканонических произведений. Сопоставительный анализ средств «массовой» экспрессивной техники и правил организации реальности, действия и т. п. обнаруживает в ней те же самые принципы, что в высокой и даже в авангардной литературе (более того, те же конвенции фикционального построения экспрессивно-символического ряда релевантны и для еще более «популярных» и «примитивных» форм – комиксов82): сложную систему рамок реальности, поток сознания, формы конституирования «я» или реальности, предметности, исходя из различных точек зрения и проч. Очевидно, что имеет место чисто оценочный и идеологический перенос содержательного, тематического момента на систему конструктивных принципов. Низовой массовой литературе отказывается в легитимном праве на проблематизацию определенных содержательных ценностно-нормативных значений в культуре, а именно: тех, что считаются значимыми для функционально дифференцированных и специализированных групп символических «носителей» культуры (в том числе и литературоведов). Однако в силу характерной переориентации современного литературоведения и части критики с содержательных компонентов текста на способы их организации в произведении (о чем см. ниже) дисквалификация массовой литературы проводится по критериям оригинальности экспрессивной техники. Но этот признак является релевантным, собственно, лишь для групп, поддерживающих авторитетность высокой литературы и элитарных стандартов ее интерпретации. (Использование в данном случае именно этих критериев оценки как раз и служит для исследователя-социолога указанием на соответствующие инстанции маркирования.)