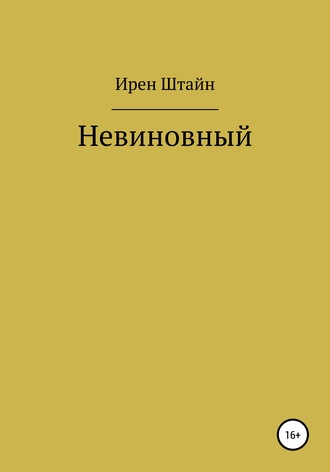 полная версия
полная версияНевиновный
Тихо стояла в углу гитара, и струны ее молчали – пальцы, которые могли вдохнуть в них жизнь, сейчас то сжимались в кулаки, то хватали ткань наволочки, будто обнимала Женька кого-то слишком дорогого, слишком нужного. Кого же?.. Огоньком спички мелькнула мысль, что меня, но тут же погасла, не выдержав ветра. Я не могу быть таким, не заслужил быть таким. Подумаешь, выдернул девчонку в мир сиюминутных радостей, незнакомый ни ей, ни мне. Мы бредем там впотьмах, наугад, не сбавляя шагу, стараясь не думать, какой из шагов окажется последним перед падением в пропасть…
А если Женька умрет, струны онемеют навечно. Останутся просто металлическими полосами, зачем-то прорезающими гриф, просто так, безо всякой цели. Нет, конечно, это не совсем верно – у них появится голос, если кто-то другой возьмет гитару в руки, но голос этот будет чужим и фальшивым, как поздравления дальнего родственника или пьеса в школьном театре. Пускай актеры и стараются изо всех сил, так, что натягиваются жилы на детских шеях (тоже как струны!), все равно ничего не выйдет. Публика будет зевать, поглядывая на часы или в объективы камер, стараясь захватить в кадр только своих отпрысков, чья игра вкупе с бездарной съемкой, в отрыве от всеобщего действа, станет казаться еще более нелепой и жалкой. Публика будет ждать, когда уже все эти ромео и джульетты в вылинявших костюмах выйдут на поклон. И тогда можно будет рассыпаться такими же фальшивыми комплиментами, переодеть «актеров» в привычные джинсы и джемперы, посадить в кредитную машину и увезти домой, где в серванте за рядами никому не нужного хрусталя притаилась бутылка пойла. Гаснет свет. Спектакль прошел на «ура».
А если так, то незачем и пытаться. Ведь эти попытки вернуть струнам голос – сами по себе насмешка, над той песней искренней боли, совсем недавно вырывавшейся из Женькиной груди. Что будет, если пальцы ее похолодеют?..
«Но, лошадка, но!»
Я явственно увидел, как на шее Женьки обвиваются полосы лески, отражаются красно-синими следами на коже, врезаются в плоть. Сильнее, сильнее. «Но, лошадка…» Как безвольно приоткрываются еще влажные губы, недавно подарившие мне поцелуй. Увидел себя, стоящего на коленях перед ее телом в «ковбойской» рубашке, распростертым среди грязи и листьев. Я – ничтожный слизняк, не имеющий сил спасти… Может, не желающий? Нет же, я желаю! Я жизнь бы свою отдал, только бы эти пальцы снова рождали музыку! Сжимали подушку так, как цеплялись за мои плечи в минуты радости, от избытка чувств. Только бы, не отрываясь, смотреть на небо – в глаза. Но почему она лежит без движения?! Почему все опять?! Женя… Вера…
– Вера! Вера, нет!
Холодные ладони бьют меня по щекам. Я мотаю головой из стороны в сторону, силясь вернуться, но не могу. Продолжаю кричать, хоть никто и не слышит. Удары не прекращаются, и от них не удается закрыться, не прекращаются, потому что я заслужил. Не прекратятся… Не…
– Очнись! Очнись же! Что с тобой?!
Темнота расступается. Электрическое светило разрезает глаза пополам, проникает в голову, жжет немилосердно. Квадрат окна синий, будто закрашенный кистью пьяного маляра, и сквозь него ничего не разглядеть. Снова пощечина. Вторая. Теперь моя голова зажата между чьими-то ладонями, и кто-то бережно приподнимает ее, продолжая говорить.
– Слышишь меня?! Пожалуйста! Ну?!
Картинка собирается в целое из тысяч разорванных фрагментов. Теперь я вижу Женьку, сидящую на мне и сжимающую мои виски пальцами. Она пытается вытащить меня, как утопленника из темной воды, а значит… Значит, она жива.
Воздух выходит из легких, с шумом втягивается снова, не давая шанса пустоте. Кошмар позади.
– Ты здесь? Блин, как ты меня напугал… – Она ступает босыми ногами на пол, тихо, по-кошачьи, но все так же не спуская глаз с моего лица. Я удивлен и растерян. Надо же… Глупость какая. Мои щеки мокрые, мокрая и ткань наволочки, еще недавно пахнувшей кондиционером для белья. Кран в ванной шипит, как потревоженная змея, и вот уже прохладное стекло стакана бьется о зубы.
– Все в порядке. Спасибо. – Дар речи вернулся не сразу, но как только это случилось, я постарался успокоить Женьку.
Она молчала, все так же уставившись на меня, и отчего-то я почувствовал себя виноватым. Рубашка прилипла к спине, дыхание сбивалось. Хоть было непросто, я таки проделал путь до ванной, не узнавая лицо в зеркале, но щедро поливая его холодной водой. Нет, это не дело…
– Кто такая Вера? – Молчание прервалось, и в этом Женькином вопросе читалось не привычное любопытство. Он звучал так, будто она решилась спросить у скорбящего на могиле, каким был похороненный здесь человек.
– Она… Она была совсем ребенком. И умерла из-за меня.
Не знаю, сколько я сидел, уронив голову, обхватив ее руками, пока меня неуверенно не тронули за плечо, пока в мою ладонь не вложили стакан с резким запахом коньяка. Наверное, Женька успела выскользнуть вниз, где ей продали бутылку – еще бы не продали, ведь она умела быть дерзкой. Со всеми, только не со мной – никаких вопросов более не прозвучало. Мы просто выпили, и просто сидели обнявшись, целую вечность – я хотел, чтобы было так. Чтобы пробуждение после кошмара не кончалось. И оно не кончалось, пока закрашенное пьяным маляром окно не очистилось утренней серостью.
***
– Итак, Бонни, слушай внимательно. Сегодня задача у нас посерьезнее, чем пацан из продуктового. Берем микрозаймовую контору.
В голове шумело, но уже не так сильно. Женька достала у регистраторши пару таблеток аспирина, и теперь пожирала меня глазами, стараясь не завизжать от восторга в неподходящий момент.
– Я в тюрьму не собираюсь, и если ты тоже, то найди, чем закрыть лицо – камеры будут везде, как в Голливуде. Машину бросим в квартале от цели – засветится – новую ищешь ты. Идет?
Она бы согласилась на что угодно, слушая неотрывно, будто кобра, завороженная мелодией флейты. И, несомненно, верила в успех. Мне бы хоть каплю, хоть крупицу этой веры. Боже, что же я делаю… Я гнал от себя эту мысль, более свойственную мне прежнему – заурядному банковскому служащему, одной из тысячи пылинок, слагающих монстра корпорации. Теперь ведь все по-новому. И если Женька захочет попкорна или два ящика шоколадных конфет – я достану деньги, чего бы мне это не стоило. Мечты должны сбываться…
Должны. Так нам говорили с детства, забыв упомянуть, что для достижения цели все средства хороши. Если пренебречь этим принципом, мечты будут сбываться только у определенного меньшинства, «элиты», называйте как хотите. Чтобы реализовать свои желания, нужно пожертвовать мечтами других – такова жестокая правда.
Все у нас будет, Бонни. Что-то сжалось в груди, как бывает перед концом фильма, который уже смотрел, и знаешь – вот-вот все погибнут, вот-вот разобьется последняя надежда на счастливый финал… Но я гнал предчувствия прочь. Сколько бы ни было нам отведено, мы будем счастливы.
– А если у них есть эта кнопка? Ну, ты понял, для вызова ментов. – Женька машинально подожгла сигарету, по-прежнему сидя на кровати, скрестив ноги, и не успев подумать, где при этом спустя несколько секунд окажется пепел. Кто думает о пепле, пока горит? О том, что скоро станет им. Я таких не встречал, а если и встречал – то они, по большому счету, никогда и не горели.
– Должна быть, разумеется. Поэтому работаем быстро, но без суеты – паника в деле не помощник.
– Почему ты вообще взял меня в дело? – Пару секунд Женька молча крутила колечко на пальце, а потом вскинула взгляд на меня. Так, наверное, вскидывают оружие, хотя, откуда мне знать. – Я же для тебя обуза.
– Подзатыльник хочешь? Нет? Тогда не говори ерунды.
Моя сообщница чуть сердито засопела, но я успел различить в ее лице нотку торжества. Никогда бы не смог ее ударить. Все напускное – образ супергероя из каких-то банальных отечественных киносюжетов… Точнее, образ в образе – ведь Женька знала – я никогда не смогу причинить ей боль.
«Одно мое движение, и она полетит вниз…»
Я тряхнул головой в бессильной злобе, так, что щелкнули зубы, взрывом отозвавшись в висках. Наверное, какая-то из тысячи масок спала – я взял Женьку за руку – быстро, чтобы не сомневаться, не остановиться на полпути, когда схлынет опрокинувший меня порыв.
– Будет опасно, ты понимаешь?
– Как в кино. – Она улыбалась. Искорки в глазах – по-прежнему дерзкие. Она не позволяла страху завладеть ею, моя неудержимая, смелая Бонни, и от этого я почувствовал в горле комок. В стакане сухо – вот досада. Ни капли не скатилось к моим губам, и даже за окном проглянуло солнце, на секунду ослепив меня. Значит, уже день.
– Только круче. – Я тоже улыбался – мне пришлось. Больше всего на свете хотелось завалиться обратно, на кровать, подарившую мне ночь кошмаров, но только не выходить никуда из номера, ни к чему не обязывающего, никому не заметного. А потом смотреть в окно, как струями света летят по дорогам машины, перерезая струи из капель, методично стекающих по стеклу. – Но это к вечеру.
– А что сейчас?
– А сейчас день.
Удар подушкой, по уху. Падаю, раскинув руки, изображая невинно убиенного. Женька смеется. Смеется, и голос ее рассыпается осколками битого хрусталя. Мгновение – и его не стало – он впитался в стены и потолок, как вода утекает в изголодавшуюся, иссушенную жаждой землю. Сколько голосов хранит этот номер? Во сколько тысяч невидимых слоев они сложены под небрежно наклеенными обоями? Если воспроизвести все разом, можно сойти с ума – от смеха на все лады, плача, воплей отчаяния и сладострастия… Криков о помощи, никем не услышанных, навсегда похороненных здесь.
Верочка не кричала. Ей сдавили горло.
Я почувствовал, как к моему горлу подступает комок, как до самой высокой ноты разгоняется режущий свист в ушах. Но я ведь ничего не….
– Пойдем? Или хочешь, чтобы нас выселили?
– А мы спрячемся под кроватью, и сделаем вид, что нас здесь нет. – Как же сложно делать вид, что ничего не происходит. Но ведь действительно ничего не происходит, – все эти кошмары своды моего черепа удерживают внутри меня. Снаружи светло и спокойно. Как в детстве, когда мама вынимала из духовки запеченные яблоки, истекающие соком. И плевать, что будет дальше – ведь дальше только хорошее.
– Я в детстве любила прятаться. При любом удобном случае забиралась в самые темные места, куда заглядывают по праздникам или во время генеральной уборки. Так интересно было – наблюдать за всеми, знать, что они без понятия, где я. Знаешь, у меня настолько хорошо получалось… – Вырвавшийся из горла Женьки смешок казался нездоровым, неуместным. – Что меня перестали искать. Бесполезно мол. Так я впервые поняла, что никому в целом мире не нужна. Сама виновата, правда?
Дикий, маленький зверек. Вот-вот убежит и снова спрячется – ведь умеет это лучше всего. Нельзя показать свои слезы. Нельзя быть слабой и уязвимой. Прячься или бей – третьего не дано. Наверное, впервые в моей жизни я сделал то, что должен и то, что хотел. И эти две вещи поразительным образом совпали. Я обнял Женьку – точнее, схватил, или сгреб в охапку, чтобы ее удивленное личико уткнулось в мое плечо. Вот ведь это самое третье – когда тебя любят и принимают. Пусть даже беглый преступник, которого знаешь без году неделя, или даже меньше. Так бывает, Женя, мой Мотылек. И не должно быть иначе.
***
– Куда мы едем? – Женька отчаянно вертела головой по сторонам, вглядываясь в вывески медленно проплывающих за окном зданий. Казалось, мысль ее огромными буквами была напечатана прямо в воздухе: «Где же, где та самая контора, которая вот прямо сейчас будет нами успешно ограблена?». Но высотки начинали редеть и вырождаться, превращаясь в откровенно второсортные домишки – вначале хрущевки, от которых на километры разило кошачьей мочой и сыростью, а потом и вовсе одноэтажки с покосившимися заборами и спившимися хозяевами. Город заканчивался, сдавал позиции окраинной вольнице.
– Бывала раньше на кладбище?
– Ну… да, давно. На «слабо» взяли, типа не смогу ночью просидеть три часа возле могилы убийцы. Рассказали баек, что он затащит к себе, идиоты.
Я не сдержал смешок, слушая ее рассказ, досадливый такой, едкий смешок. Как же эта детская ерунда отличалась от моих кладбищенских воспоминаний… Промозглый ноябрь, скопище людей, мечтающих о тепле, как бродячие собаки, земля, разинувшая рот. Голодно и холодно, ей, как и людям. Но она ждет – терпеливо и с ощущением превосходства надо всем сущим – когда уже в пасть размером метр на два опустится комок вожделенной плоти, в деревянной скорлупе, как фисташковый орех. Фисташковый орех – моя мать, возлежала в углублении из красного бархата, будто вернулась в лоно своей матери, тоже давно покойной. Меня то и дело швыряли из стороны в сторону – вначале пытались протолкнуть сквозь десятки ног в первый ряд, считая, что по степени родства я заслужил хороший обзор мертвого тела, потом напротив, сердобольно причитая, выплевывали через толпу обратно, на задворки – мал еще, мол, пожалейте ребенка. Я же не до конца понимал смысл всего этого действа. Зачем откопали яму? Почему камни повсюду имеют фамилии? При чем здесь моя мать, в конце концов? Я полагал, что происходит странный ритуал, которых полно у взрослых. И все эти люди ждут, когда мама, наконец, встанет и скажет – пойдемте к столу, хватит мерзнуть.
Понял я, когда готовились опускать гроб, и понимание ударило меня под дых, сжало внутренности в тугой болезненный клубок. Больше никто и никогда не увидит маму. Ее накрыли крышкой, и сейчас отправят вниз. На-все-гда. Я хотел кричать, но не мог – из горла вырывалось только шипение. Беспомощность и бессилие – меня не услышат. Никто не снизойдет до того, чтобы с высоты своего роста посмотреть на взывающего о помощи мальчишку. Сам не заметил, как снова оказался в первом ряду. Мысли роились в голове, сплетались в причудливые комки, рассыпались бисером, а тело не делало ничего – не могло ничего сделать. Может, древние инстинкты пробудили во мне догадку – я хотел толкнуть в разинутый могильный зев кого-то другого – может, земля насытится, и ей не понадобится мама? Но лакированный деревянный футляр уже закрыл собой дыру. Вот почему здешние камни носят фамилии!
Глухо застучали комья земли о крышку. Кто-то так же глухо зарыдал, цокая от холода зубами. Я бежал, бежал прочь, влетая в грязные лужи, наступая на плиты, ощущая, как встречный ветер иссушает глаза. Мгновение – и мир перевернулся, ударил меня по спине огромной лапой, оглушил. Прямо надо мной навис изъеденный трещинами каменный крест. Я лежал, раскинув руки, и девочка с фотографии не мигая смотрела на меня. Вероника Швецова, моя ровесница, 1960-1966.
***
– Кто это?
Вместо букв «Ш» и «ц» на табличке проступили неведомо откуда взявшиеся пятна ржавчины (может, крови? Бред, старые трупы не кровоточат), надежно скрыв фамилию от непричастных. Я помнил надпись, настолько же явственно, будто не тридцать с лишним лет назад, а только что упал на могилу моей пока еще ровесницы.
– Я не знаю.
Женька смотрела на меня, как на психа, – интересно, какое продолжение выдаст мой воспаленный мозг. Так смотрят на тех психов, которые считаются гениями со странностями, а не тех, что кричат об апокалипсисе в местной «Пятерочке». Ну, спасибо.
– Вероника Швецова, неизвестная девочка. Помогла мне понять – я тоже умру. Точнее, не она помогла, – ее памятник. Раньше на нем была фотография, а мне было лет столько же, сколько ей. Каждый свой следующий день рождения я вспоминал о ней – неизвестной Веронике, что лежит под землей, изливая трупные соки на свои белые бантики. Мне 7, 8, 15, 30 – а ей по-прежнему шесть. Навсегда шесть. Я продолжаю оставлять смерть с носом, понимаешь? Ты, получается, тоже. На девять уровней впереди.
– Не знаю, хорошо это, или плохо. – Мне нравилось, что Женька не удивляется, не пожимает презрительно плечами, как сделали бы тысячи условно нормальных граждан, а говорит в пределах моих самых безумных мыслей, будто слышит… Нет. Думает подобное каждый день. – Эта твоя Вероника уже свое отстрадала. Может, она внезапно умерла, и не поняла даже, что случилось. Детям только дай повод… А в моей жизни было на девять лет больше дерьма, чем в ее. Я уже про тебя молчу. Хотя, знаешь… – Женька пнула носком ботинка комок земли в сторону памятника, точнее, его остова, как будто сделав смерти своеобразный вызов. – Его стоило схавать, только ради наших с тобой… приключений. – Подобрала она, наконец, слово. Где-то над нами подобрала «слово» ворона, хрипло возопив, покинула ветку, и веер колких капель обрушился мне на макушку, лоб, за воротник. Женьке тоже досталось – она затрясла головой, послав птице вдогонку пару ласковых.
– Идем? – Я не нашел, что сказать. Идея поехать на кладбище для наполнения жизнерадостностью изначально казалась довольно сомнительной, но, как ни странно, сработала. Только вот мысли мои уже занимало другое. Нет, я не подошел бы к могиле матери не из опасения раскрыть Женьке фамилию – на мамином камне была высечена девичья. Просто не хотел заново становиться шестилетним мальчишкой, увидевшим смерть так близко. Спи спокойно, Вероника Швецова. Я пока поживу, мне и здесь неплохо.
А ведь Верочке тоже шесть.
Больно клюнуло в висок, так, что я чуть не потерял равновесие. Меня качнуло, и снова прибило бы к промокшей земле, не окажись рядом дерева. Старого, с замшелой корой и растопыренными во все стороны ветвями. Ему когда-то давно удалось выбраться из-под земли. Мотылек не сможет.
Мир перед глазами плыл, сливался в серую кашу. Вероника Швецова – давно уже маленький скелет. Я раньше часто представлял, как меняет человека смерть. Как сереет лицо и тело, как искажаются черты, как живот вздувается, чтобы в конце концов лопнуть переспевшим арбузом, выбрасывая зловонные газы и изливая жидкости. Как кожа повисает лохмотьями, прежде чем совсем истлеть. Остаются волосы. Зубы скалятся на все живое, будь усопший даже добрейшим в мире существом. Представлял днем от скуки, ночью, чтобы уснуть с довольной улыбкой и осознанием – я жив. Теперь же не хотел представлять. Не хотел больше всего на свете. Сцепив зубы, пару раз ударился головой о влажную кору, чувствуя налипающие на лоб древесные частицы. Не помогало. Глаза Верочки гасли, подергивались мутной пеленой… На животе растекалось пятно, восковые руки морщились, как увядший фрукт, никем не сорванный.
Нет, пожалуйста, хватит!
Я зажмурил глаза, будто поможет не видеть. Чушь – этот кошмар происходит не вовне, его транслируют под сводами моего собственного черепа. И выключить его нельзя. Во рту Верочки копошились белесые черви, обосновавшись там по-хозяйски. Лицо покрывали безобразные язвы, разрастались, как корни сорной травы…
– Эй! Что с тобой?!
Меня стошнило прямо под ноги, и чудом удалось не испачкать ботинки. Женька, ее голос, нажала в моей голове выключатель. Она смотрела на меня удивленно и встревожено, обернувшись у машины посмотреть, где я там застрял. И постепенно серая каша, в которую было превратился мир, снова распадалась на частицы.
– Что за дрянь мы ели на завтрак?..
***
И снова за окном нестройными рядами высились дома, пялились своими паучьими глазами-окнами, на красную букашку, чихающую бензином и извергающую из своей металлической утробы надсадный рев. Вспомнились такие же красные этикетки на банках с бычками в томате – моим излюбленным лакомством в студенческие годы. Высотные монстры по обе стороны дороги – это я в магазине, заметивший вожделенную консерву. Я же и содержимое банки. Женька – тоже. Передернуло от мысли, пусть и причудливой, что мне предстоит съесть нас обоих. Смотри-ка лучше на дорогу – для философии твой умишко пресноват.
Солнце проглянуло, в мгновение изменив мир. Не так уж плохо, но от чего? Минуту назад хотелось выть побитой псиной, а потом черт знает кто наверху слегка поменял в своем аквариуме освещение. И вот улыбка сама лезет на лицо. Люди – идиоты, лабораторные мыши, и я, разумеется, в их числе.
– Местечко дрянь. А еще центр, называется. – Женька закурила, оглядываясь по сторонам. Пальцы ее дрожали, срывались с колесика зажигалки. Микрозаймовая контора в паре кварталов отсюда. Поздно, слишком поздно я подумал, что налет в центре города и засветло – чистой воды самоубийство. Вроде как, самое время отказаться от дурацкого плана, но как это будет выглядеть? Моя Бонни и так напугана, хоть отчаянно пытается изображать уверенность. О деньгах из продуктового осталось лишь воспоминание. Да и вряд ли мне хватит ума придумать что-нибудь лучше. Так что пора идти. Остается только закурить напоследок.
– Та еще дыра. – Ответил я, легонько встряхнув Женьку за плечо. Двор-колодец. Теперь мне открылась истинная суть этого названия. Наверху серое небо, но до него не добраться. Кругом, куда ни глянь, – стены, стены… Мокрые, плесневелые, роняющие облицовочную плитку на головы прохожих. Сквозь них не пробиться, и увидишь ли ты в агонии крошечную арку, которая выведет из плена?..
На мокрых скамьях противно сидеть даже старушкам, хотя им в принципе ничего больше в жизни не остается. Всюду нагромождения машин, будто случился апокалипсис. Мелькнула мысль, которую я постарался как можно быстрее отогнать – а что, если нашу развалюху подопрут, заблокируют выезд? Тогда точно пиши пропало. Вероника Швецова распахнет костлявые объятия. Каково это – обнимать мертвеца?
«Тебе ли не знать».
Нет, Господи, хватит!.. Казалось, под сводами черепа какая-то дрянь насмехается надо мной, разевая в ухмылке бесформенный рот. И вот сейчас она снова покажет, как в моем Мотыльке копошатся жуки и черви – она, ведь я ничего не смогу сделать.
Когда я уже был готов сесть прямо на асфальт, закрыв голову руками, Женька дернула меня в сторону, и только потом сзади проревел клаксон.
Черный, местами забрызганный грязью ровер остановился прямо посреди дорожки, по диагонали.
– Чего встали, уроды?! – Сначала послышался голос, и из двери начал медленно вылезать его обладатель – тучный, давно облысевший мужчина, явно страдающий одышкой и завышенным самомнением.
– Козел. – Прошипела Женька, не рискуя повысить голос. Я понял – мой ход. Она ждет, что сделает ее покровитель с зажравшимся быдлом – уж явно не проглотит оскорбление, не отойдет в сторонку зализывать пробоину в собственном самолюбии. Нет, кусок дерьма в дорогом корыте, не на того напал – думает Женька. И, черт меня дери, не ошибается.
Не знаю, почему, и что на меня нашло, но я выхватил, точнее, со второй попытки достал пистолет из кармана. Вот уже ствол упирается в затылок хозяина ровера, копающегося в салоне. Вот уже выступает пот у меня на лбу. Рука едва заметно подрагивает, потому я сильнее прижимаю к лысой голове пистолет.
– Ты хоть знаешь, кто я?! – Взвизгивает мужчина, пытаясь обернуться, но я не позволяю ему, больно ткнув оружием рядом с бесформенной родинкой на затылке.
А ведь действительно. Пусть лучше под сводами моего черепа на повторе проигрывается воспоминание о том, как брызги крови и мозгов разлетаются по мне и кожаному салону, чем…
–Знаю. Ты труп.
Взвыли сигнализации припаркованных рядом машин. Каким идиотом надо быть, чтобы спустить курок во дворе-колодце средь бела дня под прицелами сотни окон. Вспорхнули откормленные голуби, впервые в жизни реально испугавшись. Я не двигался, оглушенный. Но не столько громким и странным звуком, сколько каким-то бешеным чувством, от которого удары сердца стали сильнее противного звона в ушах. Будто мне вкололи адреналин… Нет, какой-нибудь гормон счастья, от которого хотелось прыгать и смеяться, как школьнику вместе с только что подаренным щенком. У меня получилось, и это было так просто! Так просто быть сильным, почему же я раньше боялся?!
Я медленно повернул голову в сторону Женьки. Шок на ее лице сменялся улыбкой – сюрреализм, да и только. Жизнь и смерть, убийство и радость… Я кивнул в сторону неуклюже осевшего тела, краем глаза заметив в отражении свое забрызганное красными точками лицо, и снова вопросительно посмотрел на мою подельницу.
– Круто! Он реально того?!.. – Кажется, и ей вкололи адреналин.
– Бери барсетку и валим. – Если бы я сам перегнулся через труп, то мог потерять равновесие – ноги до сих пор были ватными. Женька же справилась легко. Через минуту наша красная тойота взревела изношенным двигателем.
Кадры реальности сменялись слишком медленно, как диафильмы. Нужно ехать, не привлекая внимания, но вместе с этим быстро. Искушение вдавить педаль газа в пол нужно гнать подальше, если не хотим влететь в бетонное ограждение или того хуже – заиметь на хвосте ментов. Черт, черт. Это ведь какое-то кино, или сон, верно?..
– Охренеть! – Наконец, к Женьке начал возвращаться дар речи. – Просто охренеть! Мы завалили этого придурка! Я сама хотела… Я думала, что же ты сделаешь, а ты!.. Раз – и все! Так можно! Когда кто-то борзеет, взять и прихлопнуть его, как муху. Не терпеть всякое дерьмо, а раз – и все!
– Да, можно… – На меня наваливалась усталость. Видимо, всплеск эмоций закончился, и теперь садилась батарейка. Или нет? Все менялось слишком непредсказуемо.

