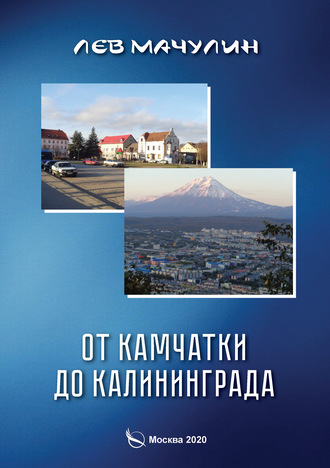
Полная версия
От Камчатки до Калининграда
Часть незанятого озером пространства котловины покрыта лесом, им же покрыты и подножия гор. Впрочем, на склонах, смотрящих на север, деревья забираются вверх сравнительно невысоко. Склоны же с южной экспозицией отличается куда большей небритостью – граница леса доходит здесь местами до 700 м над уровнем моря.
Головы у всех дружно повернуты строго налево, на ходу изучаются маршруты будущих восхождений. Периодически останавливаемся, чтобы в очередной раз свериться с описанием. Вот этот косой глубокий шрам, рассекающий гору снизу доверху, называется Лавинным кулуаром. Выглядит устрашающе, и название подходящее – сразу видно, что лавинам там действительно есть, где разбежаться. Дальше в хребте видна небольшая зазубрина, словно кто-то тюкнул по горам топориком – перевал Географов. Здесь Вудъяврчорр кончается и начинается уже Тахтарвумчорр, простирающийся до самого перевала Рамзая. Высота этих массивов не слишком велика – чуть больше километра, но впечатление они производили внушительное. Дело даже не в высоте, а в крутизне их склонов. Что интересного в пусть даже сравнительно высокой горе, если на нее можно взойти, что называется, пешком? Окрестные же ледово-скальные маршруты нам такой легкой жизни явно не обещали!
Погода великолепная, просто удивительно – еще вчера здесь была такая беспросветная муть… Что же, будем считать это яркое хибинское солнышко своеобразным салютом в честь нашего прибытия! В его лучах особенно выигрышно смотрятся огромные ледяные фигуры, образовавшиеся из фонтанировавших летом водяных скважин. Ими буквально утыкан участок долины, по которому мы продвигаемся. Мамочка моя, я тридцать лет жил на свете и не знал, что лед может быть такого интенсивного голубого цвета! Форма у этих замерзших фонтанов самая причудливая. Вот этот, словно павлиний хвост, распустился почти плоским трехметровым веером (боже, сквозь него просвечивает солнце! красотища-то какая!), а тот – вылитый роденовский «Мыслитель»! Уже только ради того, чтобы просто увидеть все это, стоило приехать сюда, а ведь наши планы куда как обширнее…
Последний отрезок пути был проделан уже непосредственно по льду озера. Место для лагеря было выбрано в чахлом лесочке на берегу, у подножия массива Тахтарвумчорр. Разгрузились, припрятали барахлишко и двинулись обратно в Ботанический сад за остальным снаряжением.
Наконец, приступили к установке лагеря. Надо сказать, процесс обустройства долговременного жилища в условиях зимнего Заполярья имеет свою специфику. Так, у нас на Полярном Урале некоторые туристы-пижоны даже ухитрялись строить себе из пиленого снега «иглу» на манер эскимосских и, говорят, неплохо там себя чувствовали. Мы до таких извращений решили не доходить и взяли с собой нашу старую добрую палатку «Зима» с полиэтиленовым тентом. При желании в «Зиму» можно запихнуть хоть десять человек, так что вчетвером нам там должно было быть вполне комфортно. Правда, дно у нашей палатки было отрезано, но это было сделано сознательно. Конечно, тепла такое «усовершенствование» ей не прибавляло; зато теперь, согласно, хотя и спорной, но неоднократно опробованной в деле, доктрине Мальцева (который в свое время и провел эту вредительскую акцию), мы получали право смело опрокидывать в ней котелки с супом, разливать на пол сгущенное молоко и вообще безнаказанно свинячить внутри палатки в свое удовольствие без риска развести там грязь и сырость.
Процесс же ее установки в общих чертах выглядит примерно так. Сначала снег на выбранном месте тщательно утаптывают лыжами до требуемой степени твердости. Процедура это совершенно необходимая, но наблюдающий ее со стороны имел бы все шансы заподозрить ее участников в недостаточной умственной полноценности: представьте себе четырех странно одетых мужиков, с мрачным видом и без видимой цели бродящих кругами по глубокому снегу! Затем утоптанная площадка густо засыпается еловым (или пихтовым – смотря где что произрастает) лапником. Важно, чтобы слой лапника был достаточно толстым – дна-то у палатки нет! После этого необходимо изыскать материал для центральной опоры. Обычно в походах ее роль выполняют особым образом связанные лыжи, их же используют и для фиксации боковых растяжек. Однако в нашем случае этот вариант использовать было невозможно. Не могли же мы здесь все время обходиться без лыж! Поэтому следовало позаботиться о поиске чего-нибудь длинного и прочного – иными словами, большого деревянного кола, в который вскорости и превратилась одна из росших неподалеку берез. Кстати, окружающий нас лесок оказался не таким уж чахлым, просто на его внешнем восприятии сказался «эффект Мюнхгаузена» – при толщине снега в добрые два метра мы могли видеть лишь верхушки деревьев.
Ну, а после установки палатки и натягивания поверх нее тента, начинается самое интересное – строительство вокруг нее ветрозащитной стенки, сначала со стороны господствующих ветров, а затем и по всему периметру. Здесь волей-неволей приходится прибегать к элементам эскимосской архитектуры, ибо снег – это единственный подручный материал, который позволяет быстро и без особенных проблем возводить подобного рода циклопические сооружения. Стенка периодически достраивалась и приобрела свой окончательный вид лишь через несколько дней, зато вышла на славу – в человеческий рост, с контрфорсами… Вещь это в высшей степени нужная: ведь помимо защиты от ветра, стенка играет также и роль теплоизоляции. Может быть, где-нибудь в гуще леса особой необходимости в строительстве такой стенки и нет. Однако попытки сэкономить силы и время на ее сооружение где-нибудь на открытых всем ветрам просторах тундры или, как в нашем случае, на берегу замерзшего горного озера, могут запросто привести к тому, что обитателям такой незащищенной палатки в один прекрасный день (а скорее всего, ночь) придется играть в Скарлетт О'Хару, которую сами знаете, что унесло. Не говоря уж о том, что в насквозь продуваемой палатке от холода все время ни у кого зуб на зуб попадать не будет.
Кстати, о борьбе с холодом, этой основной проблеме любого зимнего похода. Теоретически, при наличии у всех хороших спальных мешков, палатку можно не отапливать вовсе. Но существование в таком холодном режиме на протяжении полутора недель (а именно столько мы планировали прожить на берегу Малого Вудъявра) едва ли можно назвать комфортным. Для тех же, кого не привлекает перспектива постоянно видеть пар у своего рта, существуют специальные мини-печки, изготовленные из тонких листов титанового сплава. Печки эти в сложенном состоянии занимают очень немного места и на удивление легки, несмотря на то, что обладают почти всеми атрибутами настоящих печек-у них есть и труба (удивительная, кстати, штука – длинный тонкий лист металла, самосворачивающийся вдоль; при транспортировке его для экономии места сматывают уже поперек), и даже специальный короб-экономайзер для более полной теплоотдачи. А вот чего у этой чудо-печки нет, так это колосниковой решетки и поддувала. В силу чего она очень разборчива к качеству дров и что попало в ней гореть или просто не будет, или будет, но плохо. Кроме того, ее карманные размеры диктуют необходимость распиливания дров на совсем уж коротенькие чурочки, что резко увеличивает количество этих самых распиливаний.
В безлесных районах (если, конечно, не тащить туда дрова с собой) можно обогреваться примусами. Вообще-то это не самый хороший вариант: во-первых, элементарно небезопасно, во вторых, продукты сгорания бензина при этом поступают непосредственно внутрь палатки (трубы-то у примуса нет!), что, мягко говоря, неполезно для здоровья. Не буду вступать в полемику с теми, кто считает кощунственным кочегарить примус вхолостую с единственной целью согреться, рискуя при этом здоровьем и расходуя драгоценное топливо, но думаю, что в сильные морозы, по крайней мере, готовку на примусах стоит проводить все-таки внутри палатки…
Печку мы с собой взяли, предполагая, что с дровами здесь проблем не будет. Лес действительно как бы имел место, но ни одной приличной сушины, которую можно было бы спилить и пустить на дрова, в обозримой близости нам так нигде и не попалось. Кривая же карельская береза, не будучи высохшей на корню, гореть в нашем титановом очаге категорически отказывалась. Несмотря на все усилия, она лишь тихо тлела, почти не давая тепла, зато усиленно наполняя палатку дымом. Во всяком случае, о том, чтобы готовить на такой печке, не могло быть и речи. Тогда на свет Божий появились примуса. Их у нас было аж две штуки: общественный «Шмель» и личный мальцевский «Огонек», отличающийся маленькими размерами и отсутствием насоса. Так что без горячего мы, разумеется, не остались, но ночью было все же холодновато.
Кстати, разбирая свой рюкзак, Сергей Леонидович снова наткнулся среди вещей на знакомый ламинированный пакетик и вознамерился было немедленно утопить проклятый порошок в озере. Экологическую катастрофу предотвратило только активное вмешательство остальных членов группы…
В начале славных дел
На следующий день восхождений пока еще не намечалось. Необходимо было решить некоторые организационные вопросы (в частности, определиться с датой обратного выезда и купить в Кировске обратные билеты на поезд – полагаться на удачу в этом вопросе нам больше не хотелось), пополнить запасы продовольствия и просто отдохнуть. Помимо этого, Сергей Леонидович упорно желал соблюсти все альпинистские приличия и поставить в известность о наших планах председателя местного отделения Федерации альпинизма, уже упоминавшегося выше О. И. Шумилова.
Решено было оставить Пашу с Шурой на хозяйстве, мы же с Мальцевым сразу после завтрака надели лыжи и покатили через заструги по заметенному льду озера в направлении все того же Ботанического сада. Тут я впервые обратил внимание еще на одно хибинское чудо, которое про себя я назвал «обратный след». Суть его заключается вот в чем. Все привыкли, что лыжня всегда вдавлена, углублена в снег. Так вот, в Хибинах мне сплошь и рядом попадались выпуклые (!) участки лыжни, возвышающиеся над поверхностью окружающей снежной целины. Более того, выше в горах встречались мне и цепочки обычных следов, аккуратными бугорками выступавших наружу!
Полагаю, причиной этого любопытного явления служат постоянные ветра и повышенная влажность воздуха. По-видимому, снег после прохождения человека уплотняется здесь сильнее, чем это бывает обычно, и остается на месте даже после того, как ветер сдует весь остальной верхний рыхлый слой снега. Так обычный вдавленный след в конце концов становится «обратным», выпуклым…
Снова идем мимо знакомых уже голубых фонтанов. Зрелище феерическое. Поскольку сегодня времени у нас было предостаточно, решаем уделить фонтанам большее внимание. Скользя по ровному ледяному куполу метров десяти в диаметре, приближаемся к уже упоминавшейся фигуре, напоминающей огромный хрустальный веер или распущенный павлиний хвост. Внутри «веера» слышится тихое журчание. Присмотревшись, действительно замечаем в его нижней части пульсирующую под слоем льда струйку воды. Это, пожалуй, самая эффектная ледяная фигура во всей долине, особенно, когда сквозь нее просвечивает солнце. Подмывает на нее залезть – но без кошек это совершенно невозможно.
Трехметровая фигура а-ля «Мыслитель» Родена оказывается более покладистой и, после непродолжительного карабканья по его скользкому ледяному торсу я, наконец забираюсь на самый загривок Мыслителя. Затем, покрасовавшись там перед объективом фотокамеры, осторожно спускаюсь вниз. Если угодно, можете считать это моим первым восхождением, совершенным в Хибинах!
Перевалив через гряду и лихо скатившись вниз к Ботаническому саду, мы с Сергеем Леонидычем, не долго думая спрятали лыжи в подвале недостроенного дома, и последние полтора километра до автобусной остановки в поселке «25 километр» проделали уже пешком. Поселок этот, состоящий из нескольких улиц, застроенных одинаковыми панельными пятиэтажками (кстати, без единого балкона – так же, как и в самом Кировске, да и в Воркуте полно таких домов – думаю, тоже по причине сильных ветров), не был бы ничем примечателен, если бы не окружавшие его ландшафты. Я всегда недоумевал, почему горняками именуют людей, которые не только не поднимаются в горы, но даже совсем наоборот, норовят забраться куда-нибудь глубоко под землю. Только здесь, в Хибинах, я, наконец, убедился, что горнодобывающая промышленность действительно умеет добывать… горы! И, доложу я вам, вид взорванной горы, возвышающейся над поселком – впечатляющее зрелище.
Поездка на рейсовом автобусе с молодой симпатичной кондукторшей до центра города Кировска заняла не больше пятнадцати минут. Проезжая мимо, невольно обратил внимание на располагавшийся ниже, ближе к озеру, заброшенный железнодорожный вокзал – довольно большой, но абсолютно никчемный, ведь пассажирского движения по железной дороге в Кировске уже нет. По электрифицированной ветке, проходящей через город, возят теперь только апатито-нефелиновый концентрат и прочую продукцию местных рудников и горно-обогатительных фабрик.
Автобусное сообщение в Кировске формально сплошь пригородное, поскольку осуществляется из соседнего города Апатиты, откуда и ведется дорожный километраж (т. е. «25 километр» – это от Апатит, а от Кировска дотуда совсем рядом). В силу чего номера всех маршрутов начинаются здесь с сотни, хотя по городу они почти всегда идут со всеми остановками. Интересны и сами автобусы. Во-первых, почти все они были «забугорного» производства (очевидно, кто-то догадался не то купить, не то взять в лизинг подержанные машины из Норвегии), а во-вторых, на многих из них новые хозяева даже не удосужились снять норвежские маршрутные трафареты, в результате чего порой можно было подумать, что автобус идет прямиком в какой-нибудь Нарвик.
Первое, что мы сделали, оказавшись в Кировске-дали домой телеграммы о том, что добрались до места, причем не только за себя, но и за оставшихся в лагере. Затем от центральной площади поднялись вверх по одной из улиц (как я уже говорил, Кировск лежит на склонах гор, поэтому улицы, идущие перпендикулярно основной дороге, огибающей озеро Большой Вудъявр, обладают значительной крутизной), отыскали там предварительные железнодорожные кассы и, отстояв не очень большую очередь, взяли обратные билеты на 30 марта до станции Коноша, на поезд Мурманск – Вологда. Всем, кроме… Шуры Туманова. Причиной тому был заявление, сделанное Шурой накануне, и касающееся его несогласия с предлагаемым Пашей и Сергеем Леонидовичем графиком восхождений. Уж не знаю доподлинно, какая муха укусила тогда нашего дражайшего Александра Юрьевича – возможно, наслушавшись о подготовке «сепаратного» некрасов-ско-мальцевского штурма одного из самых сложных окрестных маршрутов (оцененного тогда в4Б, но впоследствии разжалованного), он и сам решил никуда не уезжать, не совершив чего-либо столь же выдающегося – но, так или иначе, брать себе обратный билет он нам тогда категорически запретил. Ну что ж, хозяин – барин… Однако, забегая вперед, скажу, что уже через несколько дней после этого неожиданного «демарша», альпинистские аппетиты нашего друга естественным образом вошли в разумные берега, что вызвало необходимость в спешном порядке решать проблему обратного выезда теперь уже для него самого. Хорошо еще, что ему удалось взять билет на тот же самый поезд и даже в тот же самый вагон, что и нам!
Следующим пунктом был продуктовый магазин. Затарились разными вкусностями, обеспечив себе несколько дней сытной жизни – ведь в ближайшие дни нам будет не до выездов в город. Помимо съестных припасов, было приобретена на пробу пара литровых пачек крепленого вина «Золотые купола» мурманского разлива (помните те времена – вино в пачках в любом ларьке?!), ставшего затем культовым напитком всей поездки. Там же мне случилось впервые попробовать темную «Балтику-четверку», стоившую тогда 4200 рублей за бутылку, что было вполне по-божески.
Из магазина путь наш лежал в баню, также расположенную недалеко от центра города. Баня в Кировске мне понравилась – чистая, уютная, с хорошим паром. Сергей Леонидович тоже остался доволен: все-таки возможность попариться в бане во время похода в горы – это дорогого стоит. Мне повезло побывать там еще раз, но это было уже незадолго до нашего отъезда из Хибин.
Через пару часов, чистые и довольные, мы вышли из этого достойного заведения и, сфотографировавшись на фоне памятника крестному отцу города Сергею Мироновичу Кирову, отбыли на место постоянной дислокации. Из всей программа невыполненным оставался лишь один пункт – не удалось наладить связь с главой местных альпинистов: Олег Иванович Шумилов, в силу достаточно веских личных причин, появлялся домой не ранее одиннадцати вечера.
Вернувшись к оставленным утром друзьям уже в сумерках, мы обнаружили, что и они даром времени не теряли. Прежде всего, в палатке наконец-то было тепло и сухо, а в углу весело гудела раскаленная чуть ли не докрасна печка. Откуда дровишки? Оказывается, Шуре с Пашей повезло найти где-то неподалеку часть старого телеграфного столба, который они прилежно распилили, накололи на мелкие части и перетащили к палатке. Дрова оказались отменными, креозотом почти не воняли, так что до самого отъезда мы больше не знали хлопот с обогревом.
По такому случаю ужин прошел в особенно теплой и дружественно обстановке, чему в немалой степени способствовали «Золотые купола». Дошло дело и до гитары, приобретенной мной еще на первом курсе института в магазине на Нижней Масловке (что в славном городе Москве), и с тех пор неоднократно ломаной, благодаря чему звук ее теперь оставлял желать много лучшего, но зато ее совершенно не жалко стало брать в походы. Все было очень хорошо и душевно примерно до десяти часов вечера, когда Мальцев вдруг куда-то засобирался. Оказывается, он все еще не отказался от мысли связаться с Шумиловым, для чего ему всего-то требовалось пробежать четыре километра до ближайшего телефона, который находился в гостинице возле Ботанического сада. Оно бы и ничего, если бы не ночь на дворе. В общем, мысль бежать сейчас незнамо куда, незнамо зачем, показалась мне откровенно бредовой. Да и, похоже, не мне одному, поскольку и Шура, и Паша также принялись отговаривать его от этой странной затеи. Бесполезно. Торопливо нацепив лыжи, патологически верный своему долгу Сергей Леонидович покинул нашу разомлевшую компанию и растворился во мраке. «Маньяк!» – было самое корректное из того, что прозвучало ему вслед. Впрочем, несмотря на кажущуюся нелепость этого ночного марша я не мог не отметить про себя, что наш друг Серега на наших глазах совершает Поступок. Ибо надо иметь недюжинную силу духа, чтобы вот так, невзирая на уговоры, все-таки покинуть уютную теплую палатку с ее «Золотыми куполами» и веселыми песнопениями для того, чтобы в одиночку рвануть куда-то по ночному зимнему Заполярью!
Вернулся Мальцев около полуночи с хорошей новостью: Шумилов благословил нас на спортивные подвиги. С тем и залегли спать.
Откол, или мое посвящение в «значки»
Субботнее утро 23 марта началось с того, что бодрый мальчишеский голос снаружи палатки попросил разрешения войти. Кто это там ходит в гости по утрам? Развязываем входной тубус и приглашаем визитера внутрь. Им оказался симпатичный молодой человек семнадцати лет от роду по имени Никита. Прислал его к нам не кто-нибудь, а сам Олег Иванович, которому, очевидно, не на шутку польстило наше присутствие в его, только что им же классифицированной, вотчине. Надо сказать, что «эмиссар», несмотря на свою молодость, оказался довольно опытным альпинистом, во всяком случае, этот район за пять лет занятий он, похоже, успел изучить, как свои пять пальцев. Что ж, описания описаниями, но живой человек – это всегда как-то надежнее…
Итак, настало время продемонстрировать все наши знания и умения на практике. Разумеется, принцип «от простого – к сложному» действует и в альпинизме, поэтому для начала выбираем маршруты попроще. Мне, поскольку все еще числюсь в «новичках», пока еще не положено проходить маршруты сложнее категории трудности 1Б, а маршрут такого уровня поблизости только один – подъем на так называемый «Откол» массива Тахтарвумчорр через перевал Географов. Маршрут комбинированный, то есть наряду со ледово-снежными участками есть и участки чисто скального лазания. Ну что ж, это хорошо, это как раз то, что мне нравится! Правда, погода несколько испортилась, вершины закрыты облаками, но ветер несильный и не очень холодно – то есть все вполне приемлемо. Распределяемся следующим образом. Я вместе с Пашей иду на Откол; целью Мальцева, Шуры Туманова и Никиты будет подъем на Вудъяврчорр по Лавинному кулуару (маршрут этот оценен в 2А, то есть формально соваться туда я пока еще не имею права).
Выходим все вместе, пока еще нам по пути. На лыжах поднимаемся выше границы леса (склон имеет северную экспозицию, в силу чего она проходит здесь примерно на высоте 300–400 метров, выше даже кустов нет), затем, уже почти без набора высоты уходим влево. Вообще, траверсировать фирновые склоны на лыжах без металлической окантовки – удовольствие ниже среднего. Опорная нога то и дело соскальзывает вниз, и это начинает раздражать. К счастью, длится траверс недолго. Наконец сваливаем в «цирк» у подножия скальных обрывов Вудъяврчорра. В нижней его точке лежит здоровенный камень размером с автобус, который на ближайшее время станет весьма посещаемым нами пунктом. Оставляем лыжи под камнем, надеваем кошки – и наши пути временно расходятся.
Подъем к перевалу Географов технически несложен. Опираясь на лыжные палки, мы с Пашей довольно бодро шагали вверх, хотя довольно скоро я почувствовал, что мои физические кондиции сегодня все-таки далеки от идеальных. Употребленные накануне «Золотые купола» мстительно напоминали о себе зверской жаждой. Во всяком случае, к термосу с чаем я прикладывался куда чаще, чем обычно…
Набирая высоту, уходим в облака, и видимость сразу ухудшается. Примерно на тридцатой-сороковой минуте подъема от оставленных возле камня лыж достигаем, наконец, перевала. Это узкий стометровый проход через гору, который с южной стороны массива переходит в сравнительно пологий спуск в направлении Апатит. Видны следы недавних посещений, но само это место слишком уютным не назовешь – ветер дует, как в аэродинамической трубе. Не останавливаясь на отдых, начинаем подъем по правому боковому откосу на вершинное плато Тахтарвумчорра.
Крутизна подъема по мере набора высоты не уменьшается и остается в пределах 30–35 градусов, а может, и побольше. До ледорубов дело пока не доходит, но без кошек тут никак. Паша же, как на грех, уже в третий раз останавливается, чтобы поправить слетевшую с ноги кошку. Удивительно! В отличие от меня, не мудрствуя лукаво цепляющего кошки прямо на бахилы для лыжных походов (резиновые галоши с пришитым капроновым верхом, надеваемые поверх обыкновенных валенок), Паша идет в пластиковых горных ботинках с широким рантом на носке и пятке, казалось бы, кошки на них должны сидеть идеально – и вот, поди ж ты… У меня же им, кажется, и держаться не за что – а сидят пока, как влитые (тьфу-тьфу, чтоб не сглазить!).
Наконец, подъем несколько выполаживается, и мы выходим на вершинное плато. Второй этап подъема завершен. Оставалось найти расщелину, отделяющую Откол от основного массива. Казалось бы, всё просто. Но тут мы столкнулись с удивительным явлением, которому дали название «белая мгла». В двух словах – это когда светло, но вокруг ни зги не видно! Не видно гор (они скрыты облачностью), скал (они остались внизу), снега под ногами (в условиях столь специфической освещенности, когда ни один предмет не отбрасывает тени, даже следы на снегу становятся невидимыми), неба (оно имеет такой же равномерный мутно-белесый оттенок, что и снега вокруг). О том, поднимаешься ты или спускаешься, можно судить лишь по тому, насколько затрудняется либо облегчается твой шаг. Линия горизонта растворяется, сливаясь с окружающей беспросветной белизной. Ощущение забавное, хотя и несколько жутковатое – впечатление такое, будто тебя просто подвесили в пустоте. Если бы не идущий рядом Паша, вполне можно было бы подумать, что весь мир вдруг провалился в тартарары!
И вот, в условиях почти полного отсутствия видимости, мы уже добрых полчаса бродим по Тахтарвумчорру, пытаясь отыскать цель нашего восхождения – ведь без подъема на Откол оно не может быть засчитано! Но где он, это Откол? Неужели придется возвращаться, несолоно хлебавши? Наконец, нам везет – справа Паша замечает чернеющий в некотором отдалении скальный обрыв. Подходим ближе. Ого! Внизу, скрываясь в клубящихся облаках, уходят метров на четыреста вниз два почти отвесных кулуара, которые, смыкаясь примерно в десяти метрах под нами, образуют узкую снежную перемычку. Спустившись по скалам на эту перемычку, можно перейти по ней на сторону Откола и, потом так же, по скалам, подняться на него. В общем, ничего сложного, но вот если ненароком улететь в один из этих кулуаров… Поэтому решаем организовать страховку по всем правилам, благо, подходящих камней вокруг навалом, да и в веревках недостатка нет. Первым, как более опытный, идет Паша. Спускается на перемычку, проходит по ней, забирается на Откол. Все в порядке. Сейчас между нами по прямой от силы двадцать метров, но фигура Паши едва проглядывает сквозь туман. После его возвращения тем же маршрутом прохожу и я. Лазание, действительно, оказывается несложным, но без этого участка восхождение, пожалуй, лишилось бы своей изюминки.

