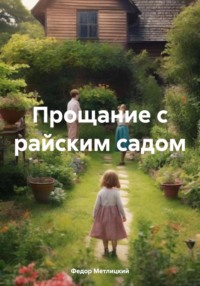полная версия
полная версияПолная версия
Родом из шестидесятых
24
На партсобрании рассматривали персональное дело: об аморальном поведении начальника отдела, моего приятеля Игорька с бегающими глазами. Есть жена, ребенок. Оказалось, у него есть любовница в Одессе, от него родила ребенка. Это его жена сообщила.
Секретарь партбюро – кадровик Злобин зачитал повестку.
– Отказывается, что был близок с ней. Нам доложили, что родне ее представлялся женихом, скрыв семью, и от жены скрывал. А сам на ответственной работе, ему скоро ехать за границу.
Он пошуршал бумагами.
– Добившись своих целей, стал вилять… Жена хочет развестись, он бьет ее. Она приходила, с подругой. Я ей верю.
Обвиняемый был потусторонне серьезен, стоял с устрашенно покорным видом, как жертвы истории, кого сжигали на костре инквизиторы, или вешали на эшафоте.
Говорливый член партбюро, похожий на доносчика, скороговоркой обвинял:
– Так мог поступить только демагог, настоящий человек, любящий женщину, не вилял бы, а захотел устроить все это по-другому…
В зале было нездоровое возбуждение.
– Он говорит, не его ребенок, но откуда он это знает? Маловероятно, что его соперник.
– Похож ребенок? Ха-ха, ему месяц всего, откуда можете узнать?
– Но ведь они были увлечены друг другом. И сроки сходятся.
– Что он, хуже своих соперников? Может, он представит медицинскую справку?
Игорек был ужасен.
– Полностью осознаю и жажду, чтобы наказали, и построже. Легкомысленный, вел себя по-мальчишески. Но жену не бил. Не бил! – хватался он, как за соломинку. – И ни в чем не виноват!
В зале корявый эксперт громко спросил:
– А вычитали последний доклад Брежнева? Там об этом круто!
– Нет, – покорно ответил обвиняемый.
– Ответьте прямо: вы были близки с ней?
– Товарищи, вспомните нашу молодость! – вскричал некто сердобольный. – Тоже не без грехов были.
В зале хохотали. Женщины мучительно ворочались. Тетка впереди:
– Все вы такие, защищаете.
Одна выбежала красная. В шестидесятые люди еще были стыдливы.
Председательствующий кадровик постучал карандашом по столу.
– Так били жену?
Обвиняемый ухватился за вопрос, как за соломинку.
– С матерью они ссорились. Мать выкидывала ее вещи. Я – нет. Две бабы собрались – что тут поделать, разнимал. А если бы ударил, она бы в милицию побежала сразу.
Женщины негодовали:
– Ишь, прячется! Наследил, и с концами!
Мужики гудели одобрительно.
Кадровик оборвал смех.
– Достаточно того, что знаем. Дальше не имеем права в интимном копаться. Я – за выговор.
Мужики бурно зааплодировали.
Кадровик примиряюще сказал:
– Нельзя так строго. Кто его знает. Врал, мальчишествовал, конечно. Но отошел, увидел, что они не те, из-за его должности льнут.
Тут я не выдержал, встал.
– В любом случае вы не вправе его судить. Судить надо всю нашу систему, все, что ежедневно порождает нашу невеселую жизнь. Посмотрите вокруг – всех нас надо судить.
Зал насторожился, замолчал.
Душа моя до сих пор раздражена, как рана. И стыд, что-то нестерпимое. На меня кричали, плевались, партбюро встало стеной. Назревало новое персональное дело.
Я пожалел, что сказал эти слова. Представил, что со мной будет, это неминуемый арест.
Кадровик озадаченно смотрел на меня.
На следующий день кадровик сказал:
– Я это дело замял. Сказал, что по молодости, по глупости. Но это тебе не забудут.
Что это? Сменилась власть? Или стала вегетарианской из-за постоянных опасений перед Западом, обвиняющим в нарушении прав человека? Может быть, замяли из-за расположения ко мне министра?
– Несмотря на твое заступничество, Игорька-то – тю-тю. Придет из отпуска – увольнять будем Дурак, сам тянет чего-то, не пишет заявления. А как же – не имеем права, исключен из партии. Дурак, ой, какой дурак! Такую околесицу понес на парткоме. Хоть бы сказал (нутряным голосом, сдвигая брови): винова-а-т, не буду больше. А то э-э, дурак!
Игорек Яковлев сидел на бюллетене месяц, предчувствуя. Потом появился, не глядя посидел в столовой, и исчез. Ему предлагали уйти, или уволят. Он прорвался к министру жаловаться, мол, должность номенклатурная, но тот: «Не хочу разговаривать с вами, молодой человек, тем более, что вы так нетактичны»,
Сейчас меня удивляет не дикий способ обнажения интимных семейных отношений, на общем сборе народа, путем голосования, а тогдашняя наивная стыдливость тогдашнего русского человека. Теперь, в наше время обнажение интима в отношениях транслируются телевидением на весь мир, а женщины обнажаются с наслаждением не только в узком кругу, но и серийно, через порножурналы по всему миру.
К вечеру вызвал шеф.
– Ты что ляпал на собрании? Теперь узнают, и тебе не поздоровится, и коллективу, и мне. Это результат твоей наглости с выпуском стенгазеты. В министерстве смеются, стоя у газеты твоей. Навыписывал афоризмов из актов экспертиз: "Имеется треск по заднему шву при приседании". Теперь к министру попадет – вот и факты ему в руки.
Я думал, что дело не в этом.
– Это даже не наших экспертов!
–Не наших? Они-то не разбирают.
Я возмутился.
– И что тут такого? Чего нам бояться критики, разве у нас плохо? Не бояться критики – признак силы. Это же процесс нашей жизни, с достоинствами и недостатками.
– Силы? А им не нужен твой показ процесса, живая жизнь наша. Им нужно обличительное против нас. Чтобы спихнуть кое-кого. Итак говорят: экспертизу надо закрыть – неграмотные там сплошь. Вон, написали в «Известиях» о золотой осени в Венгрии, о яблоках "джонатан", и нашего эксперта командированного упомянули: один ящик посмотрел, и дал добро на всю погрузку. А там 10% недобор. Закрутилось дело.
Я был смущен.
– Я этого не знал.
– Вот-вот. Кто бы, а то – свой. Написал про Михайлова, которому 8 марта подарок подарили, а этого не было!
– Это же было… И вообще мелочь, шутка.
Я начал понимать всю сложность хитросплетений системы, и суть моей работы в министерстве.
Хорошо литератору, лежа на диване в стороне, переключать свое личное в типы эпохи, а эпохи – в типы эпох. Но если ты попал в мясорубку конкретного Дела в тоталитарной системе, да еще чувствуешь ответственность за свой участок в нем, когда надо дисциплинировать, где интриги бездельников, безответственных эстетов, и надо тащить Дело, а эффективности нет, и надо набивать шишки, вслепую набирая опыт. А по вечерам мучительно оттаивать, возвращая себя в нормальное состояние, чтобы завтра пасть снова.
Вот такими эстетами мы и были, не отвечая ни за что, ибо ощущали бессмысленность дела. Да и кто-то свыше, руководивший Делом, тоже не отвечал за него, приспосабливая лишь к своему спокойствию.
Безответственны были мои сослуживцы в министерстве, мои приятели, собирающиеся в редакции "Книжного обозрения", да и вся страна. И только такие, как наш шеф, создатель системы контроля товаров по всей стране, или тянущие воз секретари райкомов, председатели колхозов – были главными работягами, а аристократами – все безответственные, вплоть до люмпенов.
25
Прохоровна, оглядываясь, шептала:
– Не усидишь ты здесь, Веничка.
Кадровик, гремя дверцами железного сейфа, сказал заботливо:
– Мы тут подумали. Шеф хочет послать тебя в длительную командировку.
– Нашли выход?
– Что ты! – засуетился кадровик. – Выбили тебе, по разнарядке Минвнешторга, длительную командировку в Штаты. Благодари меня. Жалко мне тебя.
Меня с семьей оформили в командировку в США, в закупочную комиссию в Нью-Йорке. Я уехал первым в ожидании, пока семья вскоре присоединится.
Ночное небо над Нью-Йорком было озарено красным светом, как на другой планете. Но мне было не до новой планеты. Вслед я получил письмо о новом обострении болезни дочери. Рак крови – что-то черное и неумолимое. Так вот откуда ее состояние беспокойства и беспричинного срыва настроений. Откуда взялась эта напасть? В чьих генах она таилась, Кати или моих? Как я позже узнал, жене сказали в больнице, что жить Свете сталось два месяца.
Я встретил жену в аэропорту Кеннеди полуживую. Что она пережила, лежа рядом у изголовья умирающей дочери, я страшился спросить. Только сказала:
– Волосики у нее… вылезли. Кричала: "Мама, зачем ты меня родила!"
И добавила:
– А перед смертью тихо произнесла: «Да, да…» Словно все поняла.
Я не мог слушать, Катя поняла, и замолчала тоже. И годы не сможем говорить о нашей унесенной Свете, пока нас не станет.
Бессильный помочь жене, я приободрял ее, как умел, стихами:
Твое горе железными крыльямиАж на гребень планеты заброшено.Боль над мировыми обрывамиВдруг тебя отвлекла, огорошила.Но и там – неустойчивой дымкойТы живешь, как зайчик пестрит.Пусть гудит напряжение века,Чтобы в горе снова не жить!Пусть останется трепет над безднойЖизни той великой всегда,Пусть утонет, как старые беды,На дороге людей – та беда.
26
Во мне снова возникло странное унижение, когда, после командировки, входил в здание министерства, где провел столько времени. Министра, который, якобы, симпатизировал моему вольнодумству, сместили, и я подозревал, что мое положение стало неясным.
На проходной охрана неожиданно отобрала удостоверение. Сказали, что я уволен, попал под сокращение. Я позвонил, взяла трубку Прохоровна, фальшиво обрадовалась.
Миновал огромный коридор с высоченным потолком. Ужасные крашенные зеленоватой краской, пупырышками стены коридоров, комнаты, которые знал наизусть. Где сидел и ходил, принимал своих и незнакомых деловых людей. Проходили мимо знакомые.
– Как ты?
И уходили, чужие.
Прохоровна как-то странно суетилась. Я был для нее уже отрезанный ломоть.
– Жалко мне тебя. Но что поделаешь – большое сокращение штатов.
Я ощущал то же унижение.
– Как вы, без меня?
– Стареем. Муж еще ловкий. На даче ходит не через калитку, а махает через забор. Зацепится, вот так рукой, и махнет, клок оставит, и дальше. А посуду моет – смех. Как жонглер – на полку кидает. Не бьется? Что ты, еще как. Или – вдруг сдернет со стола клеенку, а приборы – на месте. Родственники – глаза на лоб.
Она, наверно, теперь успокоилась, полюбила низенького невзрачного мужа.
– А как сын?
Она махнула рукой.
– Ничего у него не вышло. Клерком, на маленькую зарплату. Живет в собственном мире, лежит. "Что лежишь?" "Думаю. Ни о чем". Да, делала за него уроки, чертила, иначе сидел бы по ночам, недосыпал. Выхода не было. Думала, у него с мозгами не то.
– А как остальные?
– Шефа сняли "в связи с недоверием". Понадобилось место для кого-то. Лариса стала секретарем в Верховном совете. Далеко пошла, девочка!.. Лида уволилась, куда-то пропала.
Я ушел, навсегда. Была без радости любовь, разлука будет без печали.
***
Когда Света умерла, школа прислала нам соболезнование о безвременной кончине самой талантливой пианистки школы. Там повесили на стену ее большой портрет в черной рамке, впившейся восторженным взглядом во что-то удивительное. Воспоминание о ней среди школьников скоро сгинет навсегда, как о миллиардах неведомых умерших в прошлом. И живут они только в сердцах родных, пока не угасли они, или не угаснут. Но они кровью входят в прошлое и воздействуют на настоящее и будущее. Умершее темное прошлое остается в нас только в археологических находках, иконах, живописи и литературе, выхватывающих из него живые лики людей, которые становятся близкими. Без них история была бы темным хаосом, где мелькая пробегают демоны.
С женой мы никогда о ней не говорим, убрали все, что с ней связано. Каждый из нас заново переживает ее жизнь и смерть в одиночку, ибо личную трагедию нельзя разделить, как и собственную смерть. Хотя почему-то легче вспоминать об умерших наших родителях.
Нас спасла командировка в Америку. Правда, не своей демократией, а невиданной новизной жизни другой стороны планеты, другого конца света, который отодвинул воспоминание о нашем горе.
____
Пока мы с Катей бывали в ссоре, когда бы это ни было, во мне стыло одиночество. Одиночество – это отсутствие близости, хоть с одним человеком. Я знал горькую близость, но всегда хотел еще чего-то. И сам разрушал семью, считая нечто эфемерное выше семьи. Теперь понимаю, не надо было никуда бежать, желать большего, – давно нашел то главное, что в состоянии дать жизнь. Мечта об окончательном наступлении душевного исцеления – выдумка. То время было направленным побегом из полноты жизни, которое ничем не возместить.
Теперь у нас ровная семейная жизнь, иногда прерываемая легкими обидами, когда она замыкается в себе. Мы живем в обоюдной необходимости, не думая о таких юношеских вещах, как любовь. Но я все равно еще ревную, сомневаясь в ее любви. Может быть, любви без ревности не бывает. Жена сомневается во мне:
– Неправда! Тебе просто некуда деться, другим женщинам ты не нужен.
Неужели она любила меня с самого начала, и не страдала ни по кому другому? И потеряла лучшие годы жизни со мной в горечи, что не жила во взаимной любви. Но разве мое беспокойство кончилось бы, если бы понял это раньше?
Разве это не любовь: она много лет ведет дневник, где ежедневно записывает все мои недомогания, давление, температуру, количество и порядок проглатывания таблеток, все мои отправления. Сравнивает данные по годам, делая какие-то заключения. На мне она расширила свои познания в медицине. Приучила меня полагаться только на нее, и врачи ее уважают, а я делаюсь беспомощным, как все старики, опеку над которыми взяли жены. Тем более, я всегда раздражал врачей, стараясь выразить тонкие нюансы моего состояния, а они хотели подогнать под мою болезнь свои представления о болезни.
Ей доступно во мне все, кроме моих духовных переживаний, она их чувствует, но не верит моим словесам о высоком.
Ее подруги постарели, и все реже встречаются вместе. Красавица Елена уехала со своим мужем Осиком в Америку. Может быть, из-за меня. Сейчас, наверно, она колесит по ровным дорогам Америки, или зажила где-то в чистеньком коттеджике, или уже съехала. Где ты, Елена Прекрасная?
____
Зашел к Юре Ловчеву в Дом литераторов, он теперь секретарь правления Союза писателей, участвовавший в захвате его коммунистами. Он уверенным говорком:
– Я выпроводил пришедшего к нам Солженицына, когда ему предложили уехать из Союза. Теперь прославлюсь!
Показал письмо Евтушенко Демичеву, курировавшему культуру, с четкими отдельными буковками. В нем тот умолял отпустить его в Штаты, и клялся, что не будет говорить ничего антисоветского.
Юра такой же циничный в своих изречениях: "Не будите массы, пусть они спят", "Думай о массах, но не забывай о себе".
____
Как-то встретил Колю Кутькова. Он раздобрел, пьяный. Пошли с ним в ЦДЖ. Он все говорил, убедительным тоном, как ему нужны 50 рублей.
– Железный, вполне безопасный вклад – до июля. Получаю крупную сумму – гонорар. Надо заплатить за прописку, не могу от себя мясо оторвать. Вклад. Обеспечение надежное.
У меня денег не было. Набрали на пиво. В ЦДЖ увидели Костю Графова, ставшего заметным в среде писателей. Он пил за столиком с героем Советского Союза. Сделал вид, что не заметил нас.
Коля спился. Да и как бы он встретил новый мир? Наверно, не принял бы, как бабка в повести Распутина, помывшая комнату перед затоплением села.
____
Встретился с Батей на Волхонке, он в дешевом побелевшем плаще. Подвизается в заводской газете, альфонс по-прежнему.
Батя опять не мог ужиться «ни с одной». Приятели считали, что в нем лишком много «говна» отталкивает сожительниц. Он не считает себя несчастливым неудачником, но у меня сжимается сердце. Жалко тех, кто так и не достиг желанного берега.
Он рассказывал, как ему попало от очередной жены за пропитые двадцать рублей.
– Я сказал, что у тебя был. Ничего? Давай зайдем к нам, и ты мимоходом скажи: «А хорошо мы с твоим выпили на его двадцать!»
Я кивнул.
Он разводится.
– Мы договорились, что при первой возможности я мотаю.
– Почему разводишься?
– Знаешь.. Трудно сказать… Не хочет она расти. Я говорю – учись, а она нет.
– А конкретнее?
– Да и холодная она. Не желает, и баста. Любовницу заводить? Это не решение вопроса.
– Значит, из-за того, что не дает?
– Во-во… Да брось ты, расти она не хочет, вот причина.
Он прочитал одну из моих повестей, случайно изданных в электронном издательстве. И понес свое:
– Ты все такой же, с мрачным взглядом.
– Ты никогда не переживал трагедии в жизни! – возмутился я. – У вас у всех нет боли!
И вдруг понял: я сам такой, неисправимо оптимистичный, не могу пробить броню даже в моей трагедии.
____
В своих статьях Гена Чемоданов, мой приятель молодости, не оставлял камня на камне эпоху тоталитаризма, из-под обломков которой мстительно не видел здравую жизнь той эпохи. Шестидесятые были романтическим временем, оттепелью, и обманкой – началом пути вниз. Романтические настроения родились после сороковых – великой победы и освобождения народного духа, и в пятидесятых – освобождения заключенных из лагерей и тюрем, космических проектов, расселения в крупнопанельные пятиэтажки. Правда, уже к концу пятидесятых не верили в «одобренный» сверху путь к успеху, и советская «фабрика грез», лишенная тревог и утверждающая стабильность примитивности, начинала работать вхолостую. Искренность была больше в личном пространстве (например, в любви), а не в социуме.
В эпоху Хрущева и Брежнева, писал он, мы получили прогрессирующую серость и уравниловку, что привело к застою семидесятых и безразличию восьмидесятых. Романтизм шестидесятых выветрился, стало страшно – не стало спасительной цели.
На круглом столе его поддержал писатель Солоухин, потирающий всей пятерней широкое красное лицо: народ семьдесят лет был под гипнозом. Академик Лихачев возражал своим робким голосом: народ никогда не был под гипнозом.
И я считал, что нельзя зачеркнуть шестидесятые годы прошлого века из-за того, что тогда жили в ритуале. Это была маска, под которой скрывалась борьба добра и зла. Под ней, вспоминал я лица моих сослуживцев и приятелей, были живые порядочные и не очень люди, приспособившиеся под обряд, и делали тяжелое дело жизни.
***
По телевизору слушали беседу представителя МИДа о международном положении. Наверно, с таким же устойчивым мышлением, как у того, кто когда-то выступал в министерстве.
У нас превосходство в пехоте, танках. Отсюда – осторожность у НАТО по отношению к Варшавскому договору. Никсон будет менять акценты в своих выступлениях, на чувство реализма. Договариваемся по процедурному вопросу до начала переговоров о запрещении стратегических вооружений. Но есть тенденция к экономической общности двух систем, и в близком будущем возможно слияние. Соцлагерю нужна "либерализация". Там, где мы объективны к тем и другим, там ослабление наших бывших непримиримых позиций, и возможно усиление новых.
Нет, это уже другой лектор, наверно, один из идеологов, окружающих Горбачева.
Бомбежка Вьетнама окончена, будут долгие переговоры. Интересы США – в арабских странах, потому упал авторитет восточного направления. Ближний восток становится взрывоопасным пунктом (удивительно, и в новом веке ничего не изменится!).
Новое правительство социал-демократов Брандта подписало договор о нераспространении ядерного оружия, обращается к соцстранам: хотят заключать договоры по отдельности. ГДР согласна объединиться с учетом равноправных отношений, но Брандт отвел. Я спрашивал Андрея Андреевича, как идут дела. Сдвигов мало: те предлагают договор о невмешательстве и неприменении силы, а мы вначале – признать границы по мюнхенскому соглашению. Как быть с ГДР?
В Китае мы ведем переговоры, по их мнению, о спорных границах. В 52 году по картам не было претензий, но сейчас Мао заявил: отойдите и уступите вроде бы "ничейную" территорию. Их доводы – боятся нашего атомного оружия. Наша с ними граница 7,5 тыс. км. Всюду укрепить невозможно, провокации делать легко. Складывается военно-бюрократическая система. Армия руководит всем. Авторитет компартии упал. Угля и нефти мало, совсем нет газа. Крестьянину остается на полгода 25 кг. риса, немного. У них опора на националистические предрассудки, играют на чувствах студенческой молодежи. Но нам нужно терпение исходя из долговременных интересов.
В голосе лектора ощущалось что-то неподдельно тревожное, человечное. Я воображал отроги будущего, еще не устоявшегося, за которыми, может быть, будут те же самые угрозы.
27
Дальнейшие события, в начале девяностых, слишком свежи в памяти, и описаны в бесчисленных книгах и статьях. Я с недоверием видел их через новое телевидение, революционные и консервативные издания.
Основная масса людей, как обычно в революциях, вначале не замечала падения империи, потому что выживала, думая о своих детях и стариках. Главное, чтобы все было мирным путем – это было желание уставшего, выбитого войнами народа.
Однако рассеивался туман, выплеснулось все, что раньше таилось под тяжелой плитой запретов, на разлагавшемся трупе заплясал карнавал. Началось раздевание, до кальсон, сакральных личностей и их действий, культов, накрепко внедренных идеологией. Люди уже хотели увидеть их реальными, а не теми, кого раньше уносили на крыльях своей веры.
Под сакральными ликами оказались обычные мятые люди, со своими переживаниями, скверными характерами, со своими скелетами в шкафах, тщеславиями и харассментами, и жестокие, и смешные. Оказалось, что главное в них – трудный и осторожный путь наверх.
В азартных общественных спорах вырвались на свободу те личности, которых в молодости превозносил Гена Чемоданов. Схлестнулись противоположные убеждения и мнения вырвавшихся на волю личностей, порой самые безумные.
На заседаниях Верховного совета впервые начались "политические шоу" депутатов, ощутивших тревожную для себя неизвестность свободы. Особенно сильно было давление той самой «опущенной» большевиками среды, убежденной в оправданности грубого попирания жизни. Они призывали к защите социалистической родины, как на плакатах к 23 февраля – дню защитника Отечества: «Сила, мужество, честь». Я бы выпустил плакат: "Совесть. Честь. Защита личности". Гена Чемоданов писал: когда появится человек сложной культуры, тогда сила, мужество и честь будут звучать иначе. Бердяев утверждал: «Свобода не демократична, а аристократична».
Отвергнутая населением партия, переставшая задирать инакомыслящих, панически пыталась воззвать к региональным ячейкам с требованием продолжать борьбу, перехватить средства массовой информации. И требования с мест в пустоту центра – очнуться, дать бой, противник захватил власть, но оказался слаб, и надо воспользоваться. И в тоже время призывали либералов к согласию. В этом была выгода, ведь в их руках все еще была какая-то сила, и сыграть можно было на согласии.
____
Новая пресса призывала к подавлению наследников власти «кухарок», уничтожившей партию маргинальной интеллигенции, которую когда-то возвысили Чернышевский и Ленин.
В общественной жизни особенно выделилась звезда Гены Чемоданова. Среди расплодившихся как грибы, независимых газет и журналов созданное им издательство "Свободное слово" и журнал "Новая родина" быстро пошли в гору, открывая подряд всю запрещенную литературу, иностранную и русского Зарубежья, в том числе диссидентскую. Охранители с ужасом воспринимали открывшиеся потоки запрещенных книг из-за границы.
В новом нарождавшемся телевидении выделялся голос моего друга Валерки Тамарина, который залихватски задирал охранителей старого.
Их сподвижник Толя Квитко, ставший известным критиком, кого теперь звали "железным хромцом", предостерегал новую власть: аппарат уже не тот, что в командное время, может начать реформы для себя, взяв в свои руки госсобственность. Создается жесткая корпорация аппарата, система бюрократизированного рынка. Рынок должностей и привилегий. Нет у нас субъекта вне аппарата. История предоставляет возможность аппарату продлить свою власть, и возможна фашизация социализма.
Новые гуманисты считали, что Запад и Восток – не две вечные противостоящие стороны состояния человечества, а дело в вере и неверии, и если преодолеть барьер неверия в человека, то две стороны станут едиными. Вера в человека – это самое трудное для людей.
В спорах о пути развития страны они утверждали, по философу Фукуяме, что государство не должно исповедовать идеологию, которая может заставить его достигать грандиозных глобальных целей, деидеологическая страна стремится освободиться от всеобъемлющих целей в пользу ограниченных, необходимых. Ибо нет объективного «национального интереса», его не определить. Реальные национальные интересы существуют, но минимальны и не решающие при определении внешней политики. Государство имеет определенный набор постоянных интересов, определяемых географическим положением и внешним окружением. Но в современном мире это узко и не определяет больше части внешнеполитических приоритетов. Национальные интересы не являются решающими для национальной безопасности, так как произошли социальные изменения и технологический прогресс понизил значимость географии и ресурсов.