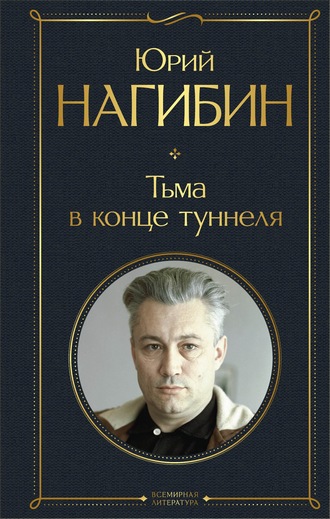
Полная версия
Тьма в конце туннеля
В дневник было вложено письмо без конверта. Освобожденные предательством хозяина квартиры от излишней деликатности, мы с мамой вместе прочли эпистолу, подписанную уже близким нам именем Иришки Дерен. Хорошо монтировалось письмо с золотыми грезами сентиментального обер-лейтенанта. Оно представляло из себя яростную брань по поводу каких-то наручных часов, которые Иришка дала отчиму заложить в ломбарде – в трудную для него или для них обоих минуту – и которые он забыл выкупить, а может, перезаложил в другую трудную минуту, короче говоря, не вернул ни в должный, ни в пролонгированный срок. Разгневанная дама грозила покарать отчима собственной дланью, десницей брата, после чего востребовать «украденную вещь» – именно так характеризовала она действия возлюбленного – через советский суд. Ненужное слово «советский» было привлечено для пущего запугивания человека, уже дважды пострадавшего от советского правосудия. Об аресте его в тридцать шестом году я говорил, а до этого он отсидел три года за своего брата, обвиненного в халатном отношении к государственному имуществу. Тот заведовал книжной лавкой, которую под его рассеянным присмотром действительно разворовали. Брат только что женился, у него болела нога – позже это приведет к ампутации, – и отчим принял его вину на себя. Сидел он легко, написал в тюрьме свою первую серьезную повесть, пользовался отпускными днями, но все же сидел. Не знаю, многие ли способны на такую жертву. – Этим и должно было кончиться, – сказала мать без тени торжества. – Он помешан на ломбарде. С тех пор как он появился в нашем доме, у нас заложено все, что принимают в заклад. Он заложил бы и нас с тобой, и самого себя, будь это возможно. Красивый финал романа. Интересно, успел ли он перед отъездом выкупить эти часы? А то они пропадут. Этот вопрос мне ужасно хотелось задать седой сгорбленной старухе, навестившей нас на даче лет через тридцать после набега домушников на квартиру отчима. Я тщетно пытался найти в ней отсвет той светозарности, солнечности, которыми наделял ее отчим в злополучном дневнике. Она отдыхала в соседнем санатории и услышала, что мы живем поблизости. Старенькая Иришка обедала у нас, пила чай, добродушно болтая с мамой о всякой житейской чепухе. Отчим был не сказать смущен, но как-то не нашел тона. Может, часы все-таки пропали, но при его беспечности в отношении к чужой собственности это не могло его особенно волновать. Я не хочу сказать, что он был нечист на руку, боже упаси, но не отдать вовремя или вовсе замотать долг, не вернуть книгу, аванс, какую-нибудь хозяйственную вещь было вполне в его духе. Он без спроса брал мои вещи, использовал их, иногда терял или портил, но не испытывал от этого ни малейшего дискомфорта. Он успел до своего побега загнать мою библиотеку, мол, книги – это первое, что пропадает во время войны. Я собрал – не без его активного участия – почти все изданное «Академией», включая, разумеется, моих любимых «Мушкетеров», и много других хороших книг. Как ни странно, мать, сочетавшая своеволие с щепетильностью, в таких делах шла на поводу у отчима. Быть может, присущий ей широкомасштабный эпатаж, не находя применения в суровой советской действительности, обернулся небрежением чужими вещами. Материальная бесцеремонность в сочетании с душевным изяществом и деликатностью делали для меня отчима – при всей нашей близости – фигурой загадочной. Я так и не разобрался в человеке, сквозь утонченную интеллигентность которого нет-нет да и прорывался босяк.
– Ох, дорогой ты наш человек! Святая душа! – послышался умиленный, плачущий голос Пети Богачева из прихожей.
Мы ринулись туда. Связной революции, подхлебывая носом, обнимал трясущимися руками бутылку «столичной» водки.
– Он еще и алкоголик? – сказала мать.
– А ты этого раньше не знала? – удивился я.
– Я не о Пете, – раздраженно сказала мать. – О нашем отшельнике.
– Бутылка непочатая.
– Отдай! Разобьешь! – Катя попыталась завладеть бутылкой.
– Цыть! – гаркнул Петя, и мы поняли, каким он был в дни революции: глаза сверкали из-под насупленных бровей, желваки играли на резко обозначившихся скулах, цыплячья грудь по-соколиному взбугрилась – сейчас Петя Маленький ринется в свой последний решительный бой.
И Катя оробела.
– Ты чего взъерепенился? Просто помочь хотела.
– Нечего мне помогать. Я тяжельше носил, не ронял. Неужто бутылку не удержу?
– У него, когда волнуется, руки дрожат, – пояснила нам Катя.
– Болтай, да знай меру! Когда это у Пети Маленького дрогнула рука?
Катя не ответила. Ее блекло-голубые глаза напряглись, нежданно ловким, кошачьим прыжком она скакнула в угол и вытащила из-за помойного ведра темную бутылку с этикеткой «Мадера», в которой что-то плескалось. Не раздумывая, она всосалась в горлышко.
– Осторожнее, – сказала мама, – не отравитесь.
– Ты тут не одна, – жестко напомнил связной, успевший опустить «столичную» в карман своей тужурки.
– Не поймешь, – сказала Катя, отрываясь от бутылки. – То ли вино, то ли пиво, то ли моча.
– Что ты несешь? Зачем ему в бутылку мочиться? Петя Маленький забрал у нее бутылку, обтер горлышко рукавом и сделал хороший глоток.
– Нормалек, – сказал он, но в голосе не было уверенности. Он рыгнул, пожевал губами, что-то соображая, и твердо заключил: – Градус, во всяком случае, есть.
– Дай-ка на глоточек, – попросила Катя.
Он отдал жене бутылку и с каким-то сомнамбулическим видом шагнул к стенному шкафчику над крошечной, в одну конфорку газовой плиткой, распахнул дверцы и достал липкую бутылку с остатками вкусного ликера «Какао-шуа».
– Господи! – сказала мама и прошла в комнату.
Я последовал за ней.
Мама закурила, села на тахту, но сразу пересела в кресло у письменного стола. На нем красовался «ундервуд» без футляра, от каретки тянулась веревка, спускавшаяся за край стола. Я потянул за нее и почувствовал тяжесть. Оказалось, на веревке висели подкова и половинка кирпича.
– Зачем это? – удивился я.
– Для тяги, – пояснила мама. – Я помню, он говорил в прошлом году, что лопнула пружина.
Вошли торжествующие Петя и Катя, они обнаружили в аптечке полпузырька медицинского спирта.
– Мне что-то надоело, – сказала мама. – Отбирай книги, и пойдем.
Катя шутливо попросила разрешения «пошукать по сусекам», а я стал нагружать чемодан разрозненными томами брокгаузовского словаря и другими приглянувшимися книгами: помню, там было что-то Розанова, «Замогильные записки» Печерина и несколько книг о Французской революции и Наполеоне – эта эпоха особенно интересовала отчима. Он был прав – война не щадит библиотеки.
Общим советом решили забрать весьма скромную кухонную утварь, две фарфоровые чашки с блюдцами, две тарелки, вилки, ножи, штопор, банку с какао, черную настольную лампу, пишущую машинку, освободив ее от кирпича и подковы. Катя обнаружила какой-то подозрительный ситцевый халатик, который мама разрешила ей взять. Пете Маленькому достались шлепанцы, брючный ремень и пиджак с кожаными латками на локтях. Петя нашел на окне за шторой какой-то странный каменный сосуд – не то старинная бутыль, не то ваза. Он стал встряхивать его, прикладывать к уху в надежде услышать заветный бульк. Но тут мама вспомнила, что это урна с прахом мачехи отчима, умершей пятнадцать лет назад. У отчима все как-то не доходили руки, чтобы предать земле дорогой прах. Разочарование связного несколько компенсировали бычки в томате, извлеченные Катей из залавка. При такой закуси незачем было откладывать дело в долгий ящик, и мы прикончили «столичную» на месте. Затем при всеобщем согласии Петя выпил медицинский спирт, разбавив его в стаканчике для бритья, а мы разлили по чашкам «Какао-шуа».
Петя Маленький все время плакал – то были слезы благодарности судьбе, сделавшей ему такой праздник. Но радость боролась в нем с раскаянием. Он представлял себе состояние беглеца, вернувшегося на родное пепелище и не нашедшего там ни «столичной», ни остатков «Какао-шуа», ни пузырька с медицинским спиртом, ни бутылки с загадочной крепленой жидкостью. «Война все спишет», – приговаривал он, самоутешаясь сквозь слезы.
Маме все это надоело. Мы быстро покончили со сборами и покинули гостеприимный кров. Я тащил чемодан с книгами, Катя – сумку с хозяйственными мелочами, Петя Маленький нес в одной руке пишущую машинку, футляр от которой мы обнаружили под кроватью, в другой – авоську с пустыми бутылками. Мама шла налегке.
На улице, еще дневной, хотя голубизна неба казалась усталой, я словно с высоты увидел наше шествие: хорошие, правильные, малость подвыпившие русские люди идут по осажденному городу, ничуть не озабоченные ни его, ни собственной судьбой. Никакой суеты, никакой тревоги, ибо во всеобщем подсознании нашего народа таится глубокая уверенность, что Россия все перемелет, все переварит и в конечном счете обернет на свой лад. Ей безразлично, кто над ней мудрует, напасти не страшны, в русском брюхе и долото сгниет. Жизнь – это выбор, но Россия не живет, а пропускает жизнь мимо себя, пассивно подчиняясь ее выкрутасам. Петя Маленький был связным революции, вывел в люди все Политбюро. Сейчас он стар, но, если понадобится, станет связным у новой власти и выведет в люди кучу гауляйтеров, не испытывая душевного дискомфорта. Власть, которой он присягал, не защитила его, бросила на произвол судьбы, ну и ляд с ней! И ведь он был когда-то членом партии, а потом выпал из нее, как лишний гриб из кузовка. Он не выходил из рядов, боже упаси, и не был исключен, для этого надо его заметить, а он слишком ничтожен, мал, почти невидимка, – выпал, и все. Такое случалось и с более заметными людьми: Маяковский вступил, нет, ворвался, в партию в 1908 году, а после революции вдруг оказался беспартийным и вместо партбилета предъявлял «все сто томов своих партийных книжек». Петя даже этого не мог сделать. Сейчас он так же легко выпадет из числа советских граждан. Тут не было и тени цинизма, только смирение и безразличие. А вообще он изумительный переплетчик – руки трясутся, в глазах пьяный туман, а книгу обряжает, как невесту к венцу.
Я чувствовал величие Пети Маленького и мучился страхом, что не сумею быть на его высоте. Мы оба рабы, но он раб, плюющий на своих хозяев, я же раб преданный. Петя хочет переплетать, пить водку и петь про «бедное сэрце». А для этого ему вовсе не обязательно, чтобы вокруг пламенел алый цвет его республик, что требовалось – даже в любви – другому выпавшему из партийного кузовка. Я сумел избежать комсомола, что было неправдоподобно по тем временам, я ненавидел строй, уничтоживший моего отца, сломавший хребет отчиму, отказавший мне в праве умереть за него, но с алым цветом у меня обстояло не так просто. Я не мог принять Гитлера. Не мог, и все тут! Так меня воспитали. Ничего не могли втемяшить в мою башку, кроме лютой ненависти к свастике. А мне тогда казалось, что красный и коричневый цвета не сливаются, более того, что красный враг коричневому. Понадобился опыт целой жизни, чтобы убедиться в своей ошибке…
9
Вот я пишу о том времени, думаю о себе молодом, и мне многое остается непонятным. Если б я писал другую книгу, то, наверное, сумел бы придать цельность и убедительность картине своей тогдашней душевной жизни. Но я пишу эту книгу и не хочу быть умным сегодняшним умом. К тому же я не убежден, что понимаю себя тогдашнего. Почему в мои переживания, размышления, тревоги тех дней не вклинилась мысль о Маре, о любимых друзьях Павлике и Оське? Павлик воевал, Оська был призван. Мне кажется, с Марой я тогда мысленно простился, не верилось, что можно выжить в дни войны в лагере, к тому же попавшем в зону боевых действий. Но с Павликом и Оськой не прекращалась связь надежды. А ведь мой выбор раз и навсегда отрывал меня от них. Мы еще не знали о дыме бухенвальдских печей, растопивших свои топки, но хорошо знали, что евреям под знаком свастики не жить. Почему же я не думал об этом, почему вообще не старался представить себе будущее, когда Гитлер все ближе подползал к Москве? Я нахожу лишь единственный ответ, в который верю: моя тайная душа знала, что Гитлеру не видать Москвы. Иначе почему я так легко, без малейших гарантий принял предложение мамы остаться? Я даже не спросил: на что она рассчитывает? На свое дворянство и антисоветизм, за которые ей простится маленькое заблуждение в моем лице? Или надежду ей давала смешанная кровь Дальбергов, включавшая и немецкую, да ведь в таком решении нельзя руководствоваться надеждой, не могла же мать так легко поставить на карту мою жизнь? Остается третье и последнее: я не Марин сын. Я не думал об этом так четко, как пишу сейчас, но смутные образы подобных мыслей проплывали на дальнем плане сознания, л их не задерживал, не пытался вглядеться в реющие тени, а от последней – и самой вероятной – брезгливо шарахался.
Почему я не задал матери прямого и естественного вопроса? Не знаю. Не задал, и все. Быть может, мне отбил охоту касаться известных тем тот давний разговор, когда я получил по морде. И вообще я принадлежу к тем людям, которые не спрашивают. Такие бывают. Гарринча никогда не знал, против какой команды играет. Его это не интересовало, важно было играть. Да и зачем спрашивать? Правду люди говорят сами, а отвечая на вопросы, врут – больше или меньше. Не надо спрашивать, надо играть…
Некоторое время я жил беспечной русской жизнью в духе Пети Маленького, чему очень помогали ликеры Бачевского из реквизированного Клубом писателей погребка Алексея Толстого, бежавшего в Среднюю Азию. Клуб в это время захватили какие-то проходимцы, которые завели там бойкую торговлю прекрасными заграничными винами и ликерами, а также зеленой водкой «Тархун» – все из запасов советского графа. Москва жила нешумной уголовной жизнью: обчищали и захватывали оставленные квартиры, разворовывали склады, спекулировали и очень много пили.
В Москве было немало народа, который ждал немцев – не в смысле горячего желания их увидеть, а от усталости, безнадеги и веры, что с их приходом кончится проклятая, страшная война, уже принесшая неисчислимые потери и обнаружившая нашу неподготовленность, бездарность главного командования и жалкую растерянность того, кому верили, как богу. Обыватели хотели, чтобы скорее наступил конец, втихаря ругали Гитлера… и т. д.
Втихаря ругали Гитлера, расплескавшего весь наступательный пыл у стен Москвы, втихаря злились на трех полковников – Рокоссовского, Лизюкова, Доватора, продолжавших безнадежные бои с превосходящими силами противника, который это превосходство никак не мог реализовать. И чем дольше длилась эта непонятная нуда, тем хуже становились лица в свинцовом налете лжи и грязи – горячей воды не было, тем сильнее косили глаза, а уста несли несусветную чушь, призванную объяснить и оправдать причину неотьезда.
И тут появилась Хайкина. Откуда она взялась, не помню.
Во время войны то и дело возникали какие-то люди и, просуществовав для непонятной надобности малое время, исчезали навсегда. Пришел черед Хайкиной. Она была инструктором ЦК ВЛКСМ и входила в группу, которая должна была последней покинуть Москву. Маленькая, невзрачная, Хайкина носила полувоенное: китель, сатиновая юбка, сапоги, на тощей заднице болтался не то маузер, не то мой старый друг «монте-кристо», убивающий в десяти шагах человека. Голова ее была всегда опущена, а в редком выблеске серых глаз светилась мрачная решимость. Хайкина не ждала Гитлера, и Гитлер едва ли ждал встречи с Хайкиной в Москве.
Она предложила мне работать для отдела агитации и пропаганды, у них завал работы, а людей не хватает. Я сразу согласился. Так же легко и бездумно, как согласился на предложение матери остаться в Москве. А ведь одно согласие начисто исключало другое. Об этом мне напомнила теща, узнав, для кого я буду работать: «Геббельс сказал, что намыливает веревку для сталинских писак». И белозубо рассмеялась, представив ожидающую меня участь. Она меня ненавидела, считая, что я разбил жизнь ее дочери. Я принял это к сведению. Ну что ж, уйду последним, вместе с Хайкиной.
Конечно, мы все жили тогда, как в бреду. Мама не возражала против моей работы в комсомольском штабе, а ведь судьба Москвы еще не была решена. Ну, уйду я с Хайкиной в леса, а что будет с матерью кандидата на виселицу? Или она уйдет вместе с нами? Но она об этом не говорила. Она раскладывала пасьянс, курила и потягивала ликер Бачевского.
Нас заморочили войной только на чужой территории, крепостью брони и быстротой наших танков, точностью прицела наших артиллеристов и беззаветной отвагой сталинских соколов, а главное, полководческим гением Сталина, и чудовищная реальность войны, разгром, окружения, неисчислимые потери и враг под стенами Москвы – все это не укладывалось в сознание, в душу, мы были полностью деморализованы и не отвечали ни за себя самих, ни за близких людей.
Я больше месяца таскался в пустынное здание ЦК комсомола, написал для них кучу всякой дряни, но о чем была эта писанина, убей бог, не помню. Мысленно перебираю всевозможные темы, но не слышу в себе ответного толчка узнавания. И для кого я писал, не помню. Для фронта или для тыла, или для жителей оккупированных территорий, чтобы их подбодрить, а может, для юных фронтовиков, обращаясь к горячему комсомольскому сердцу. Твердо убежден, что это было никому не нужно. Мне думается, мои материалы просматривались Хайкиной и ее начальством, визировались и выбрасывались. Но наверняка попадали в отчет о проделанной работе, с которым знакомились другие бездельники, скрепляли своей подписью и передавали выше. Склонен думать, что мой скорбный труд значился в отчетах, так же идущих с этажа на этаж в здании наискосок от комсомольской цитадели – в сером доме на Старой площади. До Верховного Главнокомандующего эти отчеты все же не доходили, успокаиваясь недалеко от вершины пирамиды в сейфе отдела пропаганды под кодом либо «хранить вечно», либо «совершенно секретно».
Денег мне не платили и даже указали на бестактность подписи под материалами. Надо было довольствоваться сознанием, что ты включен в большое конспиративное дело. Я понимаю, зачем это было нужно Хайкиной, ее начальнику, начальнику ее начальника и все выше и выше и выше, они получали за это оклад, паек, некомплектное обмундирование, личное оружие и боеприпас, но зачем это было нужно мне, так и осталось тайной.
Московская победа все расставила по своим местам. Если б не Хайкина, я бы считал, что холодное, мрачное, пустынное здание на Маросейке, мои походы туда с таинственной писаниной мне просто приснились в похмельном сне, но Хайкина объявилась через много-много лет в виде старой, седой, довольно благообразной, все время плачущей еврейской бабушки, чтобы попрощаться в связи с ее отъездом на историческую родину в США. Антисемитизм доконал-таки эту комсомольскую Жанну д'Арк. Мне кажется, она отыскала меня, чтобы в моем лице проститься со своим героическим прошлым. Она должна была уйти последней из горящей Москвы с пистолетом на тощей ягодице, она уходила в общем потоке, безоружная, с обуглившимся сердцем…
Один наш знакомый порекомендовал меня отделу контрпропаганды ГлавПУРа. В это время формировались новые фронты со всеми полагающимися службами, газетами и т. п. Люди, владеющие немецким, шли нарасхват в седьмых отделах и газетах для войск противника. У меня даже не спросили документов, оформили с быстротой, невероятной для советских учреждений, особенно военных, где принято медленно поспешать – кутузовская страгетия, выдали обмундирование – офицерское, сапоги – кирзовые, бойцовские, дерматиновую сумку, из того же материала кобуру – без наполнения, и шапку-ушанку из поддельного ярко-рыжего демаскирующего меха, навесили кубари и вручили предписание со зловещим словом «убыть» на Волховский фронт, в расположение ПУ, что я незамедлительно выполнил.
И тут еврейская тема надолго закрылась для меня. Сталин ненавидел евреев, но, поскольку он разыгрывал в борьбе с Гитлером и еврейскую карту, приходилось маскировать свою жидофобию. Сталин всегда старался решать две задачи одновременно: блокадным Ленинградом он сдерживал значительные силы немцев и заодно изводил голодом ненавистный с революционных дней город. Страх перед Ленинградом питался памятью о Кронштадтском мятеже, зиновьевской самостоятельности, объявленной оппозицией, и – поразительная наивность в таком ушлом человеке – революционностью ленинградского пролетариата. Рафинированную интеллигенцию бывшей российской столицы он тоже не выносил.
Любопытно, что высокий замысел Сталина разгадали крысы, дружно покинувшие незадолго перед началом блокады Бадаевские склады. Крысы прошли Невским, остановив все уличное движение, и скрылись в портовых складских помещениях и трюмах кораблей, а ночью запылали ни с того ни с сего гигантские Бадаевские склады, оставив Ленинград без продовольствия.
Конечно, Сталину хотелось бы под шумок войны разделаться с евреями, но он не мог стать дублером Гитлера. Адольф так далеко зашел на этом пути, что при всем старании Сталин обречен был оставаться его слабой тенью. Это унизительно. А главное, невыгодно политически. До поры Гитлер, отнюдь того не желая, спасал русских евреев.
Я читал в каких-то зарубежных изданиях, что подспудный антисемитизм начинался во время войны в армии. Но, очевидно, это касалось высших этажей командного состава, ни на передовой, ни во втором эшелоне я ничего подобного не наблюдал. В угоду союзникам и в пику Гитлеру в победных сталинских приказах – когда начались победы – неизменно звучали две-три еврейские фамилии, чаще других Драгунского и Крейзера. Думаю, что и лихой кавалерийский генерал, бывший бухгалтер Комитета кинематографии Осликовский был тоже грамотен по-еврейски. Хотя, как уверял один из персонажей Бабеля, еврей, севший на лошадь, уже не еврей.
Иосифу Виссарионовичу пришлось потерпеть еще несколько лет после окончания войны, хотя нервы были на пределе. Шесть миллионов уничтоженных евреев произвели впечатление даже на ледяное сердце мира, слово «геноцид» означало преступление против человечества, люди плакали над дневником девочки Анны Франк и подвигом учителя Корчака. Но подспудная работа уже велась, и руководящие кадры ориентировались должным образом…
10
В мою задачу не входит рассмотрение вопроса о положении евреев в Советском Союзе, мне это не по плечу, я пишу о себе, о судьбе и мировосприятии человека, прошедшего, по выражению остряка Губермана, «нелегкий путь из евреев в греки».
Поэтому о могучем антисемитском взрыве, произошедшем у нас в последние годы жизни Сталина, я скажу кратко, он меня не коснулся. То был взрыв замедленного, если так позволено сказать, действия. Не единая, все уничтожающая вспышка, как в Хиросиме, а некий постепенно нарастающий, с временными затуханиями, огневой вал.
Самые сильные взвей: борьба с космополитизмом, дело Пролетарского района, дело «врачей-отравителей».
На Западе существует мнение, что Сталин видел в евреях «пятую» колонну. Он мог им полностью доверять во время войны с Гитлером, для евреев, в отличие от русских, не существовало плена, но не мог испытывать того же доверия, когда главным врагом стала насквозь проевреенная Америка. А на этот грунт накладывалось личное отношение. Воистину зоологическая ненависть не мешала ему держать в личном приближении омерзительного еврея Кагановича. Он был ему нужен? Наверное, но Сталин легко жертвовал и более нужными и куда более ценными людьми. Каганович удостоверял в глазах мира его лояльность к евреям. Да, Сталин умел, когда требовалось, наступать на горло собственной песне. А евреям он не доверял в той же мере, что и всем остальным народам советской державы, включая русских, не больше. Он не мог серьезно относиться к еврейской «пятой» колонне, ибо хорошо знал, что все заговоры и злоумышления против советской власти, равно вредительство и шпионаж, рождаются в его собственном воображении на предмет профилактической чистки и утверждения себя единственного. Несмотря на трогательные усилия высоколобых Европы оправдывать любое злодейство страны социализма и ее лидера, антисемитизм вплетал плевелы и тернии в венок из белых роз, которым увенчала Сталина победа над Гитлером. Паранойя Сталина сказывалась в чрезмерной, ненужной жестокости, кровавом перехлесте всех его деяний, извращенной подлости в отношении близких людей, но изначальный замысел был неизменно точен, логичен с позиции его цели – ни следа, безумия. Он просчитался с Гитлером не потому, что свято верил ему или был по уши влюблен – это годится для сатиры, гротеска (Гитлер, конечно, импонировал ему, как и он Гитлеру), а потому, что случай нарушил точный расчет. Все было сделано безукоризненно: он запудрил мозги Адольфу договором о дружбе, дележом Польши, всемерной помощью сражающемуся рейху, одновременно заказал нашей промышленности танки на резиновом ходу – для гладких европейских дорог и самолеты-штурмовики без заднего прикрытия – все только на атаку, на мгновенный сокрушительный удар. Раздавить Гитлера и пройти, как нагретый нож сквозь масло, уже распотрошенную его временным другом и союзником Европу – вот в чем состоял сталинский план. Ему не хватило какого-то темпа, Гитлер опередил его себе на погибель. А ведь неизвестно, как бы повела себя наступательная машина Сталина, если бы оборонительная развалилась, словно трухлявый забор. Гитлер узнал о быстроходных танках и рискованных штурмовиках, понял все коварство Сталина и нанес превентивный удар. Историю сделали не главные действующие лица мировой трагедии, а шустрая немецкая разведка. Гитлер был слишком импульсивен – художественная натура, – он же видел в Финляндии, как воюет Сталин.













