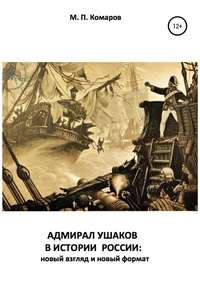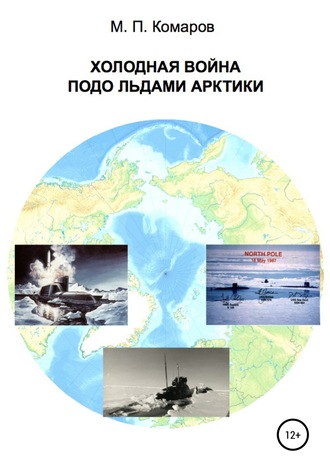
Полная версия
Холодная война подо льдами Арктики
По известным наблюдениям ледового покрова, в шестидесятые годы наблюдалось похолодание, и в Баренцевом море кромка однолетних льдов опускалась далеко к югу. Старые многолетние льды поступали в Баренцево море из арктического бассейна через пролив между архипелагами Шпицберген и Земля Франца-Иосифа и распространялись Восточно-Шпицбергенским и Медвежинским течениями на юго-запад моря. Именно здесь и проходило разведывательное плавание.
Во второй половине 17 апреля корабль погрузился под лёд и через сутки всплыл, для передачи радиограммы, после чего снова ушёл под лёд. К концу суток 18 апреля, выйдя из-под кромки ледяных полей, полтора часа следовал по чистой воде, а затем опять ушёл под ледяной покров, достигнув северной точки запланированного маршрута с координатами: 77 градусов 02 минуты северной широты и 37 градусов 45 минут восточной долготы, между Шпицбергеном и Землёй Франца-Иосифа (немного южнее). В пути подводники обнаружили в многолетнем тяжёлом льду толщиной 2–3 метра восемь полыней. В одной из них размером 500 на100 метров 22 апреля К-21 всплыла. В тот же день она вышла из-подо льда и к исходу 23 апреля вернулась в базу. Лодка за 8 суток (174 часа) прошла 1719 миль, проверив и освоив тактику подлёдного плавания атомной подводной лодки, в том числе, приёмы ориентирования в подлёдном пространстве, методику поиска полыней и всплытия в них. Немного ниже мы предлагаем читателю сравнить программу похода К-21 и реальный поход К-3 к полюсу. Нам кажется, что это была действительно «модель» летнего похода к полюсу, но с одним важным отличием. Разведывательный поход проходил в широтах, где надёжно работал обычный навигационный комплекс кораблей.
Вот как пишет об этом главком ВМФ адмирал флота Советского Союза С.Г. Горшков в своей книге «Во флотском строю»: «В ходе плаваний шло активное освоение Северного морского пути, подлёдных плаваний подводных лодок и переходов под паковыми льдами из Баренцева моря на Дальний Восток и обратно. Так, в 1962 году атомоход, которым командовал тогда капитан 2 ранга В.Н. Чернавин, имел самую большую среди атомных подводных лодок практику подледных плаваний. На этом корабле отрабатывали методику маневрирования под паковыми льдами, всплытие в полынье и практику предстоящего похода к Северному полюсу. На борту этой лодки выходили контр-адмирал А.И. Петелин (на фото второй слева— Прим. авт.), флагманский штурман флота капитан 1 ранга Д.Э. Эрдман (он был тогда кап. 2 ранга, на фото третий слева; первый слева замполит А. Волошин – Прим. авт.), флагманский инженер-механик М.М. Будаев. Экипаж надеялся, что честь покорения полюса окажут ему, и моряки готовились к этому основательно, но только как дублеры подобно космическим экипажам.
А честь арктического плавания к полюсу выпала подводной лодке «Ленинский Комсомол» (именной она стала только после похода – Примеч. авт.). Сама судьба определила этот корабль первопроходцем. Подводная лодка «Ленинский Комсомол» – первая советская атомная лодка на флоте. Её экипаж был одним из первых, кто прокладывал новые пути в подлёдном плавании.
Естественно, что готовили мы и лодку-дублёр на случай непредвиденных обстоятельств. Это был атомоход, значительно моложе «Ленинского Комсомола». Командовал кораблём, как я уже сказал, капитан 2 ранга В.Н. Чернавин, ныне адмирал флота, главнокомандующий ВМФ». Отсюда следует, что К-21 выполнила свою миссию без всяких происшествий. Летом 1962 г. она просто-напросто находилась в резерве, в готовности заменить К-3. В этом смысле нельзя не отметить предусмотрительность С.Г. Горшкова и командования флотилии, – они попросту не могли допустить срыва задуманного похода к полюсу. Владимир Николаевич Чернавин же никогда не сетовал на случившееся и, практически, до 90-х годов не напоминал об этой ситуации. Его личная судьба в дальнейшем оказалась и счастливой, и сложной. На Северном полюсе он побывает на ракетном подводном крейсере стратегического назначения в 1972 г.

А тем временем, после ремонта, подтверждения первых двух задач курса боевой подготовки, 4 июля АПЛ К-3 вышла на контрольный выход перед длительным походом, из которого её вернули досрочно 10 июля. Как всегда в подобных походах, выявляются неисправности материальной части, требующие некоторого времени для устранения, а перед длительным походом экипажу предоставляется краткосрочный отдых. Были выявлены они и в этом походе, но далее события развивались стремительно «по законам советского жанра» тех времён.
В базе лодку уже ожидали высокие начальники во главе с главнокомандующим ВМФ адмиралом С.Г. Горшковым. Командования корабля, соединения, флотилии и флота собрали на плавбазе. Совещание открыл главком, сказав такие слова: «Я сам командовал кораблём и прекрасно знаю, что ни один командир не доложит об истинном положении вещей. Если ему ставят задачу, он будет выполнять её любыми правдами и неправдами. Поэтому ты Жильцов молчи! О готовности лодки послушаем твоих офицеров» [Осипенко Л., Жильцов Л., Мормуль Н., 24, с.137]. Великий психолог! Разве он не знал по своему опыту командования кораблём, что все командиры боевых частей и служб уже проинструктированы своим командиром и решено «не допустить даже тени сомнения по поводу готовности к походу» (аргументацию Л.М. Жильцова столь неоднозначного (авантюрного) поведения можно прочитать в цитируемой книге). Естественно, все доложили о готовности техники и личного состава, в надежде устранить выявленные неисправности в оставшееся время перед выходом или уже в море. При этом командование корабля и командир электромеханической боевой части знали, что главная энергетическая установка находится в режиме расхолаживания для того, чтобы в реакторном отсеке провести неотложные ремонтные работы при достаточно высоком уровне радиации. Однако времени им всем не оставили. Экипаж получил приказ выйти в море в 22:00 того же дня! Руководителем похода пошёл командующий 1-й флотилией подводных лодок контр-адмирал А.И. Петелин.
Только в 21:00, после удачного окончания ремонтных работ, представилось возможным начать ввод в действие главной энергетической установки, на который требовалось затратить несколько часов. Для того, чтобы «не гневить» начальство, командир, очевидно, не без ведома руководителя похода, решил отойти от пирса в назначенное время, не дожидаясь вывода реакторов на требуемый уровень мощности, под вспомогательными дизелями, а ввод установки завершить уже на переходе к точке погружения. К его счастью, «хитрый» манёвр и в этот раз удался. Перед погружением оба реактора были выведены примерно на 60 % номинальной мощности. На борту, кроме экипажа, находилось 20 специалистов от научных организаций и промышленности, прежде всего, по части обслуживания главной энергетической установки и навигационного комплекса. Естественно, штатному экипажу пришлось «потесниться», предоставив каюты и другие штатные места отдыха и приёма пищи «специалистам». Увеличилась нагрузка и на службу снабжения корабля.
Погрузившись, направились в Норвежское море. 12 июля к концу суток была обнаружена неисправность циркуляционного насоса охлаждения главного конденсатора. Замену трех подшипников насоса производили в подводном положении. Ремонт продолжался около 14 часов. Далее маршрут к полюсу пролегал через Гренландское море по нулевому меридиану. 13 июля в 11 часов 30 минут АПЛ всплыла в Гренландском море для встречи с тральщиком с целью уточнения данных о ледовой обстановке и уточнения своего места. Однако из-за плохой погоды встреча состоялась только в 18:00. На следующие сутки в 10:45 на широте 79 градусов лодка в подводном положении вошла под кромку льда и двинулась по жёлобу Лены в Центральную Арктику, имея справа архипелаг Шпицберген, а слева Гренландию.

По воспоминаниям командира [Осипенко Л., Жильцов Л., Мормуль Н., 24], на поход были поставлены следующие задачи: испытания навигационных комплексов; проверка возможности «<…> крейсировать в районе Северного полюса, лишая подводные лодки-ракетоносцы «противника» возможности нанесения внезапного ядерного удара по жизненно важным центрам СССР»; проверка работоспособности механизмов в условиях низких температур; исследования рельефа дна, течений, ледового покрова по маршруту; демонстрация миру возможностей советских атомных подводных лодок (позже оказалось, что именно эта задача была главной).


По маршруту перехода лодка трижды всплывала в полыньях. Впервые она сделала это в точке с координатами 84 градуса 08 минут северной широты, 0 градусов 48 минут и 5 секунд восточной долготы для донесения о достижении этой критической точки. Далее начиналась неизведанная зона неустойчивой работы, прежде всего, навигационных приборов. Уточнив своё место по светилам и получив разрешение командования, отправились далее. 17 июля в 6 часов 59 минут 11 секунд по московскому времени впервые советская подводная лодка в подводном положении по счислению (то есть по расчётам штурмана) пересекла географическую точку Северного полюса. Попытки найти полынью на полюсе не удались, поэтому легли на обратный курс и всплыли только на следующие сутки в точке с координатами 84 градуса 54 минуты северной широты, 0 градусов и 1,5 минут западной долготы (командир в своих воспоминаниях пишет: «…примерно в 100 милях от полюса»). На льду был установлен Государственный флаг СССР. За два часа, в течение которых лодка находилась в надводном положении, весь экипаж смог побывать на льду.
По программе похода следующее всплытие состоялось 19 июля к северо- востоку от Гренландии в точке с координатами 79 градусов 40 минут северной широты, 0 градусов 41 минута западной долготы. Навигационная невязка составила 34 мили. Здесь предстояло провести испытания боевых торпед для проламывания льда на случай экстренного всплытия. Однако последовал приказ не выполнять стрельбу торпедами, а экстренно следовать в Йоканьгу (Гремиху), где подводников должны были торжественно встретить руководители страны во главе с Н.С. Хрущевым.

20 июля в 13:40 К-3 вышла из-подо льдов, пройдя в подлёдном положении 1 294 мили за 147 часов (именно так, а не 178 часов, как тиражируется во многих источниках). Постоянно проводившиеся на борту К-3 исследования рельефа дна, течений, ледовитости позволили заполнить немало белых пятен на карте Арктики, в том числе и обнаружить подводный хребет, наличие которого ранее только предполагалось. Позднее он был назван хребтом Гаккеля (экипаж АПЛ ВМС США Sargo (SSN-583) сделал это раньше и, конечно же, не поделился своим открытием с советскими подводниками).
После возвращения в базу руководителю похода, командующему 1-й флотилией подводных лодок Северного флота контр-адмиралу А.И. Петелину, командиру корабля кап. 2 ранга Л.М. Жильцову и командиру БЧ-5 (электромеханической боевой части) инженер-кап. 2 ранга Р.А. Тимофееву были присвоены звания Героя Советского Союза. Весь личный состав корабля и ряд специалистов промышленности были награждён орденами и медалями: орденом Ленина – 11 человек (кроме Героев); орденом Красного Знамени – 19 человек; орденом Красной Звезды – 28 человек; медалью За отвагу – 63 человека. Двум боевым сменам экипажа награды вручал сам Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущёв в спортивном зале 14-й бригады подводных лодок в Йоканьге. Одна смена в это время обеспечивала функционирование подводной лодки в базе. Личному составу этой смены позже вручил награды секретарь Мурманского обкома КПСС. Думаем, что представленная здесь фотография об этом событии ярко передаёт чувства всех, кто творил ту историю.
С этого момента советские подводники, можно сказать, «по-настоящему почувствовали запах и вкус Арктики». Все последующие годы они будут наращивать свои усилия в освоении Северного Ледовитого океана. Подводная лодка К-3 вскоре получила имя «Ленинский Комсомол» и стала символом для страны. Нынче её холодный и пустой корпус уже много лет стоит на судоремонтном заводе в Снежногорске Мурманской области (спасибо руководителям, что сохраняют!), а высокие начальники и многочисленные общественные организации не могут принять решение о дальнейшей судьбе этого национального символа.
Позже один из участников похода В.А. Монтелли писал: «Устойчивую работу при плавании постоянными курсами, скоростью и глубиной погружения показали гирокомпасы, но до широты 88,5°N. При маневрировании подо льдом их погрешности обычно превышали 9–10°, причём знак погрешности был, как правило, одинаков у всех. Подтвердилась оптимальность выбранной системы координат, как в части универсальности её применения в традиционных для того времени средствах, так и с точки зрения удобства работы штурмана. Несмотря на отсутствие инерциальной системы и высокоширотных гирокомпасов, поход АПЛ К-3 на Северный полюс удался с первой попытки. Принятая же в те далёкие годы система квазигеографических координат успешно прошла испытания временем и продолжает использоваться и поныне без каких-либо изменений, в том числе и на АПЛ с инерциальными навигационными комплексами» [Монтелли В. А., 22].
Достигнутый величайший успех и проявленный величайший авантюризм похода К-3 к Северному полюсу особенно ярко проявился не только «звездопадом», но и тяжёлыми последствиями для техники в самое ближайшее время. Уже через месяц, в сентябре на лодке в море была обнаружена разгерметизация тепловыделяющих элементов в реакторе. Радиоактивность в нескольких отсеках достигла запредельных значений. Дали радио и в аварийном порядке вернулись в базу. Отсюда «за ноздрю» лодку в очередной раз «заперли» на завод в Северодвинске. Там она находилась в ремонте с заменой всего реакторного отсека до конца 1965 г. Труднейшая технологическая операция – замена реакторного отсека выполнялась впервые. Отработанное топливо было выгружено, а в отсек залит специальный состав, после чего через некоторое время он был затоплен в заливе Абросимова в Карском море. Вот какой оказалась реальная цена покорения Северного полюса при отсутствии достаточных технических возможностей, при безмерной эксплуатации человеческих возможностей личного состава, при чрезмерном стремлении руководителей отчитаться об успехах и победах. Вслед за К-3 аналогичные технологические операции удаления реакторных отсеков пришлось выполнить ещё на нескольких подводных лодках первого поколения. Думается, что многим хочется, пусть и в двухтысячные годы, спросить «лауреатов всяких премий» и «великих руководителей процессов создания океанского флота» – зачем надо было так поступать? Неужели можно было считать действительно не надёжные корабли, «глухие» в океане и «слепые» подо льдом, реальной угрозой «супостату»? Неужели личные амбиции и карьеризм застилали общественную пользу, военную и экономическую целесообразность? Как же можно было ответственным представителям ВМФ (со временем каждого из них надо будет назвать поимённо) принимать в боевой состав не надёжные атомные подводные лодки? Как же можно было бессовестно сдавать флоту такие корабли и за это получать премии и звёзды героев? И, тем не менее, ура!

При всей публичности успехов похода к Северному полюсу Северный флот продолжал, с соблюдением всех возможных мер секретности, выполнять важнейшую стратегическую задачу – использовать подлёдное пространство для укрытия своих ракетных подводных лодок. В современной терминологии – повышать боевую устойчивость ракетных подводных лодок путём назначения им районов боевого патрулирования подо льдами. С этой целью в середине 1962 г. ещё один поход под лёд выполнила АПЛ с баллистическими ракетами пр.658 К-33 под командованием капитана 3 ранга А.С. Пушкина из состава 31-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок СФ. Теперь она поднялась уже до 85 градуса северной широты, пробыв подо льдом 8 суток [Реданский В. Г., 29]. Такого в советском флоте ещё не было, но их не наградили.
В том же году осуществлено первое в истории ВМФ СССР групповое подледное плавание дизель-электрических ракетных подводных лодок 629 проекта из состава 18-й дивизии 12-й эскадры подводных лодок Северного флота. С 12 по 16 июня его выполнили К-113 (командир – капитан 2 ранга В.Г. Скороходов) и К-93 (командир – капитан 2 ранга В.П. Околелов). Подводные лодки находились подо льдом 30 часов и прошли 120 миль.

В то самое время, когда состоялся «звёздный» поход К-3 на полюс, «случайное» подлёдное плавание, а на самом деле, используя сложную ледовую обстановку для обеспечения скрытности плавания, совершила атомная подводная лодка К-16 пр.658 под командованием командира 185-го экипажа Н.Б. Чистякова из состава 31-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок СФ. Этот атомный ракетоносец в июле участвовал во флотском учении «Метеор-2». При возвращении из Северной Атлантики в районе Датского пролива и южной части Гренландского моря лодка на протяжении 680 миль следовала подо льдом (таким был год, о сложной ледовой обстановке в северо-восточной Атлантике в шестидесятые годы мы уже писали выше). При всплытии для передачи на командный пункт донесения о своём месте и ледовой обстановке К-16 передней частью ограждения рубки ударилась о лёд и повредила при этом антенну акустической станции. Затем она ещё несколько раз всплывала в разреженном льду. Как указано в [Реданский В. Г., 29]: «Полученные наблюдения и сделанные выводы послужили предметом обсуждения с командирами других подводных лодок соединения».
В августе второй подлёдный поход в течение года выполнила АПЛ К-21 под командованием капитана 2 ранга В.Н. Чернавина. Старшим на борту лодки в этом походе был начальник штаба 3-й дивизии капитана 1 ранга Н.Ф. Рензаев. Атомоходу предстояло выполнить задачу, стоявшую перед К-3 на заключительном этапе её похода к Северному полюсу, но отмененную по известным нам обстоятельствам – выполнить торпедные стрельбы для создания полыньи. Необходимо было определить, сможет ли подводная лодка в аварийном случае образовать с помощью взрыва торпед полынью для всплытия. Разумеется, такая полынья могла потребоваться и для стрельбы ракетами с подводных ракетоносцев, когда естественной полыньи нет, а время не ждёт. Как пишет В.Г. Реданский: «8 августа лодка пришла в назначенный для испытаний район. Учитывая толщину льда, достигавшую 2–3 м, от одиночной стрельбы отказались. Решили выполнить два двух торпедных залпа. Затем необходимо было произвести обмеры образовавшихся «пробоин» и оценить возможность всплытия в них подводной лодки.
Взрыватели на торпедах установили с расчетом взрывов через 90–95 секунд, за это время они проходили 1250–1300 м. В результате стрельбы образовались две полыньи: одна диаметром 80 м – в торосистом льду, другая размером 120 на 70 м – в более ровном ледяном поле. Осматривать их отправилась группа подводников во главе с командиром К-21 кап. 2 ранга В.Н. Чернавиным. «Четверо смелых» несколько часов блуждали по безмолвной ледяной пустыне, обходя трещины и торосы, пока не нашли то, что искали. Замерили «пробоины» во льду, тщательно их осмотрели. В образовавшихся полыньях плавали огромные глыбы серо-жёлтого льда, резко отличавшиеся от первозданной белизны окружающих ледяных полей. Забрав выброшенные взрывом детали торпед, подводники двинулись в обратный путь и… заблудились. Прошло немало времени, пока незадачливые полярные путешественники услышали наконец тревожные звуки тифона и сирены и увидели рассыпавшиеся в полярном небе звёздочки сигнальных ракет.
Анализ полученных данных показал, что применение торпед для создания искусственных полыней возможно, но требуется увеличить заряд и с помощью эхоледомера находить более благоприятные для этой цели, менее торосистые участки ледяных полей» [Реданский В. Г., 29].
В конце октябре 1962 года во время Карибского кризиса, когда все силы флотов находились в повышенной боевой готовности, ещё один заход под лёд совершила средняя подводная лодка С-348 кап. 2 ранга А.М. Евдокименко из состава 25-й бригады 12-й эскадры подводных лодок СФ (губа Ягельная). В течение лета на ней были установлены новый эхоледомер и станция обнаружения полыней впереди по курсу. В целом поход прошёл успешно, если не считать того, что во время всплытия даже в тонком льду (7 см) была сломана рамочная антенна радиопеленгатора и повреждено ограждение рубки.
С 1962 года возникла и третья задача, о которой мы упоминали выше, – освоение новых районов базирования подводных лодок со сложными ледовыми условиями. Дело в том, что по требованию Министерства рыбного хозяйства СССР о передаче рыбакам территории в бухте Находка пришлось найти новое место базирования 171-й бригады 40й дивизии подводных лодок Тихоокеанского флота. Со своей стороны рыбаки обязались выделить хорошие деньги на оборудование нового места базирования для выведенных из Находки подводных лодок. Главком ВМФ решил в качестве нового основного пункта базирования бригады подводных лодок и бригады кораблей охраны водного района избрать бухту Нагаева. Количество лодок планировалось довести до 12 единиц, первоначально 613 проекта и кораблей охраны водного района – до 7 единиц. Эти соединения должны были взять под контроль всю обширную акваторию Охотского моря и Курильские проливы, обеспечивающие скрытный выход лодок через них во все районы северной части Тихого океана. О тяжёлой погодной и ледовой обстановке в Охотском море высшее командование знало. Однако её влияние на использование сил предполагалось значительно нейтрализовать, с одной стороны, созданием специальной ледокольной группы, а с другой – отработкой выхода лодок к Курильским проливам подо льдом, что, в свою очередь, ещё больше улучшит их скрытность и внезапность действий. Так началась длительная эпопея освоения «магаданскими подводниками» подлёдного плавания и плавания во льдах.
В марте 1963 года С-286 (командир – капитан 3 ранга В.В. Брыскин) совершила длительный выход в море с целью подлёдного плавания. ПЛ осуществила всплытие во льдах в Татарском проливе.
Первоначально активность действий магаданской бригады подводных лодок нарастала. Лодки плавали и в битом льду, и в сплошном, если толщина его не превышала 20 см. В таких условиях было опасно всплывать. Командир ПЛ С-173 капитан 2 ранга Христов Рудольф Васильевич спроектировал, рассчитал и сделал чертежи противоледовой защиты, представляющей систему стальных балок, защищающую ограждение мостика, антенны и выдвижные устройства при всплытии во льду. Эти устройства на плавмастерской изготовили для всех лодок бригады, и плавание значительно упростилось.
Подводные лодки совершили подлёдное плавание из бухты Нагаева в Охотское море на расстояние более 100 миль. Освоили пополнение запасов топлива, масла и пресной воды в море: заходили во Второй Курильский пролив, там у южного берега острова Шумшу три швартовые бочки, и у каждой – буй. Об этом устройстве и его работе мы уже писали.
Так началась длительная и тяжёлая служба подводников на Магадане. В целом, ничего дельного из этого не получилось. Служба в зимнее время здесь превращалась в непрерывную борьбу за выживание личного состава и сохранение боеспособности техники, а не создание сложностей вероятному противнику.
1963 год. Американские АПЛ прерывают походы подо льды, а советская К-181 впервые всплывает на Северном полюсе и ещё две АПЛ впервые подо льдом совершают стратегический манёвр с Севера на Восток
Американская АПЛ Skate (SSN-578) под командованием коммандера C. F. Rauch, Jr. и дизельные подводные лодки Becuna (SS-319) под командованием коммандера Robert Anderson и Tench (SS-417), командир не установлен, в начале года работали в проливе Кабота. По имеющимся сведениям, это был последний случай отработки применения дизельных подводных лодок подо льдом.
В 1963–1964 годах американские ледоколы провели исследования (официально – «океанографические») в Северном Ледовитом океане близ берегов СССР. После чего Советский Союз в июле 1964 года заявил США протест на том основании, что проливы Дмитрия Лаптева и Санникова, соединяющие моря Лаптевых и Восточно-Сибирское, являются историческими водами Советского Союза и не могут использоваться без его разрешения. США ответили, что не видят оснований для таких претензий, «даже если согласиться, что доктрина исторических вод <…> может применяться к международным проливам» [Теребов О.В., 32].
Мы не знаем, что ещё планировалось в США на этот год. Однако точно известно, что 10 апреля в Атлантическом океане погибла головная АПЛ нового класса Thresher (SSN-593) и, очевидно, поэтому были приостановлены все походы в Арктику.
В 1963 году в течение пяти зимних недель в Арктике действовали английские дизель-электрические подводные лодки HMS Тrempres и HMS Porpoise. Они прошли в общей сложности 5500 миль, удаляясь при плавании подо льдом от кромки на 30–50 миль.