
Полная версия
Похождения бравого солдата Швейка
Швейк рассказал бы еще что-нибудь, не менее интересное и поучительное, если бы разговор не был прерван приходом поручика Лукаша.
Бросив на Швейка страшный, уничтожающий взгляд, он подписал бумаги и, отпустив солдата, кивнул головой Швейку, чтобы тот шел за ним в комнату.
Глаза поручика метали молнии. Сев на стул и глядя на Швейка, он размышлял о том, когда начать избиение.
«Сначала дам ему раза два по морде, – думал поручик, – потом расквашу нос и оборву уши, а дальше видно будет».
На него открыто и простосердечно глядели добрые, невинные глаза Швейка, который отважился нарушить предгрозовую тишину словами:
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что вы лишились кошки. Она сожрала сапожный крем и позволила себе после этого сдохнуть. Я ее бросил в подвал, но не в наш, а в соседний. Такую хорошую ангорскую кошечку вам уже не найти!
«Что мне с ним делать? – мелькнуло в голове поручика. – Боже, какой у него глупый вид!» А добрые, невинные глаза Швейка продолжали сиять мягкой теплотой, говорившей о полном душевном равновесии: «Все, мол, в порядке, и ничего не случилось, а если что-нибудь случилось, то и это в порядке вещей, потому что должно же иногда что-нибудь случаться».
Поручик Лукаш вскочил, но не ударил Швейка, как раньше задумал. Он замахал кулаком перед самым его носом и закричал:
– Швейк! Вы украли собаку!
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, что за последнее время мне об этом ничего не известно. Позволю себе заметить, господин обер-лейтенант, что после обеда вы изволили с Максом пойти погулять, и я никак не мог его украсть. Мне сразу показалось, что дело неладно, когда вы вернулись без собаки. Это, как говорится, ситуация. На Спаленой улице живет мастер, который делает кожаные сумки, по фамилии Кунеш. Стоит только ему выйти с собакой на прогулку, он тут же ее теряет. Чаще всего он оставлял собаку в пивной, или же у него ее крали, а то даже одалживали и не возвращали.
– Молчать, скотина, черт бы вас подрал! Вы или отъявленный негодяй, или же верблюд, болван! Ходячий анекдот! Со мною шутки бросьте! Откуда вы привели собаку? Где вы ее нашли? Знаете ли вы, что она принадлежит нашему командиру полка? Он ее только что отнял у меня на улице. Это позор на весь мир! Говорите правду – украли или нет?

– Никак нет, господин обер-лейтенант, я ее не крал.
– А знали, что пес краденый?
– Так точно, господин обер-лейтенант. Знал, что пес краденый.
– Иисус Мария! Швейк! Himmelherrgott![147] Я вас застрелю! Скотина! Тварь! Осел! Дерьмо! Неужели вы такой идиот?
– Так точно, господин обер-лейтенант, такой.
– Зачем вы привели мне краденую собаку? Зачем вы эту бестию в дом взяли?
– Чтобы доставить вам удовольствие, господин обер-лейтенант.
И швейковские глаза добродушно и приветливо взглянули в лицо поручику. Поручик опустился в кресло и застонал:
– За что Бог наказал меня такой скотиной?!
В тихом отчаянии сидел поручик в кресле и чувствовал, что у него нет сил не только ударить Швейка, но даже свернуть себе сигарету. Сам не зная зачем, он послал Швейка за газетами «Богемией» и «Тагеблаттом» и велел ему прочесть объявления полковника о пропаже собаки.
Швейк вернулся с газетой, раскрытой на странице объявлений. Он весь сиял и радостно доложил:
– Есть, господин обер-лейтенант! Господин полковник так шикарно описывает этого украденного пинчера, прямо одно удовольствие читать, и еще сулит награду в сто крон тому, кто его приведет. Очень приличное вознаграждение. Обыкновенно в таких случаях дается пятьдесят крон. Некий Божетех из Коширш только этим и кормился. Украдет собаку, бывало, а потом ищет в газетных объявлениях, какая собака затерялась, и тут же идет по адресу. Однажды он украл замечательного черного шпица и из-за того, что хозяин нигде ничего не объявлял, попробовал сам дать объявления в газеты. Истратил на объявления целых пять крон. Наконец хозяин нашелся и сказал, что это действительно его собака, она у него пропала, но он считал безнадежным искать ее, так как уже не верит в честность людей, однако теперь, мол, воочию убедился, что есть еще на свете честные люди, и это его искренне радует. Он принципиально против того, чтобы вознаграждать за честность, но он дарит ему на память свою книжку об уходе за комнатными и садовыми цветами. Бедняга Божетех взял черного шпица за задние лапы и треснул им того господина по голове и с той поры зарекся помещать в газеты объявления. Уж лучше продать собаку на псарню, раз сам хозяин не дает объявления в газеты…
– Идите-ка спать, Швейк, – приказал поручик. – Вы способны нести околесицу хоть до утра.
Сам поручик тоже отправился спать, и в эту ночь ему приснилось, что Швейк украл у наследника престола коня и привел ему, Лукашу, а наследник престола на смотру узнал своего коня, когда он, несчастный поручик Лукаш, гарцевал на нем перед своей ротой.
На рассвете поручик чувствовал себя как после разгульной ночи, словно его вчера колотили по голове. Ночью его преследовали кошмары. Обессиленный страшными снами, к утру он опять уснул, но его разбудил стук в дверь, и появилась добродушная физиономия Швейка, спрашивавшего, в котором часу господин поручик прикажет себя разбудить.
Поручик тихо застонал:
– Вон, скотина! Это ужасно!..
Когда поручик встал, Швейк, подавая ему завтрак, поразил его новым вопросом:
– Осмелюсь спросить, господин обер-лейтенант, не прикажете ли подыскать вам другую собачку?
– Знаете что, Швейк? У меня большое желание предать вас полевому суду, – сказал поручик со вздохом. – Но ведь судьи вас оправдают, потому что большего дурака в жизни своей не видели. Посмотрите на себя в зеркало. Вас не тошнит от идиотского выражения своего лица? Вы – глупейшая игра природы, какую я когда-либо видел. Ну скажите откровенно, Швейк: нравитесь ли вы самому себе?
– Никак нет, господин обер-лейтенант, не нравлюсь. Я в этом зеркале выгляжу вроде еловой шишки. Зеркало не отшлифовано. Вот у китайца Станека было выставлено выпуклое зеркало[148]. Кто ни поглядится – с души воротит. Рот этак, голова – как помойная лоханка, брюхо – как у налившегося пивом каноника, словом, фигура. Шел мимо генерал-губернатор, поглядел на себя… и моментально пришлось это зеркало снять.
Поручик отвернулся, вздохнул и счел за лучшее заняться вместо Швейка кофе со сливками.
Швейк хлопотал уже на кухне, и поручик Лукаш услышал его пение:
Марширует Греневиль[149] к Прашной бране[150] на шпацир,Сабелька сверкает, а девушки рыдают…И потом:
Мы солдаты молодцы,Любят нас красавицы,У нас денег сколько хошь,Нам везде прием хорош.«Тебе-то уж, наверно, везде хорошо, прохвост!» – подумал поручик и сплюнул.
В дверях показалась голова Швейка.
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, тут пришли за вами из казармы, вы должны немедленно явиться к господину полковнику. Здесь вестовой.
И фамильярно прибавил:
– Это, должно быть, насчет той самой собачки.
Когда вестовой в передней хотел доложить о цели своего прихода, поручик сдавленным голосом сказал:
– Слышал уже.
И ушел, бросив на Швейка уничтожающий взгляд.
Это был не рапорт, а кое-что похуже.
Когда поручик вошел в кабинет полковника, тот, нахмурившись, сидел в кресле.
– Два года тому назад, поручик, – сказал он, – вы просили о переводе в Девяносто первый полк в Будейовицы. Знаете ли вы, где находятся Будейовицы? На Влтаве. Да. На Влтаве, и впадает в нее там Огрже или что-то в этом роде. Город большой, я бы сказал – гостеприимный, и, если не ошибаюсь, есть там набережная. Известно ли вам, что такое набережная? Набережная – это каменная стена, построенная над водой. Да. Впрочем, это к делу не относится. Мы производили там маневры.
Полковник помолчал и, глядя на чернильницу, быстро перешел на другую тему:
– Пес мой у вас испортился. Ничего не хочет жрать… Ну вот! Муха попала в чернильницу. Это удивительно – зимой попадают мухи в чернильницу. Непорядок!
«Да говори уж наконец, старый хрыч!» – подумал поручик.
Полковник встал и прошелся несколько раз по кабинету.
– Я долго обдумывал, господин поручик, как мне с вами поступить, чтобы подобные факты не повторялись, и тут я вспомнил, что вы выражали желание перевестись в Девяносто первый полк. Главный штаб недавно поставил нас в известность о том, что в Девяносто первом полку ощущается большой недостаток в офицерском составе из-за того, что их перебили сербы. Ручаюсь вам своим честным словом, что в течение трех дней вы будете в Девяносто первом полку в Будейовицах, где формируются маршевые батальоны. Можете не благодарить. Армии нужны офицеры, которые…
И, не зная, что прибавить, он взглянул на часы и сказал:
– Уже половина одиннадцатого, пора принимать полковой рапорт.
На этом приятный разговор был закончен, и у поручика отлегло от сердца, когда он вышел из кабинета. Поручик направился в школу вольноопределяющихся и объявил, что в ближайшие дни он уезжает на фронт и по этому случаю устраивает прощальную вечеринку на Неказанке[151].
Вернувшись домой, он многозначительно спросил у Швейка:
– Известно ли вам, Швейк, что такое маршевый батальон?
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, маршевый батальон – это «маршбатяга», а маршевая рота – «маршротиха». Мы это всегда сокращаем.
– Итак, объявляю вам, Швейк, – торжественно сказал поручик, – что мы вместе отправимся с «маршбатягой», если вам нравится такое сокращение. Но не воображайте, что на фронте вы будете выкидывать такие же глупости, как здесь. Рады?
– Так точно, господин обер-лейтенант, страшно рад, – ответил бравый солдат Швейк. – Как это будет прекрасно, когда мы с вами оба падем на поле брани за государя-императора и всю августейшую семью!
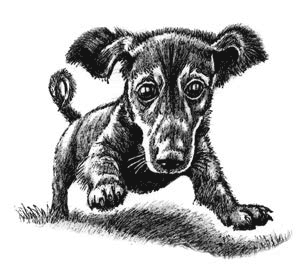
Послесловие к первой части «В тылу»
Заканчивая первую часть «Похождений бравого солдата Швейка» («В тылу»), сообщаю читателям, что вскоре появятся две следующие части – «На фронте» и «В плену». В этих частях и солдаты и штатские тоже будут говорить и поступать так, как они говорят и поступают в действительности.
Жизнь – это не школа для обучения светским манерам. Каждый говорит как умеет. Церемониймейстер доктор Гут[152] говорит совсем иначе, чем хозяин трактира «У чаши» Паливец. А наш роман не пособие для салонных шаркунов и не научная книга о том, какие выражения допустимы в благородном обществе. Эта книга представляет собой историческую картину определенной эпохи.
Если необходимо употребить сильное выражение, которое действительно было произнесено, я без всякого колебания привожу его. Смягчать выражения или применять многоточие я считаю глупейшим лицемерием. Ведь эти слова употребляют и в парламенте.
Правильно было когда-то сказано, что человек, получивший здоровое воспитание, может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова.
Несколько лет тому назад я читал рецензию на одну повесть. Критик выходил из себя по поводу того, что автор написал: «Он высморкался и вытер нос». Это мол, идет вразрез со всем тем эстетическим и возвышенным, что должна давать народу литература.
Это только один, притом не самый яркий, пример того, какие ослы рождаются под луной.
Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь чешский народ в сентиментальных людишек, онанистов псевдокультуры типа святого Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что, когда святой Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы, и только молитва его успокоила.
Такие типы на людях страшно негодуют, но ходят по общественным уборным читать непристойные надписи на стенках.
Употребив в своей книге несколько сильных выражений, я просто запечатлел то, как разговаривают между собой люди в действительности.
Нельзя требовать от трактирщика Паливца, чтобы он выражался так же изысканно, как госпожа Лаудова[153], доктор Гут, госпожа Ольга Фастрова[154] и ряд других лиц, которые охотно превратили бы всю Чехословацкую Республику в большой салон, где все расхаживают по паркету во фраках и белых перчатках, говорят изысканным языком и культивируют утонченную салонную мораль, а за ширмой этой морали салонные львы предаются самому гадкому и противоестественному разврату.
Пользуюсь случаем сообщить здесь, что трактирщик Паливец жив. Он переждал войну в тюрьме и остался таким же, как был во время приключения с портретом императора Франца Иосифа.
Прочитав о себе в моей книжке, он навестил меня и потом купил больше двадцати экземпляров первого выпуска, раздал их всем своим знакомым и таким образом содействовал распространению этой книги.
Ему доставило огромное удовольствие все, что я о нем написал, выставив его как всем известного грубияна.
«Меня уже никто не переделает, – сказал он мне. – Я всю жизнь выражался грубо и говорил то, что думал, да и впредь так буду говорить. Я и не подумаю затыкать себе глотку из-за какого-то осла. Нынче я стал знаменитым».
Его уважение к себе возросло. Его слава зиждется на нескольких сильных выражениях. Это его вполне удовлетворяет. Если бы, предположим, точно и верно воспроизведя его манеру говорить, я захотел бы тем самым поставить ему на вид, так, мол, выражаться не следует (что, конечно, в мои намерения не входило), я, безусловно, оскорбил бы этого порядочного человека.
Употребляя первые попавшиеся выражения, он, сам того не зная, просто и честно выразил протест чеха против всякого рода низкопоклонства. Неуважение к императору и к приличным выражениям было у него в крови.
Отто Кац тоже жив. Это подлинный портрет фельдкурата. После переворота он забросил свое занятие, оставил лоно католической церкви и теперь служит доверенным на фабрике бронзы и красок в Северной Чехии. Он написал мне длинное письмо, в котором угрожал, что разделается со мной. Дело в том, что одна немецкая газета поместила перевод главы, в которой он изображен таким, каким выглядел в действительности. Я зашел к нему, и все кончилось прекрасно. К двум часам ночи он не мог уже стоять на ногах, но без устали проповедовал и в конце концов заявил: «Эй вы, гипсовые головы! Я – Отто Кац, фельдкурат!»
* * *Много людей типа покойного Бретшнейдера, государственного сыщика старой Австрии, и нынче рыскают по республике. Их чрезвычайно интересует, кто что говорит.
Не знаю, удастся ли мне достичь этой книгой того, к чему я стремился. Однажды я слышал, как один ругал другого: «Ты глуп, как Швейк», – лишь это говорит уже о противоположном. Однако если слово «Швейк» станет новым ругательством в пышном венке бранных слов, то мне останется только удовлетвориться этим обогащением чешского языка.
Ярослав ГашекЧасть вторая. На фронте
Глава I. Злоключения Швейка в поезде

В одном из купе второго класса скорого поезда Прага – Чешские Будейовицы ехало трое пассажиров: поручик Лукаш, напротив него пожилой, совершенно лысый господин и, наконец, Швейк. Последний скромно стоял у двери и почтительно готовился выслушать очередной поток ругательств поручика, который, не обращая внимания на присутствие лысого штатского, всю дорогу орал, что Швейк – скотина и тому подобное.
Дело было пустяковое: речь шла о количестве чемоданов, за которыми должен был присматривать Швейк.
– Украли у нас чемодан! – ругал Швейка поручик. – Как только у тебя язык поворачивается, негодяй, докладывать мне об этом.
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, – тихо ответил Швейк, – его взаправду украли. На вокзале всегда болтается много жуликов, и, видать, кому-то из них наш чемодан, несомненно, понравился, и этот человек, несомненно, воспользовался моментом, когда я отошел от чемоданов доложить вам, что с нашим багажом все в порядке. Этот субъект мог украсть наш чемодан именно в этот подходящий для него момент. Они только и ловят такие моменты. Два года тому назад на Северо-Западном вокзале у одной дамочки украли детскую колясочку вместе с девочкой, закутанной в одеяльце, но воры были настолько благородны, что сдали девочку в полицию на нашей улице, заявив, что ее, мол, подкинули в воротах, и они ее там нашли. Потом газеты превратили бедную дамочку в мать-злодейку. – И Швейк с твердой убежденностью заключил: – На вокзалах всегда крали и будут красть – без этого не обойтись.
– Я глубоко убежден, Швейк, – сказал поручик, – что вы кончите плохо. До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так уж и родились ослом. Что было в этом чемодане?
– Почти ничего, господин обер-лейтенант, – ответил Швейк, не спуская глаз с голого черепа штатского, сидевшего напротив поручика и, казалось, не проявлявшего никакого интереса ко всему происшествию, читая «Нойе фрейе прессе[155]». – Только зеркало из вашей комнаты и железная вешалка из передней, так что мы, собственно говоря, не потерпели никаких убытков, ведь и зеркало, и вешалка принадлежали домохозяину… – Увидев угрожающий жест поручика, Швейк продолжал ласковым тоном: – Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, о том, что чемодан украдут, я заранее ничего не знал, а что касается зеркала и вешалки, то я сказал хозяину, что мы ему все отдадим, когда вернемся с фронта домой. Во вражеских землях зеркал и вешалок сколько угодно, так что все равно ни мы, ни домохозяин в убытке не останемся. Как только займем какой-нибудь город…
– Цыц! – не своим голосом взвизгнул поручик. – Я вас под полевой суд отдам! Думайте, что говорите, если у вас в башке есть хоть капля разума! Другой за тысячу лет не смог бы натворить столько глупостей, сколько вы за эти несколько недель. Надеюсь, что и вы это заметили?
– Так точно, господин обер-лейтенант, заметил. У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла. Мне здорово не везет, все равно как некоему Нехлебе с Неказанки, который ходил в трактир «Сучий лесок». Тот всегда мечтал стать добродетельным и каждую субботу начинал новую жизнь, а на другой день всегда рассказывал: «А утром-то я заметил, товарищи, что лежу на нарах![156]» И всегда, бывало, беда стрясется с ним, именно когда он решит, что пойдет себе тихо и мирно домой; а под конец все-таки окажется, что он сломал где-нибудь забор, или выпряг лошадь у извозчика, или попробовал прочистить себе трубку петушиным пером из султана на каске полицейского. Нехлеба от всего этого был в отчаянии, но особенно его угнетало то, что весь его род такой невезучий. Однажды его дедушка отправился бродить по свету…
– Оставьте меня в покое, Швейк, с вашими россказнями!
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, все, что я сейчас говорю, – сущая правда. Отправился, значит, его дед бродить по белу свету…
– Швейк, – разозлился поручик, – еще раз приказываю вам прекратить вашу болтовню. Не хочу ничего от вас слышать. Как только приедем в Будейовицы, я найду на вас управу. Посажу под арест. Знаете это?
– Никак нет, господин поручик, не знаю, – мягко сказал Швейк. – Вы об этом не заикались даже.
Поручик невольно заскрежетал зубами, вздохнул, вынул из кармана шинели «Богемию» и стал читать сообщения о колоссальных победах германской подводной лодки «Е» и ее действиях на Средиземном море. Когда он дошел до сообщения о новом германском изобретении – взрывании городов при помощи специальных бомб, которые сбрасываются с аэропланов и взрываются три раза подряд, его чтение прервал Швейк, заговоривший с лысым господином:
– Простите, сударь, не изволите ли вы быть господином Пуркрабеком, агентом из банка «Славия»?
Не получив ответа, Швейк обратился к поручику:
– Осмелюсь доложить, господин обер-лейтенант, я читал однажды в газетах, что у нормального человека должно быть на голове в среднем от шестидесяти до семидесяти тысяч волос и что у брюнетов обыкновенно волосы бывают более редкими, есть много примеров… А один фельдшер, – продолжал он неумолимо, – говорил в кафе «Шпирек», что волосы выпадают из-за сильного душевного потрясения в первые шесть недель после рождения…
Тут произошло нечто ужасное. Лысый господин вскочил и заорал на Швейка:
– Marsch heraus, Sie Schweinkerl![157] – и поддал его ногой так, что оба вылетели в коридор. Потом лысый господин вернулся и преподнес поручику небольшой сюрприз, представившись ему.
Швейк слегка ошибся: лысый субъект не был паном Пуркрабеком, агентом из банка «Славия», а всего-навсего генерал-майором фон Шварцбург. Генерал-майор совершал в гражданском платье инспекционную поездку по гарнизонам и в данный момент готовился нагрянуть в Будейовицы.
Это был самый страшный из всех генералов-инспекторов, когда-либо рождавшихся под луной. Обнаружив где-нибудь непорядок, он заводил с начальником гарнизона такой разговор:
– Револьвер у вас есть?
– Есть.
– Прекрасно. На вашем месте я бы знал, что с ним делать. Это не гарнизон, а стадо свиней!
И действительно, после его инспекционной поездки то тут, то там кто-нибудь всегда стрелялся.
В таких случаях генерал фон Шварцбург с удовлетворением констатировал:
– Правильно! Это настоящий солдат!
Казалось, ему было не по сердцу, когда после его ревизии хоть кто-нибудь оставался в живых. Кроме того, он страдал манией переводить офицеров на самые скверные места. Достаточно было пустяка, чтобы офицер распрощался со своим гарнизоном и отправился на черногорскую границу или в безнадежно спившийся гарнизон в грязной галицийской дыре.
– Господин поручик, – спросил генерал, – в каком военном училище вы обучались?
– В пражском.
– Итак, вы обучались в военном училище и не знаете даже, что офицер является ответственным за своего подчиненного? Недурно. Во-вторых, вы болтаете со своим денщиком, словно с близким приятелем. Допускаете, чтобы он говорил, не будучи спрошен. Еще лучше! В-третьих, вы разрешаете ему оскорблять ваше начальство. Это лучше всего! Из всего этого я делаю некоторые выводы… Как ваша фамилия, господин поручик?
– Лукаш.
– Какого полка?
– Я служил…
– Благодарю вас. Речь идет не о том, где вы служили. Я желаю знать, где вы служите теперь?
– В Девяносто первом пехотном полку, господин генерал-майор. Меня перевели…
– Вас перевели? И отлично сделали. Вам будет очень невредно вместе с Девяносто первым полком в ближайшее время увидеть театр военных действий.
– Об этом уже есть решение, господин генерал-майор.
Тут генерал-майор прочитал лекцию о том, что, по его наблюдениям, офицеры стали в последнее время говорить с подчиненными в товарищеском тоне, что он видит в этом опасный уклон в сторону развития разного рода демократических принципов. Солдата следует держать в страхе, он должен дрожать перед своим начальником, бояться его; офицеры должны держать солдат на расстоянии десяти шагов от себя и не позволять им иметь собственные суждения и вообще думать. В этом-то и заключается трагическая ошибка последних лет. Раньше нижние чины боялись офицеров как огня, а теперь… – генерал-майор безнадежно махнул рукой, – теперь большинство офицеров нянчится со своими солдатами, вот что.
Генерал майор опять взял газету и углубился в чтение.
Поручик Лукаш, бледный, вышел в коридор, чтобы рассчитаться со Швейком. Тот стоял у окна с таким блаженным и довольным выражением лица, какое бывает только у четырехнедельного младенца, который досыта насосался и сладко спит.
Поручик остановился и кивком головы указал Швейку на пустое купе. Затем он вошел вслед за Швейком и запер за собой дверь.
– Швейк, – сказал он торжественно, – наконец-то пришел момент, когда вы получите от меня пару оплеух, каких еще свет не видывал! Как вы смели приставать к этому плешивому господину! Знаете, кто он? Это генерал-майор фон Шварцбург!
Швейк принял вид мученика.
– Никак нет, господин обер-лейтенант, у меня никогда в жизни и в мыслях не было кого-нибудь обидеть, ни о каком генерал-майоре я и понятия не имел. А он и вправду – вылитый пан Пуркрабек, агент из банка «Славия»! Тот ходил в наш трактир и однажды, когда уснул за столом, какой-то доброжелатель написал на его плеши чернильным карандашом: «Настоящим позволяем себе предложить вам, согласно прилагаемому тарифу № III «с», свои услуги по накоплению средств на приданое и по страхованию жизни на предмет обеспечения ваших детей». Ну все, понятно, ушли, а я с ним остался один. Мне, известное дело, всегда не везет. Когда он проснулся и посмотрел в зеркало, то разозлился и подумал, что это я написал, и тоже хотел мне дать пару оплеух.









