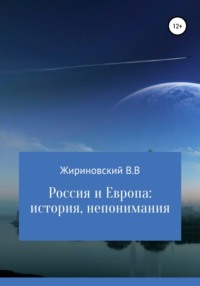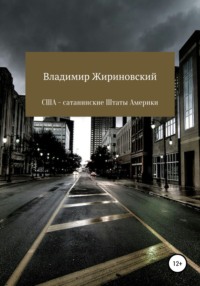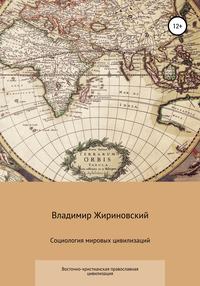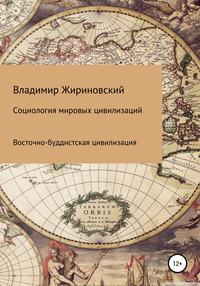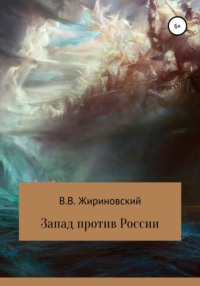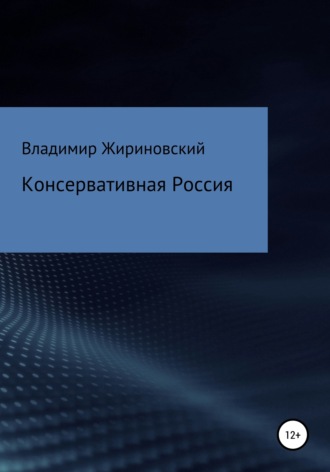 полная версия
полная версияКонсервативная Россия
Сторонники глобализации хвалят этот процесс за наличие социального лифта для молодежи. Но это иллюзия.
Применяемое на Западе изъятие из социальных низов Африки, Азии и Латинской Америки творческих людей и принятие их в элиты во многих странах не сможет решить проблему, так как наиболее значимые позиции все равно неминуемо будут заняты деградирующими представителями «старой» элиты.
Творческие же люди, рекрутируемые «из низов», будут оставаться не более чем высокооплачиваемым обслуживающим персоналом, что достаточно быстро превратит их в контрэлиту.
В неизбежной борьбе за власть она сможет опереться на массы, из которых ее представители недавно вышли.
Такая система вряд ли сможет просуществовать достаточно долго: вторичная социализация «человека трущоб» выйдет из-под контроля «расы господ» и уничтожит ее.
ГЛАВА 3
УБИВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ
Во время крушения СССР даже многим честным людям на Западе казалось, что освоение постсоветского пространства идет не ради его колонизации, а ради общего блага, для созидания нового, лучшего человечества, в котором все смогут жить так же хорошо, как в наиболее фешенебельных странах Европы.
Эхо этих иллюзий чуть позже – в середине и второй половине 1990-х годов – привело к предоставлению новым членам Евросоюза из Восточной Европы гигантских кредитов «для проведения реформ» в интересах «развития рыночных отношений» и «углубления демократии».
Это заложило основы безысходного европейского долгового кризиса, пик которого еще не достигнут.
Такое кредитование было выгодно очень многим.
С политической точки зрения оно стало инструментом выращивания (в том числе и системным разворовыванием предоставляемых кредитов) либеральных кланов, надежно контролирующих это пространство в интересах глобальных монополий.
Не стоит забывать также и о баснословном обогащении причастных к ним западных топ-менеджеров и специалистов, получавших головокружительные гонорары за более или менее напыщенное изрекание банальностей, имевших весьма отдаленное отношение к реалиям финансируемых стран.
Однако главный смысл массового кредитования переходных экономик заключался во временном преодолении глобального кризиса сбыта: правительства развитых стран кредитовали правительства Польши, Венгрии, Чехии и прочих Прибалтик, которые самыми разнообразными способами в рамках самых разнообразных проектов передавали полученные средства (за вычетом крупного воровства и расходов на дистанционно работающих иностранных консультантов) своим потребителям.
Последние, в свою очередь, тратили значительную часть этих средств на приобретение продукции западных, прежде всего американских, монополий, обеспечивая им восстановление недостающего в масштабе мировой экономики спроса.
Заведомая бессмысленность такого кредитования потребителей в неразвитых странах была столь очевидна, что оно осуществлялось не национальными правительствами, а через международные финансовые организации вроде МВФ и Мирового банка – для размывания ответственности непосредственно причастных к кредитованию лиц до приемлемого с точки зрения индивидуальных рисков уровня.
Соответственно, это стало вехой и в формировании глобального монополизма, и в подавлении им традиционной демократии.
Добившись успеха и фактически продиктовав национальным государствам решения, которые соответствовали их интересам, крупные корпорации не могли не ощутить нерациональность этих решений (при всей выгодности для себя) и инстинктивно отстранились от принявших эти решения государств.
Поскольку попытка преодоления нехватки спроса путем кредитования потребителей неразвитых стран не предусматривала механизмов возврата кредитов, она не могла продолжаться долго.
Долговой кризис привел к массовым разрушительным девальвациям, «ковровой» скупке глобальным бизнесом и крупным бизнесом развитых стран подешевевших активов неразвитых стран, павших его жертвой.
Однако проблема нехватки спроса в масштабе мировой экономики так и не была решена, так как ставленники глобальных монополий и в национальных правительствах, и в международных организациях в силу самого своего положения в принципе не могли даже назвать причину этой проблемы – загнивание глобальных монополий.
В результате глобальный экономический кризис не закончился, а распространился на страны, бывшие его источником, и бумерангом ударил по США, обвалив их фондовый рынок.
Оказавшиеся на грани депрессии (естественной в условиях острой нехватки спроса) США вышли из нее при помощи мгновенной реализации двух стихийно нащупанных стратегий.
Первой была реализована стратегия поддержания спроса на акции при помощи накачки рынка дешевыми ипотечными кредитами. Разумеется, эта стратегия привела США к длительной агонии, перешедшей в открытую форму в 2008 году.
И тогда пошла в ход вторая стратегия – УБИВАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. Эта стратегия вывода американской экономики из тупика рецессии заключалась в экспорте политической нестабильности.
Она активно применялась в локальных целях с 1960-х годов, когда использовалась для недопущения прихода к власти итальянских коммунистов, а в глобальных масштабах – с начала 1990-х годов, когда Югославия была превращена американцами в незаживающую рану Европы, не позволяющую той стать серьезным стратегическим конкурентом.
Непосредственное воздействие экспорта нестабильности заключается в подрыве конкурентов США (или их периферии), что вынуждает капиталы и интеллект (не только самих конкурентов, но и ориентирующихся на них обществ) бежать в тихую гавань – США.
Однако главное в стратегии экспорта нестабильности, как ни парадоксально, это сама нестабильность. Ее наращивание является абсолютным, не поддающимся оспариванию оправданием для соответствующего (и даже опережающего) роста военных расходов, а как минимум – надежно блокирует попытки их существенного сокращения.
Строго говоря, с точки зрения военных и связанных с ними корпораций экспорт нестабильности представляет собой идеальный бизнес, который сам создает спрос на свои услуги.
С точки зрения макроэкономики рост военных расходов США, вызванный прежде всего механической реакцией системы государственного управления на увеличение глобальной нестабильности, весьма эффективно обеспечивает увеличение внутреннего спроса, поддерживающего экономику вместо переставшего справляться с этой функцией рынка.
Эта стратегия удачно реализовалась в Югославии, вызвав недоверие к только что введенному тогда евро. Его курс к доллару рухнул в полтора раза, что надолго отсрочило его становление как глобального, а не регионального финансового инструмента.
После Ирака стратегия экспорта нестабильности забуксовала, что во многом обусловило нарастание ипотечного кризиса в США и, соответственно, обострение кризиса американской и всей мировой экономики.
Попытки превратить в мишень Северную Корею, Иран и Пакистан так и остались попытками в силу способности этих стран дать отпор и ясного понимания американским руководством неприемлемости глобального военно-политического кризиса, способного создать реальную угрозу ядерной войны (Пакистана – с Индией, Израиля – с Ираном, Северной Кореи – с Японией и США).
В результате единственным источником необходимых для США внешних займов стали глобальные спекулятивные капиталы, однако они могли выбирать объекты инвестирования по всему миру.
Для привлечения их именно в США нужно было вновь представить их тихой гаванью, и в условиях, когда все недружественные США и при этом имеющие значение режимы уже либо были разрушены, либо продемонстрировали способность к самозащите, было найдено качественно новое, оригинальное решение: разрушать не «враждебные», а дружественные режимы.
В самом деле, Мубарак был самым проамериканским из всех возможных руководителей Египта, а Каддафи в последние годы перед уничтожением Ливии полностью нормализовал отношения с Западом (до такой степени, что никто из его публичных обвинителей даже не вспомнил в последующем о теракте над Локерби). Тунис же представлялся туристическим раем с весьма цивилизованным (по крайней мере, по африканским меркам) руководством.
Таким образом, исчерпав возможность безнаказанно «бить по чужим» для реализации стратегии экспорта нестабильности, США, помедлив и пожав плоды своего промедления, начали «бить по своим» для реализации стратегии экспорта хаоса.
При этом потребность в расширении зоны дестабилизации была такова, что в Ливии НАТО (и в политическом отношении США) действовало в теснейшем союзе с формальным злейшим врагом США – «Аль-Каидой», являющейся ключевой политической силой в Бенгази.
Новое развитие стратегия экспорта нестабильности получила к 2014 году, когда потребность США в привлечении иностранных капиталов на покрытие государственного долга в силу нарастания экономического кризиса резко обострилась. И тогда сыграла свою роль украинская карта, которую Вашингтон давно уже держал в рукаве.
Однако масштабы безопасной для Запада (или связанной для них с допустимым риском) дестабилизации мира ограничены. Это значит, что стратегия экспорта хаоса обречена на завершение, как и накачивание спекулятивного пузыря на рынке ипотечного кредитования, а мир обречен на депрессию.
Любое улучшение геополитической обстановки нанесет материальный ущерб западным странам, особенно США.
Поэтому государственный лидер, согласившийся на такое улучшение, объединит против себя мировое правительство и крайне быстро потеряет свой пост, а потенциальные самоубийцы, как правило, не выигрывают жестокой политической конкуренции и не становятся во главе преуспевающих наций.
Запад сам себя ведет в бездну, одновременно чуть ли не силой выталкивает на авансцену мирового развития новых участников. Это прежде всего Китай, отчасти Индия и Бразилия, возможно, Иран и Россия, если из ее властных структур навсегда будут изгнаны прозападные демократы и воры.
Что самое страшное, так это то, что даже оздоровление финансов США (которое в современных условиях уже просто невозможно себе представить), произойди оно вдруг по мановению волшебной палочки, не смягчит кризис перепроизводства продукции глобальных монополий и не создаст новый экономический двигатель взамен разрушившихся.
Это означает, что из сегодняшнего кризиса мировая экономика выйдет не в восстановление (для него попросту нет не то что предпосылок, но даже и никаких возможностей), а в депрессию – длительную и мучительную.
ЧАСТЬ
II
.
РОССИЯ – XXI ВЕК
ГЛАВА 1
НЕИЗБЕЖНА ЛИ КАТАСТРОФА?
Глубина неудержимо развертывающегося на наших глазах мирового финансового кризиса растет беспрепятственно. Проведены тысячи симпозиумов, конгрессов, совещаний и семинаров по борьбе с глобальным потеплением. А борьба с его причиной – глобализмом – происходит только на площадях, где собирают свои митинги антиглобалисты.
Причем из их выступлений трудно понять, а в чем причины надвигающейся на мир катастрофы и совсем ли она неизбежна? А фундаментальная причина будущего сверхразрушительного кризиса одна – исчерпанность геополитической модели развития человечества, созданной Западом после уничтожения Советского Союза.
После победы над нами в холодной войне Запад эгоистично перекроил мир в интересах своих глобальных корпораций, лишив свыше половины человечества возможности нормального развития, и вот теперь последствия этого разрушительного эгоизма постепенно начинают сказываться.
Принципиально важно, что освоением постсоциалистического пространства (а также стран третьего мира, привыкших успешно сохранять самостоятельность за счет иногда виртуозного балансирования между Западом и Советским Союзом) занимался именно бизнес, в первую очередь крупный бизнес, в то время оформленный в виде транснациональных корпораций.
Го сударства участвовали в этом процессе в лучшем случае крайне слабо в силу бюрократической инерции и неспособности своевременно оценивать изменения, хотя значимость этого фактора также ни в коем случае не следует преуменьшать.
Важным фактором, парализовавшим активность западных государств в условиях распада социалистического мира, стал кризис идентичности: «свободный мир» привык осознавать себя в противостоянии с «империей зла», из которой исходила «советская военная угроза». С исчезновением этой угрозы полностью исчез и ясный ответ на вопросы «Кто мы?» и «Что нас всех объединяет?».
В ходе расширения Евросоюза и поглощения им сначала юга Европы, а затем и ее постсоциалистической части мы видели этот процесс более наглядно, «со стороны». Крупный европейский бизнес скупал то, что представляло для него интерес, и стремился уничтожить (в том числе и покупкой для закрытия) все местные корпорации, которые потенциально могли превратиться в его конкурентов.
После развала Советского Союза мы участвовали в этом процессе в совершенно ином качестве, несколько мешающем беспристрастным наблюдениям, – в качестве тщательно пережеванного куска мяса, попавшего, наконец, в желудок.
Однако суть процесса не менялась: освоение новых территорий бизнесом означало в первую очередь решение им задачи по устранению конкуренции и созданию таких условий и правил игры, чтобы конкуренция с ним никогда больше не могла возникнуть на однажды освоенных территориях.
Лишение огромной части человечества возможностей развития ограничило сбыт самих развитых стран, внезапно породив жесточайший кризис перепроизводства.
Дополнительным фактором этого кризиса стало относительное сжатие спроса не в неразвитых, а в самих развитых странах – за счет размывания среднего класса из-за развития и распространения сверхпроизводительных постиндустриальных технологий.
Выход, найденный крупнейшими корпорациями, которые как раз в то время превращались из транснациональных в глобальные, оказался достаточно простым: стимулирование сбыта избыточной продукции кредитованием неразвитого мира.
Естественным выходом из ситуации загнивания общества представляется технологический рывок, который ослабляет степень монополизации.
Но именно поэтому глобальные монополии стремятся сдержать технологический прогресс – и надгосударственный всеобщий глобальный управляющий класс выполняет эту функцию.
Человечество, всего лишь поколение назад вполне обоснованно мечтавшее о космосе и бесплатной энергии, сегодня может рассчитывать лишь на новый телевизор, очередной айфон- чик или ящик «диет-колы» во взятом в кредит холодильнике.
На фоне этих фундаментальных пугающих проблем вопрос о судьбе среднего класса может показаться эгоистически мелким, а с другой стороны – вполне очевидным.
В самом деле, производительность новых, в первую очередь информационных, технологий резко снижает численность людей, нужных для производства потребляемых человечеством материальных и духовных благ.
Пока главным субъектом политики было государство, оно так или иначе сдерживало технологический прогресс ради сохранения удобной для него социальной структуры. Однако с уничтожением Советского Союза и началом глобализации главным субъектом мировой политики окончательно стал глобальный бизнес (на Западе его полная победа была одержана с отставкой Никсона), а логика фирмы, в отличие от логики общества, требует оптимизации издержек.
В данном случае носителем издержек является средний класс, у которого разрыв между непосредственно производимыми и непосредственно потребляемыми благами является максимальным. Поэтому средний класс истребляется глобальным бизнесом в рамках борьбы с расточительностью, и этот процесс дошел уже и до развитых стран.
Между тем именно средний класс предъявляет критически значимую часть спроса современного мира: редукция этого спроса означает обрушение рыночной экономики в жесточайший кризис спроса и в глобальную депрессию.
Что будет представлять собой современная экономика без спроса среднего класса? Этот вопрос остается открытым.
Вероятно, рынок как средство организации общества исчерпал себя, и современный глобальный кризис является в том числе и кризисом рыночных отношений как таковых.
Весьма существенным представляется и трансформация демократии: ее сегодняшний кризис (который будет подробно разобран ниже) – ничто на фоне того, что ждет ее в случае исчезновения среднего класса, ее источника и обоснования. Вероятно, ее заменят жесткой информационной диктатурой, способной во многом оторвать людей от реальности и в значительной степени контролировать структуру их потребностей (что касается общественных потребностей, такой контроль, скорее всего, будет полным).
Некоторое предвестие подобной информационной диктатуры (по ее эффективности и тотальности) мы наблюдаем на примере уже длительное время вполне успешно (с точки зрения повседневности) живущей в искусственно созданной реальности под властью нацистов Украине.
То, что Запад ожидает катастрофа, стало ясно даже самым либеральным аналитикам. Но мало кто сегодня может ответить на вопрос: неизбежна ли катастрофа и для России?
Главное, что сегодня необходимо Отечеству, – это смена управленческого аппарата. В него должны прийти молодые, умные, порядочные патриоты. А уйти должны взяточники и прозападные демократы, которые сидят на своих постах еще с ельцинских времен.
Пора понять: несмотря на то что антирусская истерия на Западе рано или поздно закончится, он всегда будет настроен против России. Никто не даст нам спокойно развивать наше сельское хозяйство и промышленность. Конкуренты Западу не нужны!
Да и внутри России не все ладно. Лавинообразно растет отток средств из России. Нынешние олигархи не верят в ее будущее и уводят капиталы на Запад, отправляя туда свои семьи и коллекции произведений искусства.
Из-за этого, несмотря на рост экспорта сельскохозяйственной продукции и прекращение обвала цен на нефть, Россия вскоре может остаться вообще без валютных запасов.
В конце 2016 года председатель Счетной палаты России Татьяна Голикова заявила журналу «Огонек», что до сих пор не понятно, сможет расти экономика страны или снова будет падать. При этом Голикова подчеркнула, что в 2017 году средства в Резервном фонде совсем иссякнут и правительство начнет расходовать деньги из Фонда национального благосостояния.
Вот результат работы прозападных демократов вроде арестованного Улюкаева – позиция околовластных сторонников либерализации российской экономики ведет страну к кризису.
Отмена госконтроля за выводом капиталов из России (главное требование российских прозападных демократов после требования тотальной приватизации предприятий госсектора) при отсутствии гарантий, что, если деньги останутся на Родине, их рано или поздно отберут чиновники или бандиты (а в некоторых регионах это одно и то же), приведет к обесцениванию рубля и разрушению нашей национальной экономики.
Социально-экономическая политика Российского государства после распада Советского Союза сложилась в начале 1990-х годов как инструмент разграбления советского наследства и легализации украденного в качестве личных богатств в фешенебельных странах.
Уже и от наследства этого мало что осталось, и с легализацией на Западе проявляются пока не критичные, но уже пугающие «офшорную аристократию» проблемы, но старый механизм продолжает работать, уничтожая страну.
Прозападный либерализм – это идеология служения государства интересам глобального бизнеса, кромешная коррупция, безнаказанный произвол монополий, труднодоступность правосудия, сжатие социальной сферы как универсальный ответ на любую финансовую проблему, словом, все, что душит и разрушает наше общество.
Западные санкции лишили Россию внешнего кредитования, но основной вред отечественной экономике принесли не они сами по себе, а категорическое нежелание определяющих социально-экономическую политику нашей страны либералов реагировать на новую ситуацию и заменить внешние кредиты внутренними.
Принципиально отрицая национальный суверенитет, глобальный бизнес руками верно служащих ему либералов не дает
государству исполнять свои неотъемлемые обязанности перед народом.
Что делать? Контролировать власть, чтобы она контролировала финансовый рынок. А как контролировать? Надо ввести в надзорные органы представителей оппозиции. Уж они-то не позволят чиновникам крышевать преступный бизнес.
К сожалению, такого еще не было в истории России, начиная с древнейших времен. Царя свергли, Временное правительство «буржуев и помещиков» тоже свергли, и пришедшие к власти под личиной некоей «власти Советов» большевики уничтожили реальную оппозицию.
Советская Конституция предусматривала возможность проведения выборов депутатов на альтернативной основе, однако такие выборы ни разу не прошли – только «за» или «против» предложенного кандидата. Мы могли перейти к многопартийной системе, но не сделали этого, что предопределило застой в политике.
Но и изобилие партий может быть вредным. В царской Государственной думе были десятки партий, и они не могли выработать общего видения, а в итоге именно депутаты Госдумы организовали отречение императора.
Сейчас нужно двигаться к стабильной 2 – 3-партийной системе, как в США и ЕС. Мы можем сделать это через закон: допускать к выборам в Госдуму только партии, у которых есть 200 тысяч членов и 200 депутатов в регионах. А на выборах президента позволить выдвигать кандидатов только от парламентских партий.
Именно тогда и можно будет реально преобразовывать российскую экономику. Среди этих преобразований следует выделить в первую очередь обеспечение полной прозрачности движения спекулятивных капиталов и введение налога на их вывод.
Кроме того, следует усилить влияние России на политику российских и международных финансовых институтов вплоть до создания органа глобального регулирования, включающего в себя все экономически развитые страны мира.
И здесь самое важное – сохранить стабильность у нас внутри страны. Любые политические бури вызывают у других стран страх и стремление объединиться против нас.
Во время большевистского переворота 1917 года первым ударом разгромили церковь. Этим мы напугали Запад и заставили его выступить против нас единым фронтом.
Потом большевики отобрали собственность у народа. И не просто отобрали, а уничтожили людей, которые были собственниками. Это опять напугало Запад – мол, что это за страна: церковь разрушена, собственность отобрали, людей в ГУЛАГ загнали?!
Тот же путь перед этим проделала Германия. В Первую мировую войну Британия, Франция и Россия объединились против Германии, которая всем угрожала – и нам, и французам, и британцам.
Нашей стране нужен такой режим, при котором другим державам нет необходимости бояться войны.
К примеру, не было бы Октябрьской революции – Россия вместе с Антантой дожали бы Германию. Пусть бы Франция с Британией занимались своими колониями в Африке и Индии, а Россия тем временем распространила бы свое влияние на Турцию, Иран, Афганистан. Разделили сферы влияния – и нет необходимости в огромных средствах на оборону. Не было бы ни Гитлера, ни последующих кровопролитных войн.
Мы всегда не умели извлекать пользу из побед. После победы в Великой Отечественной войне надо было переместить в СССР все немецкие предприятия из зоны нашей ответственности. Часть немцев из Восточной Германии ушла бы в Западную, но территория ГДР оставалась бы под контролем СССР. А так мы все потеряли.
А потом Запад объединился против СССР. И даже когда его начало штормить перестройкой, западные страны делали все, чтобы добить Советский Союз.
Их эксперты давно уже дают другим странам такие советы, которым сами не следуют. Нам объявляли гласность как великое достижение, после чего десятилетиями с наших экранов вбивают населению мысль, как в России все плохо, каждый день на экранах телевидения – убийства, насилие, пьянство.
И все это по общедоступным каналам. А на Западе жестокие сцены можно увидеть только на платных каналах, там есть самоцензура, никто не будет говорить с экранов, какая Америка дерьмовая страна, его просто не станут приглашать на ТВ, потому что рекламодатель перестанет платить деньги за рекламу. За любое проявление гласности у них – уголовное преследование, пример – Джулиан Ассанж.
ГЛАВА 2
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Очевиден кризис глобальной модели развития. Экономический рост замедляется как результат исчерпания потенциала прежнего технологического цикла.
Экономика и поведение людей изменились, но новая модель устойчивого роста пока не найдена.
Коммунизм вышел из конкурентной борьбы за умы. Азиатская «экспортная» модель, в китайском или ином варианте, вряд ли продержится еще одно поколение.
С ростом конкуренции между США, Евросоюзом, Китаем, Японией и другими экономическими центрами обостряется борьба за контроль над рынками сбыта и важнейшими ресурсами – человеческим потенциалом, энергоносителями, чистой водой, пригодной для сельского хозяйства землей, благоприятной средой для бизнеса.