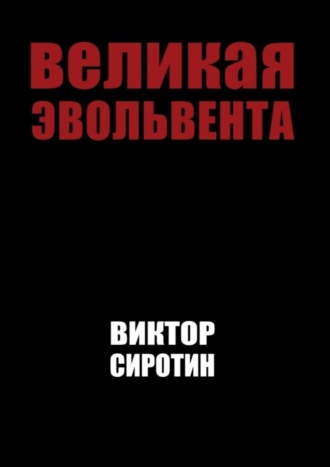
Полная версия
Великая эвольвента
Д. Левицкий. 1794 г. Екатерина Великая.

II
Этого могло не произойти. Победоносные баталии русских полководцев XVIII в. укрепили дух народа, а победа над
«французом» в 1812 г. породила надежду на лучшую долю и могла вывести Страну на благоприятную историческую перспективу.
«Война 1812 года пробудила народ русский и составляет важный период в его политическом существовании. В рядах даже между солдатами не было уже бессмысленных орудий; каждый чувствовал, что он призван содействовать в великом деле», – писал о самосознании герой Отечественной войны, а впоследствии декабрист И. Якушкин. «Именно 1812 год, а вовсе не заграничный поход (1813—1815 гг. – В. С.), создал последующее общественное движение, которое было в своей сущности незаимствованным, а чисто русским», – вторил ему М. Муравьёв-Апостол. Он же определил настроения общества чёткой и ясной формулой: всех слоёв общества «Мы – дети 1812 года».
Однако Правительство России и лично Александр I, не разделяя умонастроения «детей», не имели доверия и к их отцам-командирам – ученикам и последователям никем не побеждённого стратега Александра Суворова. Не признавая суворовскую «науку побеждать», русский царь накануне великой войны летом 1812 г. предлагает стать во главе русской армии генералу Моро – бывшему полководцу Наполеона. Моро отказывается, соглашаясь лишь на роль советника. Александр с тем же предложением едет в Швецию к королю Бернадотту – тоже недавнему маршалу Наполеона. И тот отказывается. Но впоследствии всё же принимает решение сражаться во главе шведских войск против своих соотечественников на стороне шестой антинаполеоновскокой коалиции (1813—1814). Отечественной
В битве с Наполеоном русская армия и её командование проявили свои лучшие качества, но это не изменило отношение к ним царя. При том, что в русской армии были весьма одарённые полководцы – герои войны Милорадович, Ермолов и Барклай де Толли – после смерти Кутузова в апреле 1813 г. Александр проводит не нужный России «заграничный поход», поставив во главе русских корпусов прусского фельдмаршала Блюхера, битого Наполеоном при Любеке (1806). Впрочем, в мае 1813 г. Александр поручает Барклаю командование объединённой русско-прусской армией накануне временного перемирия с Наполеоном, после окончания которого царь, словно в издевку, передаёт главенство австрийскому фельдмаршалу Шварценбергу, которому Наполеон в декабре 1812 г. исходатайствовал у императора Франца I маршальский жезл, а в августе 1813 г. разбил его. 32
Долго копившееся негодование русского офицерства не преминуло вылиться в «офицерское» восстание на Сенатской площади в декабре 1825 г. Несмотря на внутренние разногласия, декабристы ставили задачу сблизить сословия для роста общественного благоденствия. Отнюдь не спонтанный, а исторически обусловленный общественный подъём способен был огранить социальными реформами гений М. М. Сперанского,на чём с его же слов остановимся отдельно. 33
План Сперанского «состоял в том, чтобы посредством законов учредить власть правительства на началах постоянных и тем сообщить действию этой власти больше достоинства и истинной силы», ибо история не знает примера, «чтобы народ просвещённый и коммерческий мог долго в рабстве оставаться». Об отношении Сперанского к народу свидетельствует его ответ Александру I. После визита в Эрфурт (1808) тот спросил своего статс-секретаря, как ему нравится за границею? – на что Сперанский отвечал: «У нас люди лучше, а здесь лучше установления».
Однако цивильная «ложка» Сперанского не пришлась к обеду вельможным скотининым, которые давно приноровились харчеваться из государственной скудели. А то, что в основу проекта реформатора лёг Кодекс «антихриста» Наполеона и отчасти французская Конституция – и вовсе вызывало у них сильнейшую изжёгу. К тому же, Россия, счёл сначала Павел I, а потом и Алек- сандр I, – не была готова к коренным реформам. И всё же дело было не столько в государях, сколько в их приближённых.
Известный обскурантист при дворе Александра, Д. П. Рунич, когда говорил, что помещики «теряли голову только при мысли, что конституция уничтожит крепостное право и что дворянство должно будет уступить шаг вперед плебеям», – говорил не только о своём сословии, но и от его имени. На кабинет Сперанского, писал Ф. Ф. Вигель в своих «Записках», – «смотрели все, как на ящик Пандоры, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою всё наше отечество».
Между тем реформы Сперанского, планировавшего деление Страны на губернии и распределение законодательных, административных и судебных властей, – способны были изменить облик Страны и её историческую судьбу. Конституционная монархия могла стать звеном, которое не доковал Пётр и необходимость которого не осенила умы его «птенцов». Не случайно в 1808 г. в Петербурге ходил сатирический листок, который куда как ясно трактовал положение дел: «Правосудие – в бегах. Добродетель ходит по миру. Благодеяние – под арестом. Надежда с якорем – на дне моря. Честность вышла в отставку. Закон – на пуговицах Сената. ». Потому «ящики Пандоры» Сперанского «остались сосланными в архиве» (А. Герцен), а «пуговицы Сената» продолжали тускло блистать в запустении России. Терпение – скоро лопнет
Даже и не отказывая царям в поводах для беспокойства, ибо со времён Ивана IV Россия и впрямь несла тяжкий груз в лице малоспособных к эволюционным процессам обширных окраин Империи, следует признать, что инертность Правительства была наихудшим из «решений». Поскольку воз проблем, которые всё равно нужно было «тянуть», оставался на месте. Интеллектуальная мощь Сперанского и его историческое видение России использовалась вхолостую.Толчение законов в ступе, чему сопутствовало дарование «конституции почитаемой за непримиримого врага России, побеждён- ной и завоёванной Польше прежде, нежели она была дана победительнице её, самой России», – писал декабрист Д. Завалишин, вызвало негодование элитного офицерства. Александр I, разыгрывая на политической сцене роль всеевропейского благодетеля, в непомерном тщеславии своём обратил «сцену» в позорище (в позднем значении этого слова) России уже потому, что в пику общепринятой практике не потребовал у Франции возмещения убытков от истинно варварского нашествия на Россию. Исходя щедротами не только в отношении побеждённой Франции, царь дал Финляндии Карельский перешеек, отторгнутый Петром от Швеции по Ништадтскому миру (1721). 34
Михаил Сперанский
В таковых реалиях возмущение широких слоёв русского общества было более чем закономерно. Негодование вызвало то ещё, что, дав финнам (как и полякам) конституционные права, освободив латышских и эстонских крестьян от крепостной зависимости, – царь совсем забыл о русских крестьянах. Отменив в 1816—1819 гг. крепостное право в отсталой Прибалтике, но сохранив его для русских мужиков, Александр тем самым унизил историческую, а в свете недавней всенародной победы героическую Россию. Расписавшись в полном соответствии с представлениями Европы о России, – этаким не склонным к цивилизации разросшимся до гигантских размеров «медвежьим углом». Помимо «общих» моментов, участники движения, возглавленного героями Отечественной войны, видели оскорбительным, исторически не перспективным и попросту никчёмным самодержавное «обращение с нацией как с семейной собственностью» (М. Лунин). Один из главных идеологов движения декабристов, Никита Муравьёв утверждал в своей в недоверии и боязни собственного народа, царь, признал Страну неспособной вписаться в культурно-историческое бытие мира;
«Конституции»: «Русский народ, свободный и независимый, не есть и не может быть принадлежностью никакого лица и никакого семейства <…> Источник Верховной власти есть народ, которому принадлежит исключительное право делать основные постановления для самого себя».
Соглашаясь отнюдь не со всеми заключениями своего товарища, Павел Пестель был солидарен с Муравьёвым именно в этом вопросе: «Народ есть совокупность всех тех Людей, которые принадлежа к одному и тому же Государству, составляют Гражданское Общество имеющее целью своего существования, возможное Благоденствие Всех и каждого <…> А по сему Народ Российский не есть принадлежность или собственность какого либо лица или Семейства. На против того Правительство есть принадлежность Народа и оно учреждено для Блага Народнаго а не Народ существует для Блага Правительства» («Русская Правда»). Говоря коротко, в «Конституции» Пестеля ясно утверждается гегемония «коренного народа русского». Оспаривая тезис Н. Карамзина: идеологи движения провозглашали иной: (Муравьёв). Более того: Эта теза Муравьёва не только ставила под сомнение догмат российского абсолютизма, но признавала его гибельным для России. «Для Русского больно не иметь нации и всё заключить в одном Государе», – писал перед казнью П. Каховский – Николаю I. «история народа принадлежит царю», «история принадлежит народам» русская история – это история свободного народа.
Но голос восставших был неслышен, а их мысли – недоступны Николаю. По свидетельству С. М. Соловьева, царь «инстинктивно ненавидел просвещение. <…> Он был воплощённое: „не рассуждать!“». Не случайно Московский университет в глазах Николая виделся «волчьим гнездом», от вида которого, монарх, когда проезжал мимо, – впадал в дурное расположение духа. Таковое «видение» отнюдь не святого Николая подтверждает академик Ф. И. Буслаев. Словом, концепцию «не рассуждать!» целиком и полностью разделяли «птенцы гнезда Николая».
Современный историк Н. А. Троицкий, много времени уделивший изучению «птенцов» – с уставом в мозгу, розгами в «клювике» и волчьими повадками в отведённой им сфере деятельности – пишет об одном из них: «Шеф жандармов А. Ф. Орлов, провожая за границу друга, наставлял его: «Когда будешь в Нюрнберге, подойди к памятнику Гутенбергу – изобретателю книгопечатания и от моего имени плюнь ему в лицо. Всё зло на свете пошло от него». Николай I не давал таких напутствий, но в ненависти к печатному слову мог переплюнуть своего шефа жандармов. Самый дух николаевского царствования верно схвачен в реплике Фамусова из грибоедовского «Горя от ума»: «Уж коли зло пресечь, забрать все книги бы, да сжечь!« 35
Итак, дворянская реформация была обречена.
Разгром «декабристов», среди которых было немало героев Отечественной войны, казалось, надолго расставил все точки над «i». Подобрав на площади сотни изувеченных артиллерий- ским огнём трупов мятежников, режим ясно указал, – является «отцом народа» и какими методами будут вестись переговоры с оппозицией. Дым от пушек на главной площади Петербурга развеялся, гарь в сознании русского общества осела страхом, но необходимость реформ государства по-прежнему висела в воздухе. Об этом свидетельствовало экономическое отставание России, в лице функционеров окончательно запутавшейся в синедрионах высшей светской и духовной власти. Положение дел в Стране усугубляли синекуры не в меру разросшегося и в охотку вороватого чиновничества. начавшись с «дыма декабря», эшафота и последующей казнью, – Это был показательный урок для тех, кто, мысля и рассуждая вслух, осмеливался ещё и действовать. кто Однако решительность Николая, ограничилась каторгой и ссылкой противников застоя.
Придётся отметить, что в старании угодить царю (за исключением сенатора Н. С. Мордвинова, отличавшегося независимостью своих взглядов)Пятерых суд приговорил к четвертованию (впоследствии милостиво заменённому повешением). «Даже три духовные особы (два митрополита и архиепископ), которые, как предполагал Сперанский (назначенный царём членом Верховного уголовного суда. – В. С.), «по сану их от смертной казни отрекутся», не отреклись от приговора пяти декабристов к четвертованию», – сообщает историк (этот факт можно взять на заметку, но не буду настаивать). Далее Троицкий пишет: «10 июня 1826 г. был издан новый цензурный устав из 230 (!) запретительных параграфов. Он запрещал «всякое произведение словесности, не только возмутительное против правительства и поставленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение», а кроме того, многое другое, вплоть до «бесплодных и пагубных (на взгляд цензора. – Н. Т.) мудрований новейших времен» в любой области науки. Современники назвали устав «чугунным» и мрачно шути- ли, что теперь наступила в России «полная свобода… молчания». Руководствуясь уставом 1826 г., николаевские цензоры до- ходили в запретительном рвении до абсурда. Так, глава николаев- ского Министерства просвещения Ширинский-Шихматов изъял из учебных программ философию. А когда его спросили почему, то простодушно ответил: «Польза от философии не доказана, а вред от неё возможен». Другой цензор запретил печатать учебник арифметики, так как в тексте задачи увидел между цифрами три точки и заподозрил в этом злой умысел автора. Председатель цензурного комитета Д. П. Бутурлин (разумеется, генерал) предлагал даже вычеркнуть отдельные места (например: «Радуйся, незримое укрощение владык жестоких и звероподобных…») из акафиста Покрову Божией матери, поскольку они с точки зрения «чугунного» устава выглядели неблагонадежными. Сам Л. В. Дубельт не стерпел и выругал цензора, когда тот против строк: «О, как бы я желал /В тиши и близ тебя /К блаженству приучиться! -обращенных к любимой женщине, наложил резолюцию: «Запретить! К блаженству приучаться должно не близ женщины, а близ Евангелия» (Там же). весь состав суда был единодушен в отношении приговора «декабристам» , коим было «отсечение головы», вечная каторга, разжалование в солдаты.
Николай I
Это и есть то, что осталось в истории России под названием «николаевская реакция». Вздрогнув, и на время оцепенев, Cтрана впала в спячку, больше напоминавшую политическую кому. Впрочем, этого можно было ожидать.
Не помня заветы Петра Великого, (и, очевидно, не особенно желая) – Правительство выбрало пассивную имитацию Державы. Александр I, сплетая себе лавровый венок просвещённого победителя на европейских конгрессах,упустил время, , после «декабристов» решив, что «не должно сметь своё суждение иметь» (подлинные слова царя: «Должно повиноваться, а рассуждения свои держать про себя!»), – Триумф Победы в Отечественной войне выродился в плац-парады, пустой блеск которых высвечивал Так, движение «декабристов», ясно показав необходимость кардинальных перемен в социальной и политической жизни, – попутно выявило полную неспособность русского Двора к каким-либо переменам. Сделав шаг в давнее прошлое, определим проблему следующим образом: церковный Раскол предварил, а последующие совокупные политические и экономические упущения привели к тому, что не умея преобразовать энергию народа в общенародный социальный и культурный подъём, а Николай I отдалял от власти всех, кто стремился к законоустроительным переменам. вялый инстинкт социального самосохранения высших кругов русского общества. вслед за духовной основой Россия утеряла политическую базу своего развития. (Доп. IV) никому
Уяснение параметров внутреннего неустройства, очевидно, и вызвало горькие мысли Петра Чаадаева – «первого русского эмигранта», по словам Мережковского. По ряду причин не умея верно оценить фактор этнокультурного смешения, «внутренний эмигрант» в первом из восьми «писем» (1828—1830) печально констатировал сложившиеся в России реалии: «Мы живём в каком-то равнодушии ко всему… Мы явились в мир, как незаконнорожденные дети, (здесь и далее выделено мною. – В. С.), не усвоили себе ни одного из поучительных уроков минувшего. Каждый у нас должен которой мы соединились с целым человечеством…». «Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; так сказать, Мы так удивительно шествуем во времени, что, А. Пушкин с не меньшим отчаянием отмечает смежные свойства потерянной части народа: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь перед одним настоящим… Прошедшее для нас не существует. Жалкий народ». (это опять Чаадаев). Западный силлогизм нам не знаком». поколения и века протекли без пользы для нас, – с горечью констатирует Чаадаев положение вещей, которым гений М. Лермонтова в те же годы дал схожее объяснение в своей грандиозной по социальному охвату и психологической глубине «Думе». «Глядя на нас, – продолжает Чаадаев, – можно было бы сказать, что «Я не могу вдоволь надивиться этой необычайной – писал затвор- ник-поневоле и «сумасшедший» по царскому соизволению, наблюдая застывшее в своей неподвижности бытие гигантской Страны. без наследства, без связи с людьми, которые нам предшествовали сам связывать разорванную нить семейности, мы, чужды самим себе. по мере движения вперёд, пережитое пропадает для нас безвозвратно»! «У нас совершенно нет внутреннего развития, естественного прогресса; каждая новая идея бесследно вытесняет старые, потому что она не вытекает из них, а является к нам бог весть откуда… Мы растём, но не созреваем; движемся вперёд, но по кривой линии, то есть по такой, которая не ведёт к цели» «Всем нам не достаёт известной уверенности, умственной методичности, логики. «Исторический опыт для нас не существует; общий закон человечества был отменён по отношению к нам»… пустоте и обособленности нашего существования»,
Пётр Чаадаев
Однако всему происходившему в Империи есть «старое» объяснение. Чаадаев сумел разглядеть Отсюда воспоминания «не далее вчерашнего дня», коим, очевидно, было петровское правление – немилосердное к народу, беспощадное, повернутое к государству передом и к Стране задом. Ибо о страшных кострах и крючьях «позавчерашних» дней народ и сам старался не вспоминать… Трагизм Страны русский мыслитель видел яснее многих своих современников. Но, бичуя пороки искусственного происхождения, Чаадаев не отождествлял их с русской статью, русскими святынями и русским складом ума. По духу беспощадный мыслитель-гражданин, а по характеру врачеватель, – он нелицеприятно «Больше, чем кто-либо из вас, поверьте, я люблю свою страну, желаю ей славы, умею ценить высокие качества моего народа; – писал Чаадаев, – но верно и то, что патриотическое чувство, одушевляющее меня, не совсем похоже на то, чьи крики нарушили моё спокойное существование и снова выбросили в океан людских треволнений мою ладью, приставшую было у подножья креста. Я не научился любить свою родину с закрытыми глазами, с преклоненной головой, с запертыми устами. повреждение самости народа, его разуверенность в настоящем из-за отбитой памяти о прошлом. указывал на болезни, которые необходимо было выжечь из тела Страны.
…Более того, у меня есть глубокое убеждение, что мы призваны решить большую часть проблем социального порядка, завершить большую часть идей, возникших в старых обществах, ответить на важнейшие вопросы, какие занимают человечество»! 36
Увы, призвание это не было реализовано ни тогда, ни через поколения, ибо остались в народном теле те же, отравляющие его пороки… В целях осмысления причин, вернёмся к деятельности Петра и её следствиям в тех аспектах, которые как раз и получили развитие в высших управленческих звеньях России.
введя присягу на верность государю «и всему государству», – Пётр I неосторожно изъял из основ российской жизни освящённое святоотеческими традициями бытие. Понимая неразрешимость духовно-религиозного противостояния в Москве, царь, осушив и разлинеяв болота, – выстроил на их месте «северную Пальмиру» по западному образцу, куда и перенёс столицу России. В результате Империя в сколке «петербургской монархии» стала существовать как бы отдельно от остальной России, что и подтвердила вся последующая история Российского Государства. Заложив фундамент Великой России,
Насильственное внедрение объективно полезных и социально важных, но чуждых православному сознанию ценностей, вызвало у людей психологическое, духовное и бытовое отторжение. Народ нутром чуял, что «фряжские» нововведения несут в себе На проявления недовольства царь реагировал весьма жёстко, ибо понимал: отставание материального производства неизбежно ведёт к отсталости промышленности и ослаблению военного потенциала Страны, В то же время и «онемечивание» народа было невозможно и непродуктивно, ибо в качестве исторической самости Она же определяла и русскую народную культуру (дворянской, как таковой, в то время попросту не было). Нововведения Петра, по факту, привели к тому, что народ не принял «петербургскую Европу»в имперской ипостаси ограниченной пределами «Петербургской монархии». Уже при выстраивании претерпев серьёзную деформацию и потеряв связь с народом, «монархия», в лице верхов отгородившись от простого люда, замкнулась «в себе». Гербовое, декоративно-имперское бытие России закономерно и предсказуемо нашло свою обитель в полумифических пределах той же «Пальмиры». Н. Карамзин в «Записках о древней и новой России» утверждал: «Искореняя древние навыки, представляя их смешными, хваля и вводя иностранные, Государь России унижал россиян в собственном их сердце. (выделено мной. – В. С.)». И далее: Пётр I «не хотел вникнуть в истину, что дух народный составляет нравственное могущество государств… нужное для их твёрдости»! суть и идеологию протестантского мира. что недопустимо ни в каких политических реалиях и ни при какой вере. народ способен существовать лишь в той ипостаси, которая неразрывна с его духовной, этической и исторически слагавшейся сущностью. , Презрение к самому себе располагает ли человека к великим делам?
Реакция народа, который «увидел немцев в русских дворянах» (Карамзин), была единой – он отшатнулся от построенной на русских костях «Европы». По мере развития реформ простой люд всё меньше воспринимал правление Самодержца как царство, освящённое Божественной благодатью, воспринимая Петра как ренегата и даже «Антихриста из племени Данова». И в «петербургской», и в не петербургской России народ шептался о том, что царя подменили… что «настоящий» -де прячется в «стеклянном го- сударстве». Через неровные «стёкла» этого «государства» прелом- лялась внутренняя жизнь Страны – снизу доверху. Снятое с настила Отечества, великое государство в управленческих звеньях психологически съёживалось до имперского мифа, в духовной своей части разбредалось куда придётся, а в ипостаси Страны становилось ущербным и беспризорным!
Сделаем вывод: становление могучей и исторически долговременной Российской Империи потому не произошло, что, , пусть и не желая того, ценности которой зиждятся на социальном единстве и духовной базе народа, включающей в себя Пётр вычел из государства Страну, вероисповедание, традиции, обычаи и нравы.
На что опираются эти взаимосвязи и как не ошибиться в их оценке?
При анализе и оценке критических изломов истории важно исходить из того, что Страна предшествует государству. Как следствие социально-политического развития государство завершает общественное устроение, но суверенно существует до тех пор, Страна в ипостаси народного духа принадлежит Провидению, а государство – Кесарю, как социально ответственному за её обережение. Потому «Кесарь», олицетворённый государством, несёт по отношению к Стране функцию. Ибо И если Страну можно назвать храмом, в котором народ бытует в духовной и культурной ипостаси, то госу- дарство, скорее, несёт функцию ограды его живой обители. пока жив организм Страны. служебную Страна – это то, чем народ живет; а государство – то, что народ организовывает.
Именно двойственность духовного и бытийного существования (должная снять, наконец, с повестки дня опровергнутую самой историей ) говорит о том, что не всё, что подходит государству, приемлемо для Страны – Однако двойственность эта, со времён пастырского наущения греков пикируясь с реальностью, постоянно проигрывая ей и приведя к бесславной гибели «Второго Рима», – растворилась в стихии рос- сийской жизни, издавна психологически совместившей душу с бытием. Что касается разницы (в идеале и не желаемой) между Страной и государством, то, отвадив свои интересы от «материи», народ никогда особо не стремился вникать (не до того ему было) в «нюансы» и «каверзы» социальной жизни. Потому, в своём сознании ставя над всем Церковь и помазанника Божия государя-императора, не всегда отдавал себе отчёт в том, что во всём богатстве её духовного и бытийного диапазона всё же идею объединения церковной и государственной власти в обоих случаях не тождественных церковному бытию. Россия существует не на небеси, а на земле.

