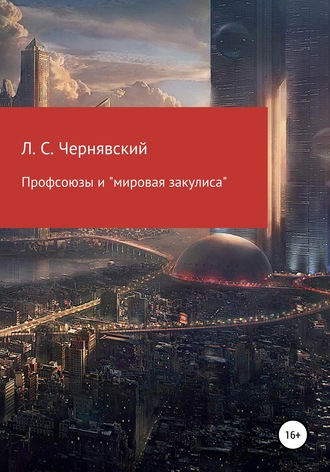
Полная версия
Профсоюзы и «мировая закулиса»
Другой расхожий пример, который ближе к нашей проблематике – уже упоминавшийся нами Алан Пинкертон (1819–1884) – в молодости шотландский социалист, после эмиграции в США в 1850 г. основал частное детективное агентство, которое сначала специализировалось на расследовании железнодорожных краж. Однако основной сферой деятельности агентства Пинкертона вскоре стала борьба против профсоюзного движения в США: инфильтрация агентов в руководящие органы профсоюзов, выслеживание профсоюзных лидеров, подготовка отрядов боевиков для борьбы против стачечников и т. п.[197]
Таким образом, подобно Франсуа Видоку или Алану Пинкертону действовал и бывший коммунист М. Росс, и бывший в молодости социалист Д. Дубинский, и – особо показательный пример (!) – Джей Ловстон (о котором подробнее будет рассказано выше), и многие другие. Кроме того, у тех, кто их использовал в своих целях, был расчет на то, что «бывшим левым» быстрее и больше поверят, чем правым консерваторам-ортодоксам (в плане реализации стратегии «продвижения некоммунистических левых»).
В статье, опубликованной в «Foreign Affairs»[198], М. Росс (от имени КПП) высказал свои соображения относительно того, что должны сделать американские профсоюзы в Европе (главным образом во Франции и Италии), для того, чтобы свести к нулю влияние коммунистов в профдвижении. В начале 1951 г. КПП, открыв свой офис в Париже, направил туда небольшую группу своих функционеров во главе с Виктором Рейтером. Предложения М. Росса и были сформулированы на основе отчетов, которые присылала в КПП группа В. Рейтера. М. Росс также фактически подтверждает (без прямых отсылок к оригиналу) готовность КПП участвовать в реализации тех основных задач, которые незадолго до этого поставил в своей статье Д. Дубинский перед американским профдвижением.
Таким образом, западная элита получила от влиятельных лидеров двух основных профцентров подтверждения того, что американские профсоюзы имеют ясно сформулированную программу своей внешнеполитической деятельности и готовы мобилизовать свои ресурсы для продвижения антикоммунистической и антисоветской внешней политики США.
Некоторые американские влиятельные профлидеры, которые не были членами СМО, тем не менее старались довести до этой организации свое видение проблем, стоящих перед американским обществом, и путей их решения. Одним из них, к примеру, был Альберт Шанкер[199].
Альберт Шанкер (Albert Shanker, 1928–1997) возглавлявший Американскую федерацию учителей (АФУ; American Federation of Teachers) с 1974 г. до своей смерти, был тесно связан с партией «Социал-демократы США (СД/США)», которая, как увидим далее, сыграла заметную роль как в профдвижении США, так и в СМО. Руководство Совета было заинтересовано в том, чтобы Альберт Шанкер, как человек весьма образованный и имевший, как лидер профсоюза учителей, прямое отношение к системе образования в США, состоял членом СМО. Но Шанкер так никогда и не стал членом СМО. Он, скорее всего, не изъявлял желания вступить в СМО, поскольку в таком случае деятель такого масштаба был бы принят. Но он ограничивался просто сотрудничеством с Советом, не желая себя связывать лишними обязательствами.
С 1980 г. профсоюзы американских учителей (АФУ и Национальная ассоциация образования) внесли почти $57.4 миллионов в избирательные федеральные кампании, что приблизительно на 30 % больше, чем внесла какая-либо корпорация или другой профсоюз. Около 95 % политических взносов от профсоюзов учителей были направлены демократам. В 2008 г. взнос АФУ в пользу избирательной кампании Хиллари Клинтон составил 1,784,808.59$ и 1,997,375.00$ – Бараку Обаме[200].
В 1951 г. состав профлидеров – членов СМО также пополнил Борис Шишкин (Boris Shishkin, 1908–1984). К тому времени этот эмигрант из Одессы во внешнеполитических делах в США ничем особым себя не проявил (кроме того, что в 1948 г. был специальным помощником А. Гарримана, курировавшего реализацию плана Маршалла в Европе). Видимо, коль скоро его пригласили в СМО, Шишкин подавал в этом плане большие надежды на будущее. Но затем он занимался сугубо внутренними профсоюзными проблемами: был главой отдела гражданских прав в АФТ-КПП (после 1955 г.), а затем – секретарем жилищного комитета АФТ-КПП. Тем не менее, он оставался членом СМО до своей смерти.
Б. Шишкин, не имевший прямого и тесного отношения к международной политике, казался человеком, случайно попавшим с СМО. Это говорило о том, что еще до конца не были выработаны критерии отбора кандидатур на приглашение в СМО из числа профсоюзных лидеров, тем более, что некоторые из них могли и не принять приглашение. Однако первый опыт участия профлидеров в СМО (в особенности Д. Дубинского и М. Росса) показал, что они имеют большой потенциал и могут внести свой вклад во внешнеполитических делах, особенно в условиях холодной войны.
2.2. Профлидеры в СМО в 1970-е
Л. Шоуп и У. Минтер, в 1977 г. опубликовавшие первое глубокое исследование о СМО, проанализировали состав СМО по признаку классовой принадлежности и профессиональной занятости[201]. Самая большая категория – 40 % – были заняты в бизнесе. 45 % членов Совета не были идентифицированы авторами как принадлежавшие к «капиталистическому классу». Это были ученые, правительственные чиновники, журналисты и т. п. Они имели достаточно высокий статус для того, чтобы быть принятыми в класс капиталистов и обладали профессиональными навыками, необходимыми для работы в Совете. И лишь небольшое меньшинство в СМО (менее 1 %) являлись профсоюзными лидерами, которые, как пишут Л. Шоуп и У. Минтер, в 1969 г. были представлены Джеем Ловстоном, Ирвингом Брауном и Уолтером Рейтером[202]. Включение этих трех профдеятелей в состав СМО, конечно же, было отнюдь не случайным – все они были весьма незаурядными фигурами в американском и международном профсоюзном движении и в целом в политике США. Кроме того, к этому следует добавить, что членами СМО к указанному времени были уже рассмотренные нами Д. Дубинский, С. Баркин и Б. Шишкин, а также У. Догерти[203], о котором речь еще будет впереди.
Присмотримся к ним более внимательно и попытаемся понять, какие функции они выполняли в СМО.
Пожалуй, наибольшего внимания из всех заслуживает Джей Ловстон.
Джей Ловстон (Jay Lovestone, урождённый Яков Либштейн, 1897–1990) родился в местечке Молчадь в Гродненской губернии (ныне – Брестская область Белоруссии) в семье раввина. В 1907 г. семья эмигрировала в США и поселилась в Нью-Йорке. С юных лет Ловстон проникся радикальными коммунистическими идеями. В 1918 г. окончил Сити-колледж, в 1919 г. поступил в юридическую школу Нью-Йоркского университета, но в том же году оставил её, чтобы полностью посвятить себя работе в Коммунистической партии США (КП США), в создании которой он принял самое деятельное участие в 1919 г. В феврале 1919 г. официально сменил имя на «Джей Ловстон».
В 1921 г. Ловстон стал редактором печатных органов КП США, а после смерти Чарльза Рутенберга[204] в 1927 г. возглавил партию. С 1923 г. в партии образовалось две фракции – группа Пеппера[205] -Рутенберга и группа Фостера[206] -Кэннона[207], – которые вели между собой ожесточенную борьбу за главенство. Ловстон стал сторонником первой из них.
После нескольких поездок в Москву (в Коминтерн) Дж. Ловстон с тщательно подобранной им делегацией из 10 американских коммунистов в 1929 г. отправился в очередную поездку, которая чуть не стала для него роковой. К их приезду в Коминтерне была сформирована специальная комиссия для рассмотрения ситуации, сложившейся в КП США – борьба двух фракций внутри партии делала ее практически недееспособной. Заседания комиссии с участием И. В. Сталина и, конечно же, американской делегации проходили ежедневно с 6 по 17 мая[208]. В первый день заседаний с большой речью выступил И. В. Сталин[209], который и задал тон обсуждений. В ходе проходивших в накаленной обстановке дискуссий фракция Ловстона была охарактеризована коминтерновцами как «группировка мелкобуржуазных, антикоминтерновских политиканов», «правых оппортунистов», «гнилых дипломатов», «спекулянтов» и т. п. Сталин назвал Ловстона «бизнесменом», что было воспринято последним как оскорбление[210], а в своей заключительной речи «вождь народов» еще и назвал присутствовавших американцев «штрейкбрехерами»[211], что для коммунистов было величайшим, непереносимым оскорблением.
В итоге американская делегация (кроме одного человека) отвергла все обвинения и заявила об отказе выполнять решение Коминтерна. Это был беспрецедентный, вопиющий случай в жизни Коминтерна. Вскоре, впрочем, большая часть делегации заявила о своем раскаянии, и им было позволено уехать домой. Ловстону же, который в соответствии с одним из пунктов решения комиссии был исключен из рядов КП США, предписывалось остаться в Москве. Он отдавал себе полный отчет в том, чем это ему грозит, поэтому использовал всю свою изобретательность, чтобы выбраться из «когтей медведя». Через своего знакомого американца литовского происхождения, служившего в ОГПУ, он смог добыть себе паспорт и билет на самолет и к 11 июня уже смог тайно покинуть Москву.
Тем временем руководство в КП США по распоряжению Коминтерна перешло к У. Фостеру, и Дж. Ловстон таким образом остался не у дел. Прибыв в США после бегства из Москвы, Ловстон попытался развернуть борьбу против Компартии США и У. Фостера на коммунистическом поле. Им были предприняты попытки создать свою, новую, «истинно ленинскую» компартию, которая должна была стать оппозицией КП США. Но какой-либо значительной поддержки со стороны «масс» получить не удалось – во всех коммунистических организациях, учреждавшихся Ловстоном с 1929 до 1941 гг., никогда не было больше, чем пятисот членов[212].
И тогда Дж. Ловстон перешел на другую сторону баррикад – он стал ярым, оголтелым антикоммунистом.
В дальнейшей деятельности на антикоммунистическом поприще ему большую помощь оказал Давид Дубинский, с которым Ловстон был знаком с 1918 г., когда они – тогда оба молодые социалисты – впервые встретились на одном из митингов в Нью-Йорке[213]. Сначала Ловстон, поработав некоторое время в одном из местных отделений в профсоюзе Дубинского (МПДП), в 1943 г. возглавил его международный отдел. Потом по рекомендации Дубинского Ловстон встал во главе Комитета свободных профсоюзов (КСП, Free Trade Union Committee), созданного по решению съезда АФТ в ноябре 1944 г. Офис КСП разместился в одной из тесных комнаток штаб-квартиры МПДП. «В течение следующих тридцати лет, – отмечает Тед Морган в пространно написанной биографии Дж. Ловстона, – Ловстон направлял международную деятельность АФТ. Работая негласно за кулисами в офисе в штаб-квартире МПДП в Нью-Йорке только с несколькими помощниками, он играл в настольную игру на карте мира, которая сделала его одним из вдохновителей и выдающихся умов холодной войны. Казалось невозможным, чтобы один человек в маленькой, загроможденной комнате мог сделать так много»[214].
Во все значимые с точки зрения АФТ страны для осуществления целей КСП в 1946 г. были направлены тщательно подобранные эмиссары. Главная задача, которая на них возлагалась, – вырвать профсоюзы из-под влияния коммунистов. Там же, где это было невозможно сделать из-за прочных позиций компартий в профдвижении своих стран, провоцировались расколы. Так в первые послевоенные годы были расколоты профцентры во Франции и Италии; в Германии из-за противодействия эмиссаров Ловстона не удалось создать единый профцентр для всех четырех зон оккупации, как того хотели коммунисты, выполняя указания советского руководства.
В 1964 г. после смерти М. Росса Дж. Ловстон возглавил международный отдел АФТ-КПП, тем самым получив еще бóльшую возможность реализовывать свои антикоммунистические спецоперации в международном профсоюзном движении.
За пределами Европы ловстониты (так называли сподвижников Дж. Ловстона) развернули свою антикоммунистическую деятельность в профсоюзном движении Африки (особенно в Северной), отдельных странах Азии, вели борьбу против коммунистов также и в американских профсоюзах.
В СМО Дж. Ловстон был (1964–1989 гг.) экспертом, аналитиком, советником по проблемам СССР, советской политики, вопросам борьбы с коммунизмом.
Ближайшим соратником Дж. Ловстона, его «alter ego», который реализовывал его антикоммунистические планы, а также принимал участие в их разработке, был Ирвинг Браун[215]. «В течение тридцати лет они работали вместе так тесно, что могли читать мысли друг друга»[216], – пишет Тед Морган.
Ирвинг Браун, до того, как членом СМО стал Дж. Ловстон, уже 10 лет входил в Совет (с 1954 г.) и затем покинул его за год до того, как это сделал его шеф (1988 г.). Ловстон, конечно же, направляя деятельность И. Брауна, в СМО мог продвигать свои идеи и планы и получать интересовавшую его информацию.
В 1952 г. журналом «Time» И. Браун был охарактеризован как «самый опасный человек» (статья о нем в «Time» так и называлась). «Как представитель АФТ в Европе, Ирвинг Браун стал одним из тех американцев, которых коммунисты знают лучше всего – и ненавидят больше всего. В Бельгии коммунисты называют его “серым кардиналом желтого интернационала”, в Италии – “лицом со шрамом, печально известным американским фашистским рэкетиром”, в Праге – “главным раскольником профсоюзов”», – говорилось в статье[217].
Именно И. Браун организовал расколы профцентров во Франции и Италии, прибыв в 1945 г. в Париж как представитель АФТ в Европе. В Греции его усилиями не было допущено распространение влияния коммунистов в профцентре Всеобщая конфедерация греческих рабочих[218].
Под руководством И. Брауна были сорваны попытки коммунистических профсоюзов саботировать план Маршалла при разгрузке американских судов в портах Франции, Италии и Греции. Самым драматическим эпизодом борьбы профсоюзов по поводу плана Маршалла стала т. н. «битва за порты». По инициативе И. Брауна в августе 1949 г. на Международной конференции докеров и моряков в Роттердаме было принято решение создать три региональных «комитета бдительности» профсоюзов: для Балтийского, Североатлантического и Средиземноморского регионов (последний с центром в Марселе). Во главе Средиземноморского комитета был поставлен профсоюзный лидер марсельских докеров, бандит и ценитель поэзии Пьер Ферри-Пизани. Средиземноморский комитет должен был обеспечить непрерывную доставку и отгрузку товаров по плану Маршалла в Средиземноморье; для этого необходимо было ликвидировать контроль, который установили коммунисты над профсоюзными организациями моряков и докеров[219]. Чтобы достичь этих целей, Браун и Ферри-Пизани организовывали группы докеров и моряков в главных французских портах, а также в средиземноморских портах. Вместо бастовавших докеров из коммунистических профсоюзов они нанимали итальянских рабочих, труд которых оплачивался за счет средств, поступавших от американцев. Для их охраны формировались отряды боевиков, поскольку штрейкбрехерство итальянцев нередко провоцировало кровавые потасовки в портах. В результате попытки коммунистов парализовать работу портов потерпели неудачу[220].
И. Браун сыграл ключевую роль в реализации плана Ловстона по расколу ВФП в 1949 г. Он участвовал в действиях ЦРУ, направленных на дестабилизацию обстановки в Чили с целью смещения президента С. Альенде.
Таким образом, главной задачей тандема «Ловстон-Браун» в СМО было противоборство с коммунизмом – и не только в профсоюзном движении, а и во всех иных сферах жизнедеятельности. Активность Ловстона на поприще антикоммунизма была тем более эффективна, что он превосходно знал его изнутри. Это был «франсуа видок» и «алан пинкертон» в одном лице в международном профдвижении XX века.
Несколько иной тип представлял собой У. Рейтер – очень противоречивая фигура в американском профдвижении.
Уолтер Рейтер (Walter Philip Reuther, 1907–1970) – родился в США в рабочей семье эмигрантов из Германии. В пятнадцатилетнем возрасте он поступил на металлургический завод учеником, а через три года устроился на автомобильный завод Форда в Детройте, связав тем самым всю свою последующую судьбу с автомобилестроительной отраслью.
В 1934-35 гг. со своим младшим братом Виктором Уолтер решил совершить кругосветное путешествие на велосипедах, во время которого они остановились на 16 месяцев в Советском Союзе, поступив рабочими на Горьковский автозавод. Попытка Советов построить государство рабочих произвела на него глубокое впечатление. Возвратившись в США весной 1935 г. братья Рейтеры решили осуществить революцию в отношениях между предпринимателями и рабочими.
У. Рейтер при этом руководствовался идеями американского социолога Т. Веблена, которыми он глубоко проникся, прочитав книгу «Инженеры и система цен»[221]. Веблен утверждал, что новые технологии позволяют создать в обществе неограниченное изобилие, но бизнесмены, управляя системой цен и создавая тем самым дефицит в целях получения сверхприбылей, не позволяют это сделать. Выход Веблен видел в том, чтобы отстранить бизнесменов от контроля над промышленностью и поручить это «инженерам-экспертам», которые будут служить общественному интересу. Рейтер же пошел дальше и пришел к выводу, что принятие экономических решений должно осуществляться совместно представителями бизнеса, профсоюзов и правительства.
Уолтер и Виктор Рейтеры становятся активистами Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности (ОПРАП), чтобы в перспективе занять в нем руководящие посты. В 1936 г. Уолтер возглавил небольшое местное отделение этого профсоюза в Детройте. Во время Второй мировой войны он высказывался против проведения забастовок, которые могли навредить военной экономике. В 1946 г. Уолтер был избран президентом ОПРАП (входившего в КПП), в 1952 г. – также президентом КПП, совместив этот пост с президентством в ОПРАП. Все это стало следствием личных качеств и харизмы Уолтера. Кэвин Бойл, автор статьи об У. Рейтере в «Энциклопедии профсоюзов и истории рабочего класса США»[222], характеризует его как «человека внушительного интеллекта, безграничной энергии и непомерных амбиций»[223]. Теперь он по своему статусу стал одним из влиятельнейших профсоюзных лидеров США.
У. Рейтер во время борьбы за руководство в ОПРАП установил тесные контакты с малочисленной, но влиятельной коммунистической фракцией профсоюза. Впоследствии, когда он приобрел огромное влияние в политической жизни США, это неоднократно служило основанием для обвинений Уолтера в сотрудничестве с коммунистами, в принадлежности к Компартии и даже в том, что он является чуть ли не агентом влияния Кремля. После войны была обнародована некоторая информация из досье на Уолтера Рейтера, составленном в ФБР[224], где содержались, например, поступившие от его «доброжелателей» свидетельства о том, что Рейтеры были направлены в СССР Компартией США, чтобы «получить образование в пропагандистском колледже в Москве»; одно из писем, присланных из Советского Союза друзьям в США в 1934 г., полное восхищения и восторженных впечатлений от «родины рабочих» (рассматривалось в Комитете по антиамериканским действиям Конгресса США; было опубликовано в газете «Saturday Evening Post» 14 августа 1948 г.), Уолтер заканчивает пафосным призывом: «Продолжим борьбу за Советскую Америку!»[225]. На слушаниях в Конгрессе У. Рейтер категорически отрицал свое авторство данного письма[226].
Возникает вопрос – насколько подозрения в адрес У. Рейтера в принадлежности к коммунизму соответствовали действительности? Нам кажется, что отвергать их как абсолютно необоснованные будет не совсем правильным. В 1946 г. У. Рейтер был в числе инициаторов изгнания коммунистов из КПП – было исключено 11 профсоюзов, во главе которых стояли коммунисты. Но этот факт еще ничего не означал. Рейтеры были вынуждены, чтобы доказать свою лояльность Америке, действовать в соответствии с той логикой, которую им задавала реальность. В условиях нараставшей реакции иначе было нельзя. Эти профсоюзы все равно были бы исключены. А так КПП становился менее уязвимым перед тогдашней американской реакцией. Как бы там ни было, но Уолтеру удалось нивелировать все обвинения в свой адрес, тем не менее он всегда выступал за установление контактов и сотрудничество с профсоюзами социалистических стран. Это стало одной из причин упорного противоборства У. Рейтера и президента АФТ (затем АФТ-КПП) Дж. Мини[227], который был категорическим противником такой политики. Но это же, как увидим дальше, стало одним из оснований для мировой элиты пригласить У. Рейтера на одну из конференций Бильдербергского клуба в 1966 г. (хотя это было не единственное из достоинств Уолтера, которое послужило поводом к этому), а затем и включить его в число членов СМО (1967–1969 гг.).
В 1949 г. он возглавлял делегацию КПП на лондонской конференции, на которой была учреждена Международная конфедерация свободных профсоюзов. Он вышел из Социалистической партии в 1939 г., и в 1950-60-ые гг. стал одним из наиболее влиятельных политиков в Демократической партии США.
После исключения прокоммунистических профсоюзов из КПП советские СМИ стали клеймить У. Рейтера как реакционера. На отношение к У. Рейтеру в СССР в значительной степени повлияло следующее событие. В 1959 г., во время визита Н. С. Хрущёва в США состоялась его встреча с группой американских профсоюзных лидеров (9 чел.), где наиболее видной фигурой был У. Рейтер, который выступил как главный оппонент тогдашнего советского лидера в дискуссии, охватывавшей широкий круг вопросов – от внешней политики до положения профсоюзов в СССР. По итогам этого визита коллектив советских авторов во главе с зятем Н. С. Хрущёва А. Аджубеем подготовил два пространных пропагандистских отчета[228], в которых этой встрече тоже было уделено внимание[229]. В отношении У. Рейтера авторы не скупились на самые едкие, язвительные эпитеты, назвав его «политическим лжецом», «подлым адвокатом капитализма», а профлидеры США в целом характеризовались как «люди вчерашнего дня».
В то же самое время в США консерваторы считали У. Рейтера чуть ли не «агентом Кремля». В 1958 г. сенатор, будущий кандидат в президенты и один из наиболее видных правых консерваторов в США, убежденный антикоммунист Барри Голдуотер объявил Рейтера «более опасной угрозой, чем спутник[230] или что-либо подобное, что могло исходить от Советской России для Америки». Это высказывание Голдуотера о Рейтере затем многократно цитировалось в различных публикациях[231].
У. Рейтер весьма критически относился к войне США во Вьетнаме, выступал за ядерное разоружение, активно поддерживал борьбу афроамериканцев за расовое равноправие. Он стоял рядом с Мартином Лютером Кингом, когда тот произносил свою знаменитую речь «У меня есть мечта» в 1963 г. в Вашингтоне.
Очень важно отметить то, что У. Рейтер имел постоянные контакты с президентами США, которые считали необходимым советоваться с ним по различным вопросам. Он встречался еженедельно с президентом Джонсоном в 1964–1965 г. для обсуждения законодательных и политических инициатив[232]. До этого, как рассказывал Виктор Рейтер советскому резиденту внешней разведки КГБ в Вашингтоне в 1962 г.[233], его старший брат У. Рейтер (в то время вице-президент АФТ-КПП) часто встречался с президентом Дж. Кеннеди и его братом Робертом Кеннеди. Президент Кеннеди советовался с У. Рейтером по различным вопросам внутренней политики, при встречах же с Р. Кеннеди обсуждались главным образом вопросы деятельности Демократической партии. В это время в США почти ни у кого не было сомнения, что У. Рейтер вскоре заменит Джорджа Мини на посту президента АФТ-КПП. Рейтер стал, по словам одного историка, «наиболее влиятельным профсоюзным лидером в стране»[234].
В 1968 г., посчитав, что профцентр АФТ-КПП слишком консервативен и неспособный к обновлению, У. Рейтер вывел из него свой профсоюз, намереваясь создать новый профцентр, который, как докладывал Виктор Рейтер во время доверительной беседы в ВЦСПС в Москве 27 июня 1968 г., будет «продолжать проведение политики на установление и расширение контактов с профсоюзами СССР и других социалистических стран»[235].
Под его руководством ОПРАП при заключении коллективных договоров вышел далеко за пределы вопросов ставок заработной платы. Рейтер заставил владельцев автомобильных корпораций обеспечить своим рабочим страховое здравоохранение, пенсионные программы, оплачиваемые отпуска, надбавки на рост стоимости жизни, частичное возмещение семейных расходов в случае безработицы. Он мечтал о процветании американских городов, в которых вместо грязных гетто с процветающей преступностью были бы построены современные дома для бедных.
Однако все планы и проекты У. Рейтера остались несбывшимися и в составе СМО он пробыл очень недолго – в 1967–1969 гг.
9 мая 1970 г. У. Рейтер и еще 5 человек (включая жену Мэй и двух чел. экипажа) погибли в США во время авиакатастрофы частного самолета, причиной которой, как было выяснено следствием ФБР, стали семь неисправностей высотомера. Однако не было до конца понятно – высотомер отказал из-за случайной поломки, или был выведен из строя специально. За полтора года до этого, в октябре 1968 г., Уолтер и его брат Виктор едва избежали смерти в результате подобного инцидента в США также во время перелета в небольшом частном самолете[236]. Несколько лет спустя Виктор Рейтер говорил в интервью Майклу Паренти[237]: «Я и вся наша семья были убеждены, что и фатальная катастрофа, и почти фатальная в 1968 г. не были случайными»[238]. М. Паренти, тщательно проанализировав все обстоятельства крушения самолета, пришел к выводу, что это произошло отнюдь не случайно – в смерти Уолтера были заинтересованы очень многие[239]. «Маловероятно, – пишет М. Паренти, – чтобы семь неисправностей высотомера были бы не обнаружены, если бы он был должным образом осмотрен перед полетом»[240]. «Смерть Рейтера выглядит как часть плана по уничтожению либеральных и радикальных руководителей, который включал убийства четырех других фигур национального масштаба: президента Джона Кеннеди, Малкольма Икса, Мартина Лютера Кинга и сенатора Роберта Кеннеди, а также десятков лидеров партии «Черные пантеры» и различных общественных организаций. Смерть Уолтера Рейтера была частью более широкого плана по обезглавливанию и деморализации массовых движений того периода. Существовал ли такой план вообще – это вопрос, который находится за пределами нашего расследования»[241] – заключает М. Паренти.

