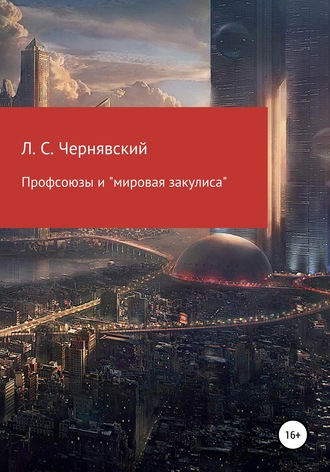
Полная версия
Профсоюзы и «мировая закулиса»
Такое настойчивое стремление со стороны американских государственных чиновников привлечь именно КПП к усилиям по поддержке американской внешней политики обусловливалось тем, что лидеры этого профцентра, до 1948 г. входившего в ВФП[158], вызывали больше доверия у европейских рабочих.
Таким образом, роли между АФТ и КПП были распределены: АФТ должна была чинить всяческие препятствия усилению влияния и проникновению коммунистов в профсоюзах, вырывать профсоюзы из-под влияния коммунистов; КПП должен был оказывать пропагандистскую поддержку внешней политике американских администраций (хотя такая же задача, стоявшая перед АФТ, тоже не снималась, но находилась как бы на втором плане).
Итак, если до окончания Второй мировой войны в СМО представителей профсоюзов было крайне мало, то с 1946 г. профсоюзных лидеров начинают более активно привлекать в его состав. «Крайне мало» означает в данном случае, что в межвоенный период в СМО появились лишь два профсоюзных деятеля – люди весьма незаурядные. Это были Уильям Грин и Давид Дубинский.
Уильям Грин (William Green, 1873–1952) стал президентом АФТ после смерти основателя и первого президента профцентра Сэмюэля Гомперса в 1924 г. Вскоре он был приглашен и в СМО (в 1928 г.), в составе которого находился по 1942 г.[159] Его биография, до того, как он стал президентом АФТ, не была особо впечатляющей: 1910 г. он был избран в Сенат штата Огайо от Демократической партии; в 1914 г. стал членом Исполнительного совета, а в 1916 г. – секретарем-казначеем АФТ. Сведения о том, что он был одним из делегатов от США на Парижской мирной конференции в 1919 г.[160], не подтверждаются[161].
Как лидер в то время единственного профцентра в стране, который пытался установить сотрудничество между трудом и капиталом на основе библейских заветов (и это импонировало большому бизнесу), У. Грин и стал членом СМО. В то же время Грин был весьма неоднозначной фигурой. Его историки неизменно изображают неуклюжим, некомпетентным, тщеславным и безграмотным человеком, который был непосредственно ответствен за раскол в профсоюзном движении в 1935 г. (когда КПП отделился от АФТ)[162].
Грин, став первым членом СМО из числа профсоюзных лидеров, тем самым создал прецедент, когда глав американского профцентра стали приглашать в состав СМО ex officio. Однако были и исключения – два из них (хотя их всего было не так уж много) – Джордж Мини и Ричард Трумка не состояли членами СМО. Объяснение такого положения вещей будет дано ниже.
Давид Дубинский[163] (Dubinsky, David; 1892–1982) родился в Брест-Литовске (Брест в современной Белоруссии), вырос в Лодзи, где стал секретарем Союза лодзинских пекарей, основанного Бундом[164]. В его биографии иногда приводят такую пикантную подробность: он был арестован за организацию забастовок в пекарне своего отца[165]. В 1909 г. царским правительством был сослан в Сибирь. По дороге в ссылку бежал и в 1910 г. эмигрировал в США. В Нью-Йорке работал закройщиком, стал активным членом социалистической партии, в 1932 г. был избран президентом Межнационального профсоюза дамских портных (МПДП) (International Ladies' Garment Workers' Union, ILGWU), состоявшего в основном из эмигрантов, и возглавлял его до 1966 г. Упорно боролся против присутствия коммунистов в профсоюзах, а также против коррумпированных, связанных с мафией профлидеров. Поначалу играл видную роль в Конгрессе производственных профсоюзов, в организации которого участвовал в 1935 г. Принимал участие в организации Американской рабочей партии, а в 1946 г. – в организации Либеральной партии. Создал влиятельное лобби своего профсоюза в американском Конгрессе. Был близко знаком и тесно общался с такими видными американскими политиками как Франклин Д. Рузвельт, Гарри С. Трумэн, Эдлай Стивенсон, Дуайт Д. Эйзенхауэр, Джон Ф. Кеннеди, Роберт Ф. Кеннеди, Линдон Джонсон, Губерт Хэмфри, Нельсон Рокфеллер.
Д. Дубинский был одним из влиятельнейших профлидеров США, которые активно интересовались международными проблемами и также активно участвовали в мировой политике. Как член исполнительного совета Еврейского рабочего комитета (основанного в 1933 г.) Дубинский помогал беженцам из Европы. Он выступал за обеспечение представительства американского профдвижения в Международной организации труда. После Второй мировой войны Дубинский активно выступал за создание Государства Израиль. В 1947 г., как уже было отмечено, он был включен в действовавший на неофициальном уровне комитет по разработке плана Маршалла. Дубинский активно сотрудничал с Дж. Ловстоном[166], офис которого после создания Комитета свободных профсоюзов[167] с 1944 г. размещался в штаб-квартире МПДП. Они оба ставили своей целью не допустить усиления влияния коммунистов не только внутри страны, но и за ее пределами. Профсоюз Дубинского стал своего рода «отделом кадров», подготовившим целую плеяду профсоюзных функционеров, выполнявших различные деликатные поручения Ловстона по участию в организации спецопераций в мировом профсоюзном движении с единственной целью – всячески препятствовать распространению коммунизма в профсоюзах.
Пожалуй, наиболее видным из них был С. Ромуальди, называвший себя «профсоюзным послом США в Латинской Америке».
Серафино Ромуальди (Serafino Romualdi, 1900–1967) родился в Италии, где после окончания учительского колледжа некоторое время работал в школе, а затем – журналистом. В 1923 г., будучи оппозиционно настроенным в отношении установившегося фашистского режима Б. Муссолини, эмигрировал в США. В 1933 г. вступил в МПДП, президентом которого незадолго до этого стал Д. Дубинский. С мая 1944 по апрель 1945 гг. служил в Управлении стратегических служб США (на основе которого вскоре было создано ЦРУ). Впоследствии, уже будучи «профсоюзным послом США в Латинской Америке», продолжал тесно сотрудничать с ЦРУ. Филипп Эйджи в своей знаменитой книге назвал Ромуальди «основным агентом ЦРУ для проведения операций в профсоюзах Латинской Америки»[168]. В 1948 г. Ромуальди был назначен представителем АФТ в Латинской Америке. После учреждения (при ведущей роли Ромуальди) Американского института развития свободных профсоюзов (АИРСП) в 1962–1965 гг. он стал его исполнительным директором. В АИРСП – некоммерческой организации, финансируемой профсоюзами, бизнесом и правительством, – обучали молодых лидеров из латиноамериканских стран «демократическим» принципам деятельности профсоюзов, а также тактике защиты против проникновения коммунистов и рэкетиров в профсоюзное движение.
Ромуальди чрезвычайно много сделал для подрыва позиций и влияния коммунистов в латиноамериканском профдвижении, оставив об этой своей деятельности пространные воспоминания.[169] Он исколесил всю Латинскую Америку вдоль и поперёк, имел многочисленные встречи с политическими лидерами, главами государств, правительств, профсоюзов и простыми тружениками, знал общественные настроения и располагал другой специфической информацией. Такой политический эксперт по Латинской Америке был, конечно же, весьма ценным для СМО, членом которого Ромуальди был в 1961–1967 гг.[170]
В числе «кадров», взрощённых в МПДП, кроме Ромуальди, еще можно назвать и других (но при этом данный список будет отнюдь не полным):
– Луиджи Антонини (Luigi Antonini, 1883–1968) – вице-президент МПДП. Был основателем Итало-американского профсоюзного совета (Italian-American Labor Council). Вместе с Д. Дубинским создавал Американскую рабочую партию (1936 г.), а затем – Либеральную партию. В 1944 г. от Американской федерации труда (и ЦРУ) был командирован в Италию, где при его активном участии был расколот созданный во время войны и находившийся под значительным контролем коммунистов единый профцентр Всеитальянская конфедерация труда, а также не состоялось объединение в одну партию итальянских социалистов и коммунистов[171];
– Майда Спрингер (Maida Springer Kemp, 1910–2005), действовавшая в профдвижении Африки[172] с той же целью, что и Ромуальди в Латинской Америке;
– Моррис Паладино (Morris Paladino, 1920–1991) – член МПДП, в 1960 г. был назначен для работы в Латинской Америке, где был лектором АФТ-КПП в Бразилии в то время, когда там по плану, разработанному ЦРУ (в котором были задействованы профсоюзы, возглавлявшиеся лидерами, подготовленными в АИРСП), был свернут «прокоммунистический диктатор» президент Жоао Гуларт. Позже был заместителем генерального секретаря Межамериканской региональной организации трудящихся, а затем, с 1964 г., заместителем директора AIFLD[173] (когда исполнительным директором был С. Ромуальди). По настоянию президента АФТ-КПП Дж. Мини в 1967 г. его назначили помощником генерального секретаря МКСП. После выхода АФТ-КПП из МКСП (1969) стал директором AAFLI.
– Эдвард Молизани (Edward Molisani, 1911–1987) – деятельность этого персонажа будет более детально рассмотрена в главе IV данной монографии.
Для СМО ценность Д. Дубинского заключалась прежде всего в его антикоммунизме, который он всеми силами пытался распространить в международном профсоюзном движении.
После создания в декабре 1949 г. Международной конфедерации свободных профсоюзов (МКСП)[174], одним из основателей которой был Д. Дубинский, ему предоставили возможность на страницах главного теоретического и пропагандистского рупора СМО – журнала «Foreign Affairs» – изложить свои соображения относительно роли недавно учрежденной МКСП в деле подрыва позиций коммунистических профсоюзов в мировом профдвижении[175]. В своей статье он обосновывал тезис о том, что теперь в лице МКСП Запад получил «новое оружие» в борьбе с мировым коммунизмом. Это был развернутый манифест деятельности АФТ в международном профсоюзном движении, ее участия во внешней политике США, программа, рассчитанная на десятилетия. Конечно же, при этом краеугольным камнем должен был стать антикоммунизм. Дубинский намечал несколько основных направлений этой деятельности:
1) красной нитью через всю статью проходила мысль о бескомпромиссной борьбе против коммунизма, который после разгрома нацизма «стал главной опасностью для демократии и мира во всем мире», а также против ВФП как «инструмента империалистической внешней политики Кремля»;
2) американское профсоюзное движение должно сыграть главную партию в этой международной кампании;
3) коль скоро зарубежные члены профсоюзов были впечатлены высоким уровнем жизни в США и тем фактом, что в США члены профсоюзов располагают значительным признанием и бóльшим количеством прав, чем в большинстве других стран, имеют традиционную независимость от всех политических партий, у них критическое отношение к государству и враждебность ко всем разновидностям тоталитаризма – это дает право американским профсоюзам и налагает на них обязанность распространять свою модель профсоюзного движения в других странах и частях мира («учить своих друзей за границей»);
4) американское профсоюзное движение должно сыграть важную роль в преодолении разногласий между христианскими и социалистическими профсоюзами в Европе с тем, чтобы объединить их усилия в борьбе против мирового коммунизма; именно американцы настояли на том, чтобы избрать в исполнительный комитет МКСП присутствовавшего на учредительном конгрессе руководителя (в 1950–1958 гг.) итальянского католического профцентра (Итальянская конфедерация профсоюзов трудящихся, ИКПТ) Джулио Пасторе. Дубинский довольно много рассуждает о католическом профдвижении и высказывает явное намерение добиться под эгидой американских профсоюзов объединения усилий с католическими профсоюзами в «общей борьбе с советским тоталитаризмом». Самыми сильными и влиятельными в международном профцентре католических профсоюзов (Международная конфедерация христианских профсоюзов, МКХП) были итальянцы и французы. Лидер ИКПТ Дж. Пасторе в то время довольно охотно шел на сотрудничество с американцами. Поэтому американцы имели на него большие виды. Потом он даже был приглашен на бильдербергские конференции, состоявшиеся в 1955 г. в Барбизоне (Франция), в 1956 г. в Феденсборге (Дания) и в 1957 г. в Фьюджи (Италия). Но в целом католические профлидеры, особенно французы, не весьма приветствовали такую дружбу. Объединения с ними удалось добиться только в 2006 г.
5) поскольку профсоюзы слаборазвитых стран рассчитывают на поддержку США в их борьбе за национальную независимость, американские профсоюзы должны взять под свою опеку профсоюзное движение в этих странах.
В конце статьи Д. Дубинский делал вывод о том, что американские профсоюзы несут двойную ответственность: они должны не только активно участвовать в работе МКСП, но и не менее решительно влиять на внешнюю политику правительства США с тем, чтобы она оставалась «последовательной и твердо демократичной» (следует понимать «антикоммунистической»).
Это был своего рода развернутый «антикоммунистический манифест» АФТ (в скором будущем – АФТ-КПП).
Собственно, Д. Дубинский был одним из наиболее видных лидеров, которые вырабатывали политику и решения об участии американских профсоюзов в международном профсоюзном движении. Он был членом СМО с 1939 по 1976 г.[176]
Отношения между членами СМО и профлидерами в первые послевоенные годы (а затем – и в более позднее время) были довольно противоречивыми. С одной стороны, большинство членов СМО не очень высоко оценивали профлидеров и неохотно включали их в свои ряды. Профсоюзные лидеры, в свою очередь, не изъявляли большого стремления быть приглашенными в СМО. Члены СМО были явно разочарованы, огорчены и обмануты в своих лучших намерениях и побуждениях отсутствием интереса со стороны профлидеров в участии в деятельности СМО[177]. «Стремясь расширить свою сферу влияния, – пишет П. Гроус, – Совет преследовал цель вовлечь в свои ряды лидеров американского профсоюзного движения, признавая тот факт, что профсоюзы стали существенным и динамическим фактором в мировой экономике. Финансисты, профессора и профессиональные дипломаты, которые становились влиятельными лицами в руководстве Совета, не понимали, что профсоюзные лидеры, которые сделали свою карьеру в классовой борьбе против капитала и менеджмента, не могли чувствовать себя непринужденно среди общего высокомерия и элитных перспектив Совета»[178].
С другой стороны, они понимали возросшее значение профсоюзов, особенно в конце Второй мировой войны, и их важную роль в любых попытках продвинуть американскую внешнюю политику, разумеется, при поддержке политического руководства страны.
Однако стремление пристегнуть американские профсоюзы к колеснице капитала и его политике заключалось не только в той роли, которую они могли сыграть в международных делах. Некоторые влиятельные критики с Уолл-стрит считали, что СМО должен побуждать американские профсоюзы к более взвешенной позиции при их стремлении добиться преференций для своих членов (меньше работать, меньше производить при более высокой заработной плате), даже приводя при этом им в пример их вечных оппонентов – профсоюзы СССР[179]. Видимо, не без влияния таких соображений в 1946 г. Совет директоров СМО решил пригласить новых профлидеров в состав СМО. Были отобраны и приглашены несколько человек, но только три приняли приглашение – Роберт Дж. Уатт, Соломон Баркин и Майкл Росс, за счет которых состав СМО в 1947 г. пополнился новыми профсоюзными деятелями.
Роберт Дж. Уатт (Robert J. Watt, 1893–1947), несмотря на довольно скромное образование (6 классов), считался одним из самых влиятельных и интеллектуальных лидеров в американском профдвижении[180]. В течение 11 лет, с 1936 по 1947 г., он представлял АФТ на ежегодных конференциях МОТ. Выполнение этой миссии требовало, конечно же, недюжинных способностей дипломата и знаний в международных делах. На Сан-Францисской конференции Объединенных Наций (25 апреля – 26 июня 1945 г.), где была учреждена ООН, он заявил, что АФТ никогда не будет находиться в одной организации вместе с советскими профсоюзами[181] (имелась в виду ВФП). В обстановке послевоенной всеобщей эйфории и братания, когда всем казалось, что наступил вечный мир, а планы «холодной войны» еще только вынашивались в темных кабинетах американской администрации, такое публичное заявление было довольно вызывающим. Однако в США оно никого не смутило – все знали о твердокаменном антикоммунизме руководящей верхушки АФТ. Такая позиция американского профсоюзного истеблишмента импонировала заправилам СМО и стала решающим соображением при приглашении и Д. Дубинского, и Р. Уатта в состав СМО. Однако Уатт пробыл в СМО весьма недолго – уже в 1947 г. он умер на борту морского лайнера «Saturnia» от сердечного приступа в возрасте 53 лет, возвращаясь с очередной конференции МОТ.
В профдвижении США С. Баркин (Solomon Barkin) представлял собой тип интеллектуала. Он родился в Нью-Йорке в 1902 г.; в 1928 г. получил степень бакалавра в Колледже Нью-Йорка, а в следующем году – степень магистра экономики в Колумбийском университете. Преподавал в том же Колледже Нью-Йорка с 1928 до 1931 гг. В 1930-ые работал в муниципальных и государственных органах, занимавшихся социальными и трудовыми вопросами. С 1937 до 1963 гг. Баркин был директором исследовательского центра Профсоюза текстильных рабочих Америки (TWUA)[182]. В это время он и был приглашен в состав СМО, где пробыл, впрочем, недолго. Как сообщает M. Вала[183], через четыре года (в 1950 г.) в СМО остался только Д. Дубинский[184]. Тем не менее, есть сведения, что в 1961 г. С. Баркин снова принимал участие в деятельности СМО (до 1985 г.) вместе с другим профсоюзным лидером – Стэнли Руттенбергом[185].
Что касается Стэнли Руттенберга (Stanley Ruttenberg, 1917–2001), то здесь произошла явная ошибка – он никогда не был членом СМО. Как и С. Баркин, в 1950-е гг. он стал известным как видный экономист в профсоюзном движении США, являясь главой исследовательского отдела АФТ-КПП. Позднее, в 1963 г. президент Линдон Б. Джонсон назначил С. Руттенберга специальным помощником министра труда. В то время в США еще имели большое влияние кейнсианские идеи регулирования экономики и специалисты такого рода пользовались значительным спросом.
Другой тип американских профлидеров представляли собой уже упоминавшийся Давид Дубинский и Майкл Росс, сосредоточившие свое внимание главным образом на проблемах международного профсоюзного движения.
Вскоре, после Д. Дубинского, возможность изложить на страницах «Foreign Affairs» свое видение задач, стоявших пред американским профдвижением в его усилиях оказывать поддержку американской внешней политике, получил и глава международного отдела КПП Майкл Росс. Здесь следует сделать оговорку о том, что публикации в этом органе СМО были не просто упражнениями авторов в изящной словесности. После того, как какая-либо статья появлялась в журнале СМО, она сразу же приобретала характер рекомендаций к исполнению теми, кому она была адресована (в данном случае – лидерам американского профдвижения).
Майкл Росс (Michael Ross, 1898–1963) – директор международного отдела, сначала в Конгрессе производственных профсоюзов (в 1945–1955 гг.), а после слияния КПП с АФТ в 1955 г. – в такой же должности в АФТ-КПП с 1958 до его смерти в 1963 г. Чем же он был так ценен для американской политической элиты, чем привлек ее внимание к своей особе, что его пригласили в СМО в 1946 г. и где он пребывал до своей смерти в 1963 г?
О Майкле Россе осталось весьма мало сведений в истории[186], тем не менее, постараемся понять – в силу каких свойств он приглянулся американским элитариям?
Майкл Росс родился в рабочей семье в Лондоне в 1898 г. Там же окончил среднюю школу, но из-за начавшейся Первой мировой войны не смог продолжить свое образование. В возрасте 16 лет в 1915 г. был призван в армию и прослужил рядовым на фронтах Первой мировой до ее окончания. После демобилизации и до середины 1920-х гг. каких-либо внятных сведений о его жизни нет – вроде бы как вел богемный образ жизни, вращаясь в среде лондонской левонастроенной молодежи. В 1926 г. он уже член Лейбористской партии, а в конце 1920-х вступает в Коммунистическую партию Великобритании. В период с 1928 по 1931 гг. М. Росс – внештатный журналист газет «Daily Herald» и «New Statesman» в Европе.
В 1931 г. М. Росс неожиданно, при совершенно непонятных обстоятельствах и по неясным причинам и мотивам уезжает в СССР, где устраивается работать в книжное издательство и пишет статьи для издававшегося в СССР на английском языке журнала «Young Guard» (Молодая гвардия). Пребывание Росса в СССР удивительно напоминает подобные приключения другого, более известного персонажа. Подобно тому, как в свое время Джон Рид в ходе своего общения с большевистскими лидерами изучал их образ мышления, их планы, обстановку в их среде, а затем, после его корреспонденций и книг, большевиков смогли лучше понять (и, соответственно, выстраивать с ними политику) представители американской правящей элиты[187], так же действовал и М. Росс. Вполне можно предположить, что М. Росс оказался в Советском Союзе неслучайно и имел подобный статус.
Находясь в СССР, он познакомился с американцем Кларком Форменом[188], который вскоре, уехав на родину, помог перебраться в США (в 1933 г.) и получить гражданство (в 1941 г.) и М. Россу. Сначала Росс поработал исследователем в Администрации общественных работ, а затем – научным сотрудником в Комитете по гражданским свободам Сената (более известном как «Комитет Ла Фоллетта»), расследовавшем антипрофсоюзные действия в американской промышленности. Это дало ему возможность приобрести нужные знакомства среди влиятельных деятелей в администрации Ф. Д. Рузвельта.
Последняя работа позволила ему получить должность директора по научно-исследовательской работе в профсоюзе моряков и судостроителей, который являлся членской организацией Конгресса производственных профсоюзов США. В 1945 г., напомним, он был назначен директором Международного отдела КПП, а в 1955 г., после слияния АФТ и КПП стал директором Международного отдела АФТ-КПП, проработав в этой должности до своей смерти. Занимаясь международными делами в КПП, М. Росс имел возможность продолжать накапливать опыт изучения коммунистических лидеров.
В литературе, имеющей отношение к международному профсоюзному движению, – отмечает в своей статье Дж. Боугтон, – Росс «рассматривается как второстепенная фигура». Как чиновник, занимавший невыборную должность в профцентрах США, он «имел в лучшем случае влияние, но не власть»[189].
М. Росс был ценен для СМО своей деятельностью в международном профсоюзном движении, но это была особая деятельность: во время этой работы он получил возможность приобрести опыт общения с коммунистическими лидерами, понять их образ мыслей и настроений, логику поведения и т. п.
М. Росс, являясь директором Международного отдела КПП, в период 1945–1949 гг. в коммунистических профсоюзах ещё считался «своим» (хотя негласно уже был членом СМО) и даже фигурировал в документах ВФП как «товарищ Михаил Росс»[190] – т. е. менее чем за полгода до того, как КПП вышел из ВФП и принял участие в учреждении МКСП. Это не могло не вызывать в сознании Росса «когнитивный диссонанс».
Переход М. Росса на открыто антикоммунистические позиции был встречен американской политической элитой с одобрением и повысил его статус в ее среде. В 1950 г. исполняющий обязанности консультанта по труду Госдепартамента США Бернард Визман в своем выступлении так характеризовал деятельность М. Росса: «В нашей стране имеются два профсоюзных консультанта: мистер Делани[191] для АФТ и мистер Росс для КПП, которые дают ценные советы»[192]. Какого свойства были эти «ценные советы» – об этом остается только догадываться, но в любом случае опыт Росса, приобретенный в ходе общения с коммунистами, играл здесь не последнюю роль.
Возникает вопрос – был ли М. Росс изначально антикоммунистом, инфильтрованным в ряды Компартии (Великобритании) с определенной целью, или же стал таковым буквально за несколько месяцев? По этому поводу остается только строить догадки, но в любом случае, став на этот путь, он попал в категорию тех, кого начали использовать западные спецслужбы в своей стратегии, получившей несколько позднее, после создания Конгресса за свободу культуры[193], название «продвижение некоммунистических левых», которая стала «теоретическим основанием политической работы против коммунизма на два следующих десятилетия»[194]. «Эти бывшие пропагандисты Советского Союза были переформатированы, очищены от коммунизма и использованы правительственными стратегами, которые видели в их обращении неотразимую возможность для саботажа советской пропагандистской машины, которую те когда-то смазывали»[195].
Здесь считаем необходимым сделать небольшую оговорку. История неоднократно демонстрировала, что никто так оголтело и эффективно не борется со своими бывшими сотоварищами, как отступники и ренегаты.
Хрестоматийный пример этого – Эжен Франсуа Видок (1775–1857), бывший преступник, добровольно ставший начальником Парижской тайной полиции в XIX веке, равного которому не было в деле изобличения и поимки преступников. Видок сформулировал свое кредо в словах: «Только преступник может побороть преступление». Эту свою деятельность он описал в захватывающих воспоминаниях[196].

