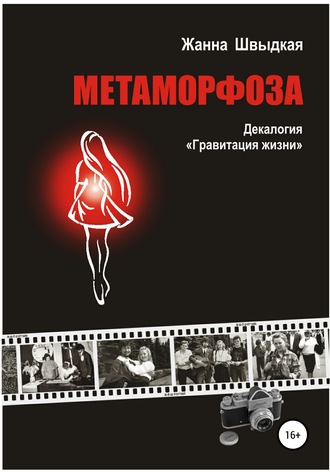
Полная версия
Метаморфоза. Декалогия «Гравитация жизни»
Глава 2. Что люди скажут
Как жить после такого провала, я не знала, как и не знала, что дальше делать. Я словно упёрлась в незримую стену, о существовании которой на своём пути даже не догадывалась, а следовательно, запасного плана тоже не имела. Для себя я, конечно, нашла железобетонные аргументы в пользу своей невиновности, но объяснить каждому встречному, что в институте меня просто «срезали», несправедливо занизив оценку и потребовав взамен машину кирпича, не представлялось возможным, к тому же я дала слово дяде Коле. Для всех теперь я была обыкновенной не поступившей в институт неудачницей. Это выставляло не в лучшем свете не только меня, но и бросало тень на школу и даже на мою серебряную медаль, которой я так гордилась. Мне было стыдно за себя: стыдно перед родителями, которым предстоит за меня краснеть, стыдно перед сестрой, для которой я не только не стану примером, но и дам повод позлорадствовать, стыдно перед друзьями, родителями друзей, знакомыми и просто соседями по подъезду. Я боялась насмешек, презрительных взглядов, колких словечек, едкого шушуканья за спиной. Я стала идеальной мишенью. Я ощущала себя голой посреди огромной площади. Вот-вот подо мной запылает костёр из общественного мнения, на котором меня сожгут.
Для меня, как и для моих родителей, мнение окружающих было всегда превыше всего. В селе, где все друг у друга на виду, где каждый знает, что сосед ест, с кем спит и у кого огород сорняками зарос, мнение живущих рядом людей играло своеобразную роль судьи, становясь локальным мерилом добра и зла. Пока человек действовал в границах существующих в данном обществе норм, на фоне других ничем особо не выделялся, ел то, что едят все, пил не больше других, воровал в меру, работал наравне со всеми, вовремя женился и умер в положенный час – до тех пор он оставался понятным и безопасным, он был своим. Но стоило кому-то выделиться, обособиться или оступиться – несчастный тут же попадал в жернова общественного мнения, которое его препарировало, разбирало до мельчайших косточек, перемывало их, перетряхивало и перемалывало в муку, чтобы, не дай бог, никакая подробность не осталась незамеченной.
С самого детства меня учили жить с оглядкой на других. «Что люди скажут?» или «Что соседи подумают?» раздавалось так же часто, как и кудахтанье куриц во дворе. Отпуская меня на улицу гулять, бабушка всегда наказывала вернуться в оговорённый час, а то люди не дай бог подумают, что она плохая бабушка и не следит за внучкой. Застав свою подружку за обедом, я не могла вместе с ней сесть за стол, чтобы не подумали, что бабушка меня не кормит. Убрать огороды в страду надо было непременно первыми, чтобы люди не сказали, что наша семья ленивая. Меня учили держать своё мнение при себе, не высовываться, не выделяться, быть как все, дабы кто-нибудь что-нибудь плохое обо мне, а заодно и обо всех моих родственниках не подумал. Моя жизнь состояла из решений родителей, опирающихся на мнение этих самых окружающих. Я надевала исключительно то платье, которое нравилось моей маме, но такое, чтобы её ребёнок выглядел не хуже других. Я подметала двор лишь потому, чтобы соседи не подумали, что здесь живут грязнули. Я училась на «отлично» лишь для того, чтобы родители хвалили, бабушки гордились и давали за это деньги и сладости. Я говорила то, что хотели слышать мои близкие, поступала так, как одобряли окружающие, думала так, как учили меня в школе, видела мир таким, каким его показывал телевизор. Моё мнение никто и никогда не спрашивал. Меня как личности не существовало. Моё «Я» так и не смогло развиться, пребывая в состоянии задушенного мнением окружающих эмбриона. Так воспитывали меня, так воспитывали моих родителей, моих бабушек, прабабушек моих бабушек – так было всегда, словно каждый член нашей семьи, а заодно и все люди нашего села и городка приходили в этот мир исключительно с одной целью: подстраиваться под окружающих. Взрослея, я продолжала пребывать в каркасе заданных с детства установок, и переменой места жительства избавиться от них было невозможно.
От себя не убежишь, но тогда я этого ещё не знала. Размышляя над своей судьбой после непоступления, я оперировала понятными мне категориями добра и зла и подвергать себя общественному осуждению, конечно же, не хотела. Кроме того, возврат домой означал для меня конец всему – конец мечтам, конец надеждам, конец самой жизни. Родители всячески пытались меня убедить, что ничего страшного не произошло, что надо вернуться в Канев, позаниматься год, а потом снова поступать, но я знала, я это чувствовала сердцем, что отступать ни в коем случае нельзя. Нельзя поддаваться на уговоры, нельзя возвращаться домой, нельзя снова попасть под влияние семьи, нельзя позволить машине красного кирпича сломать мне жизнь. Это была моя жизнь. Моё «Я» сказало «нет». Впервые я не подчинилась родителям. Вместо этого я попросила их помочь мне остаться в Киеве. Единственный вариант для этого – договориться с тётей Женей.
Никогда раньше я не задумывалась о роли других людей в своей судьбе. Я всегда считала, что по какой-то неведомой причине мне все вокруг что-то должны: должны родители, должны бабушки, а институт просто обязан был меня принять, поэтому согласие тёти Жени помочь я восприняла как само собой разумеющееся. Как само собой разумеющееся, я поселилась в бывшей комнате Игоря, оставив его жить в подвале; как само собой разумеющееся, я наблюдала за хлопотами тёти Жени по моему устройству на работу. Надо сказать, что устроиться на хорошую работу в Киеве без прописки, без образования, без опыта в советское время было практически невозможно, а если кому-то это и удавалось, то исключительно благодаря особым знакомствам или, как тогда говорили, по большому блату. Но одно дело – устроиться куда-нибудь, и совсем другое – устроиться в хорошее место, где платят высокую зарплату и выдают её без задержек. Как само собой разумеющееся, я оказалась на ставке медицинского регистратора в единственной в то время в Киеве лаборатории контактной коррекции зрения при центральной городской больнице. Чего это стоило для тёти Жени, я даже не догадывалась, видела только, что несколько раз она пекла и кому-то относила свой фирменный торт, после чего вместе со мной поехала в отдел кадров больницы.
В свои восемнадцать лет с людьми, занимающими высокие руководящие должности, мне приходилось общаться всего несколько раз, а если не считать моего крёстного дядю Петю – председателя колхоза в селе, – дядю Колю из министерства и директора моей школы, которых я воспринимала как своих, то получался один, и этим человеком как раз и был тот самый дяденька с машиной кирпича в институте. В моём представлении начальник – это как директор, только чуть-чуть поменьше, а директор – это уже почти как бог, который слеплен из другого теста, живёт в другом мире, имеет большие связи, и подчиняться ему следует беспрекословно. В его власти казнить или миловать, взять меня на работу или нет. Именно поэтому я так волновалась перед этой встречей, повторно перекрашивая стрелки под глазами и до запаха гари завивая волосы плойкой. Я хотела понравиться. Я очень хотела быть хорошей девочкой, чтобы меня взяли, чтобы я осталась жить в Киеве и надо мной больше не висел ужас возвращения в Канев.
Под дверью, обтянутой коричневым дерматином, пришпиленным гвоздями с золотистыми шляпками, стояло человек пять. Теребя белые картонные папки с матерчатыми завязками, они о чём-то полушёпотом переговаривались. Оставив меня в конце очереди, тётя Женя заглянула за дверь, откуда буквально через несколько минут вышли две женщины, одна из которых сразу же пригласила нас. Поздоровавшись, я присела на край стула и посмотрела на ухоженную даму средних лет за массивным столом с молочно-белым телефонным аппаратом, какие, наверное, были в самом Кремле, и широкой подставкой для ручек из зелёного гладкого камня с тёмными прожилками. Именно за таким столом в моём представлении и должен работать директор, и мне очень захотелось оказаться однажды по ту сторону стола. В этот самый момент я услышала вопрос: «Как дела?» и засмущалась так, что не могла произнести и слова. Мне казалось, что женщина за столом напротив видит меня насквозь, знает все мои проделки и уж тем более знает о том, что я не поступила в институт. От стыда мои щёки запылали ещё жарче, глаза наполнились слезами, и от жалости к себе я едва не заплакала. «Я поступала в институт, но недобрала одного балла. Меня просто “срезали”» – начала оправдываться я, но женщина за столом напротив тут же уточнила: «Что собираешься делать?» – «Хочу годик поработать, позанимаюсь с репетитором, и снова буду поступать», – совладав наконец с собой, ответила я. «Раньше работала? Чем приходилось заниматься?» – спросила она, не отрываясь от заполнения какого-то бланка. Я с готовностью начала рассказывать об огородах в селе, о работе в полях и на колхозной ферме и о том, как сортировала клубнику на плодоовощном заводе в Каневе. «С математикой у тебя как?» – поинтересовалась она. «В школе было “пять”!» – уверенно ответила я, протягивая в качестве доказательства аттестат о среднем образовании. Быстро записав что-то в бланк, женщина передала его мне и отправила в соседнюю комнату оформлять документы. Так у меня появилась работа, но самое главное – впервые в жизни мне встретился человек, который отнёсся ко мне как к равноправному взрослому, который не читал нотаций, не навязывал свою точку зрения, а быстро и без лишних слов помог. Я очень хотела считать Елену Григорьевну своим другом, но не смела – ведь я была безмерно ей обязана, к тому же высокая должность и строгий голос удерживали меня на почтительном расстоянии. Единственное, чем я могла отблагодарить, – это не подвести, и я очень старалась.
Глава 3. Любовь по согласию
Лаборатория контактной коррекции зрения (ЛККЗ) являлась филиалом Центральной городской больницы № 14 им. Октябрьской революции, прозванной в народе «Октябрьской больницей», и располагалась на первом этаже жилого дома по улице Профессора Подвысоцкого. От дома тёти Жени добираться приходилось с тремя пересадками, но для меня эти полтора часа утром и полтора часа вечером были самыми долгожданными. Я проезжала по площади Льва Толстого, затем по Крещатику и бульвару Леси Украинки, видела невероятной красоты здания, широкие проспекты, спешащих по делам киевлян и была счастлива. Нередко я выходила из троллейбуса, неспешно шла вдоль огромных стеклянных витрин ЦУМа, мимо кафе, ресторанов и парикмахерских, а моё сердце трепетало от радости. Оно улыбалось каждому встречному: «Посмотрите, я такая же, как и вы! Я вместе с вами! Я тоже киевлянка!» Однажды я даже случайно оказалась на каком-то митинге у памятника гетману войска запорожского Богдану Хмельницкому. Чему посвящён был этот митинг, я не знала, да и меня не особо это волновало, главное, что я оказалась в гуще событий, вместе со всеми что-то скандировала, а в конце, когда люди вокруг запели украинские песни, я пела вместе с ними. Вечером этот митинг показали в новостях по всем телеканалам, и, увидев моё лицо на весь экран, тётя Женя вскрикнула: «Ты в телевизоре! Иди скорее сюда!» Пока я бежала, кадр на экране начал меняться, но свой чёрный платок с ярко-красными цветами и длинной бахромой, найденный однажды в бабушкином шкафу и ставший модным аксессуаром поверх пальто, я узнала сразу. Но для меня было важно не то, что меня показали в новостях, а то, что я жила в этом городе и ощущала себя его частью. Я гордилась собой, гордилась тем, как простая провинциальная девчонка смогла повернуть своё поражение в свою же пользу. Осознать хрупкость своей иллюзии я тогда, к счастью, не могла и искренне считала, что схватила удачу за хвост.
Мой рабочий день начинался ровно в девять тридцать и заканчивался в шесть часов вечера. В течение этого времени я должна была записывать пациентов на приём к врачам, давать телефонные консультации, вести книгу учёта выданных линз и принимать за них оплату. Работа, конечно, не высокохудожественная, но зато в белом халате и в окружении самых передовых в то время офтальмологических технологий коррекции зрения. Попасть на эту должность мечтали многие, платили довольно хорошо и, главное, регулярно, что являлось редким исключением среди государственных учреждений конца восьмидесятых, но место досталось именно мне. Я воспринимала всё это как естественную компенсацию от судьбы за ситуацию с институтом, а тот факт, что всё это лишь благодаря тёте Жене и её человеческому желанию помочь, моё набиравшее силу «Я» в расчёт не принимало. В стране, где всё было в дефиците, главной ценностью являлись человеческие отношения и связи, но понять это я тогда ещё не могла.
До поступления в ЛККЗ о контактных линзах я вообще ничего не слышала, и в моём представлении очки являлись единственным способом помочь людям с нарушениями зрения. Однако сама идея контактной коррекции зрения была высказана Леонардо да Винчи ещё в шестнадцатом веке, а в конце девятнадцатого оптическая контактная линза была уже подробно описана и применялась на практике. Тем не менее даже столетие спустя технология изготовления контактных линз оставалась всё ещё примитивной, а сами линзы – жёсткими и крайне неудобными. В лаборатории на специальном оборудовании вытачивалась жёсткая заготовка размером с радужку глаза, шлифовалась, а потом, в течение долгих месяцев, человек привыкал к инородному телу у себя в глазу. От сильного порыва ветра линзы часто убегали под верхнее веко – и тогда прямо на ходу приходилось их оттуда выуживать. Бывало, что в самый неподходящий момент мелкая песчинка попадала в глаз, вызывая острую боль и водопад слёз. Линзы натирали глаза, царапины на них являлись рассадником бактерий и причиной воспаления, поэтому спасительные стекляшки приходилось регулярно кипятить. Очередь на линзы доходила до трёх месяцев, люди приезжали со всех регионов страны, а наша лаборатория являлась едва ли не единственной в Украине, где можно было их изготовить. Стоит отметить, что к тому времени уже тридцать лет как чешским учёным были изобретены мягкие контактные линзы и весь мир ими успешно пользовался, но лишь с открытием границ они стали поступать на территорию бывшего СССР. Киевская лаборатория стала одной из первых, кто организовал их поставки из-за рубежа, но ждать такой заказ приходилось по восемь-десять месяцев. Как работник ЛККЗ, я, конечно же, без очереди воспользовалась благами технологического прогресса, на личном опыте познав жёсткую и мягкую радость оттого, что мир вокруг снова приобрёл чёткие контуры. Начиная с последних классов школы моя прогрессирующая близорукость просто галопировала, но очки надевать я всё равно стеснялась, считая, что это не понравится мальчикам. Дошло до того, что я с первой парты не могла разглядеть пример на классной доске, но упрямо продолжала щурить глаза. Я боялась, что меня начнут обзывать «очкарик», а в комплексе с уже имеющимся прозвищем Колобок, которым меня наградили ещё в младших классах, очень не хотела превратиться в «Колобка-очкарика». К сформированной в раннем детстве установке «Что люди скажут?» добавилось подростковое «Что мальчики подумают?» – и я делала всё для того, чтобы нравиться и угождать мнению окружающим в силу своего разумения.
Под Новый год на работе решили устроить настоящее костюмированное представление. Коллектив у нас был небольшой, преимущественно из врачей-офтальмологов, техников и медсестёр, поэтому на роль Деда Мороза выбрали нашего молодого техника, а Снегурочкой, конечно, меня. Я очень обрадовалась, но тут же с ужасом поняла, что подходящего под образ платья у меня нет. В то время купить или взять напрокат костюм было просто невозможно, и я решила его сшить.
Больше года я не прикасалась к иголке с ниткой, и вот теперь вновь с радостью делала вытачки и втачивала сложный воротник-стойку. Швейной машинки у тёти Жени не оказалось, поэтому каждый шов пришлось проходить вручную. Конечно, я мечтала блеснуть на празднике, хотела похвастаться своим портновским талантом, но была и другая, скрытая сторона: шитьё занимало всё моё свободное время и хотя бы ненадолго позволяло заглушить первую сердечную боль по имени Артур.
Мы познакомились в начале октября. Возвращаясь как-то с работы, я вышла из троллейбуса на несколько остановок раньше, чтобы пройтись пешком по Крещатику. Низкое солнце золотом заливало опавшую листву бульвара, скользило по брусчатке, рассыпалось «зайчиками» в больших витринах. Засмотревшись на своё отражение, я почувствовала чей-то взгляд, и тут же в стекле отразился мужской силуэт. «Девушка, с вами можно познакомиться?» – произнёс приятный голос. Оглянувшись, я увидела высокого, одетого в фирменный джинсовый костюм с красивыми прострочками молодого человека лет двадцати пяти. Он широко улыбался, карие глаза смотрели открыто, но цепко, и казалось, что просвечивают меня, как рентген в больнице. Впервые в жизни со мной кто-то знакомился! Как себя вести и что говорить, я не знала и, растерявшись, пробормотала что-то несуразное о том, что на улице с парнями не знакомлюсь. От смущения я не знала, куда свой взгляд направить. «Я Артур», – представился парень и вопросительно взглянул на меня. «Жанна», – ответила я, улыбнувшись. Долю секунды мы изучающе оценивали друг друга, словно обменивались невидимыми токами, после чего парень предложил меня проводить.
Артур учился на третьем курсе режиссёрского факультета Киевского института культуры и жил в общежитии недалеко от моей работы. Всю дорогу он рассказывал о кино, о том, как каскадёры выполняют опасные трюки, – я смеялась, что-то говорила в ответ и даже не заметила, как мы оказались у калитки моего дома. На прощанье договорились встретиться на следующий день на остановке возле ЛККЗ.
Предчувствие чего-то огромного и долгожданного захлестнуло меня. Всё ещё никем не целованная девушка, я без оглядки отдалась новому для меня чувству, с детской непосредственностью доверившись первому молодому человеку в своей жизни. От одной мыли об Артуре мои щёки вспыхивали кленовым жаром, по телу проносилась горячая волна, а в сердце разгорался огонь. По вечерам Артур ждал меня на остановке, и, взявшись за руки, мы убегали гулять. Бродили по старинным улочкам, шуршали листьями в парках и, укрывшись последним теплом осени, часами сидели на скамейке, вдыхая терпкий аромат бархатцев и нашей любви.
В конце октября пошли дожди, и мне срочно понадобились сапоги. В тот вечер с Артуром мы не встречались, и, получив накануне зарплату, я решила пройтись по магазинам. Я искала красные высокие сапоги, красные перчатки и красную сумку, которые должны были дополнить моё модное новое пальто тёмно-фиалкового цвета с вытачками на рукавах, эффектно продолжавшими линию плеча. Свои сапоги я увидела сразу. Они стояли на центральной витрине и выгодно выделялись на фоне тусклой бесформенной обуви. Примерив, я подошла к зеркалу и, довольная собой, грациозно выставила ножку. Неожиданно знакомый голос сказал: «Тебе очень идёт». Оглянувшись, я увидела широкую улыбку Артура, напоминавшую улыбку Чеширского кота[5] – с такой же способностью исчезать и вот так внезапно появляться. Обрадовавшись случайной встрече, он тут же предложил прогуляться, а большую коробку с сапогами занести к нему в общежитие, которое было намного ближе, чем мой дом. Я так сильно проголодалась, что ни о какой прогулке думать не могла, но Артур сказал, что ужин берёт на себя. Он постоянно хвастался кулинарными умениями, давно обещал угостить своим коронным блюдом, а тут такой повод – новые сапоги!
На общей студенческой кухне обе газовые плиты были зажарены до черноты, кипел забытый кем-то чайник, а запах пельменей разносился по всему коридору. Каждое движение Артура было точным и быстрым, и я с удовольствием наблюдала, как любимый парень нарезает ветчину и готовит салат. Стоять у плиты я возненавидела с тех самых пор, как в школе занялась своей фигурой, объяснив себе, что кухня – главный враг женщины. Пока Артур хлопотал с ужином, я вернулась в его комнату, расставила тарелки на журнальном столике и осмотрелась. Две параллельные кровати вдоль стен, шкаф с большим зеркалом, телевизор на тумбочке и даже холодильник в прихожей за дверью – всё это вовсе не походило на аскетическое жилище вечно голодных студентов. Чисто, уютно, а на фоне тусклого коридора с облезшей краской на стенах – и вовсе роскошно. Как рассказал Артур, комнату для него обустроил отец, который был директором какого-то предприятия на Западной Украине. Когда мы только зашли, на второй кровати спал сосед, но, увидев Артура с девушкой, без лишних вопросов удалился, словно между парнями существовал какой-то негласный код договорённостей. Этой детали я тогда внимания не придала, тем более что в общежитии находилась первый раз и хотела как можно больше узнать о студенческой жизни. Через двадцать минут комната наполнилась ароматом макарон с обжаренными овощами, и мой голодный живот требовательно заурчал.
После горячего ужина и сверкающего в хрустальных бокалах шампанского, которым «обмыли» сапоги, меня сморил сон, и, свернувшись калачиком на кровати, я задремала. Алкоголь действовал на мой организм как снотворное, и в этом моя реакция совпадала с маминой, которая даже после глотка вина или обычной домашней настойки вскоре засыпала. Открыв глаза, я решила, что уже утро. Испугавшись за тётю Женю с её больным сердцем и давлением, я обеспокоенно спросила «Который час?» Присев рядом на кровать, мягким голосом Артур прошелестел: «Девять». Он медленно погладил мои волосы, шею и плечи, а я, всё ещё пребывая в полудрёме, таяла в его нежных руках. Прикосновение к груди откликнулось напряжением, вызвав страх и любопытство одновременно. Раньше мы иногда разговаривали на интимные темы, и о том, что у меня ещё не было парня, Артур знал, поэтому старался быть деликатным. В этих вопросах он оказался гораздо опытнее меня – уже встречался с другими девушками, но о своих личных контактах никогда напрямую не говорил. «Не бойся, я обо всём позабочусь», – прошептал он.
Когда мы оделись, Артур был сильно раздражён. Я пыталась понять, в чём дело, что я сделала не так, но он молчал. Обняв его, я хотела поцеловать, но он неожиданно отстранился и резко сказал: «Ты меня обманула». Его слова хлестнули сердце, словно бритва. Не понимая, в чём именно состоял обман и почему у него так резко изменилось отношение ко мне, я схватила пальто, сумочку и, рыдая, выбежала в коридор. Тысячи, тысячи мыслей проносились в моей голове, словно лампочки, включая и выключая вопросы, ответов на которые у меня не было: «Почему? За что? Как же так? Что мне теперь делать? Что со мной будет?», но единственное, что стало очевидным, – так это то, что мной воспользовались, а потом бросили, сделав ещё в чём-то виноватой.
По пути на остановку Артур меня догнал и, не говоря ни слова, пошёл рядом. Моё сердце разрывалось. Я любила его, любила так сильно и так искренне, что отдала себя, и не понимала, действительно не понимала, почему он на меня обижен. На эскалаторе в метро, не выдержав «молчанки», я пристально посмотрела ему в глаза и ещё раз спросила: «Что случилось?» Он не ответил. Пауза затянулась. Его грудь вздымалась, словно он собирался с духом что-то мне сказать.
– Ты меня обманула. Ты сказала, что я у тебя первый, что ты ни с кем ещё не спала, что ты девушка, – выдохнул он.
– Но это правда! – мгновенно выпалила я, и поток возмущения жаром ударил по щекам. – Я ни с кем до тебя не спала. Ты первый! – отчётливо произнесла я, не обращая внимания на оглянувшихся с нижней ступеньки людей. – Ты же видишь, я ничего об этом не знаю! Я даже целоваться не умею!
– Но почему не было признаков невинности? – спросил Артур.
– Не знаю, – тихо ответила я. – Наверное, что-то со мной не так. Может, мне сходить к врачу? – спросила я, робко посмотрев ему в глаза.
– Это уже не поможет, – раздражённо ответил он.
Я пыталась ухватиться за любую соломинку, найти любой аргумент, но ни слов, ни доказательств у меня больше не было. Отчаяние обжигало разум. «Поверь мне», – произнесла я сдавленным голосом и тихонько заплакала. Приближавшийся к платформе поезд заставил встрепенуться, и, прикрывшись нарастающим грохотом, я вдруг выпалила: «Если ты мне не веришь – не провожай меня. Нам незачем больше встречаться». Не понимая, как всё произошло, я заскочила в полупустой вагон и, не оглядываясь, направилась в дальний угол. Если бы вагоны между собой сообщались, я бы убежала в самый конец, спряталась бы от Артура, себя и своего позора, но бежать было некуда.
Оставшуюся часть пути мы ехали молча. Раз за разом я мысленно возвращалась к событиям сегодняшнего вечера, пытаясь понять, что со мной не так, чем я отличаюсь от других девушек и почему вынуждена оправдываться за то, чего не совершала, но в чём меня обвиняют. «Обвиняют» – это слово щёлкнуло внутри меня, искрой ворвавшись в моё сознание. Сквозь мутные слои памяти проступали расплывчатые картинки из моего далёкого детства – того самого дня, когда что-то нехорошее произошло с шестилетней девочкой в кустах за магазином в Костянце. Пшеничные колоски тоненьких косичек с атласными лентами, фиолетовые колокольчики на платье, игрушечная коляска с куклами и чёрная бабочка с яркими синими кругами на крыльях. Я бегу за бабочкой всё дальше и дальше, прямо к магазину «КООПТОРГ», где мама покупала мне сладкую подтаявшую халву. Из магазина выходят соседские мальчишки, среди них «мой мальчик» Коля. Я его зову, он не слышит, забыв о бабочке, я уже бегу за ним. «Жених и невеста!» – увидев меня, кричат мальчишки. Кусты шевелятся. Коли нет. Губа с молодым пушком прямо возле моего лица… Какой-то мужчина принёс меня маме. Я плачу, что испачкала платье и меня теперь отругают… Последствия, точнее – реакция взрослых испугали сильнее, чем то, что произошло. Все меня в чём-то обвиняли. Клеймо прожгло нежное детское сердце, породив боль и сформировав глубокий комплекс неполноценности. Стремясь упредить эту боль, я заранее надевала на себя вину, а чтобы сгладить её, начинала оправдываться. Я оправдывалась везде и за всё, даже за поступки, которые не совершала. Пытаясь укрыться от этой боли, я загнала её в дальний пласт своей памяти, но от себя спрятаться невозможно. Однажды, набравшись смелости, я спросила об этом у мамы, но она сделала вид, что не знает, о чём я говорю. Ответ на мучивший меня вопрос я так никогда и не узнала. Тогда я была не в состоянии понять, что её чувство вины горше моего. За эти годы она сжилась с этим чувством, приспособилась к нему и вскрывать старую рану не хотела. Возможно, она боялась моих упрёков, а может, боялась себя. Четырнадцать лет спустя эта боль вновь меня настигла, безжалостно пронзив жалом любовь на платформе метро под грохот приближающегося поезда.




