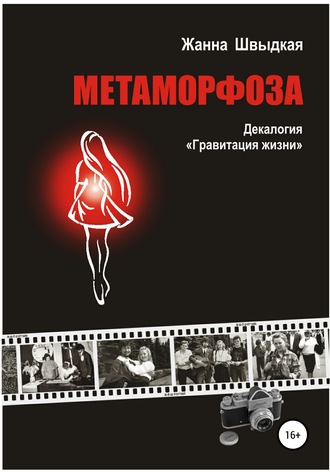
Полная версия
Метаморфоза. Декалогия «Гравитация жизни»
Сдав второй экзамен на «отлично», я набрала в сумме девять баллов из четырнадцати, необходимых для поступления. Оставался последний – по русскому языку и литературе и единственная возможность получить «пятёрку». На экзамены в школе я всегда приходила с арсеналом шпаргалок. Но пользоваться ими абсолютно не умела и от одной мысли о списывании краснела так, словно меня уже поймали на месте преступления и выставляют за дверь. Тем не менее для внутреннего спокойствия я каждый раз заготавливала длинные раскладные гармошки. В случае необходимости эту гармошку можно было достать из рукава, расположить в ладони требуемой стороной и, незаметно переворачивая, потихоньку списывать. Конечно, знала я всё это лишь в теории и за все школьные годы ни разу не опробовала свои предположения на практике, но была уверена, что в случае чего – справлюсь. Три дня накануне последнего вступительного испытания я посвятила тому, что старалась запечатлеть мелким шрифтом победы главных героев от древней Эллады до современной перестройки на сложенных в определённой последовательности тонких листах бумаги. Здесь были и Чичиков с Кабановым, и Герасим с Муму, и Достоевский с его «Преступлением и наказанием», и, конечно же, Наташа Ростова с красавчиком князем Болконским.
Последнее испытание проходило в уже знакомой аудитории амфитеатром, но ряды присутствующих явно поредели – до финиша дошли не все. Толстый мужчина в очках и чёрном костюме вскрыл конверт и, озвучив экзаменационные темы сочинений, записал их мелом на доске. Никакого интереса они у меня не вызвали, и, понимая, насколько критично для меня написать на «отлично», я решила удивить приёмную комиссию масштабностью мысли и красотой литературного слога, выбрав для этого свободную тему.
В седьмом классе у нас появилась новая учительница русского языка и литературы – Жанна Исааковна. Кроме того, что это был первый встреченный мной человек с таким же именем, как у меня (не считая, конечно, французскую героиню Жанну Д’Арк), Жанна Исааковна заметно выделялась на фоне других учителей своей яркой внешностью, стройной фигурой, необычными для нашего городка модными нарядами, а главное – исходившим от неё притяжением и внутренней силой. Стоило ей войти в класс – притихали даже самые отъявленные болтуны, а одного её взгляда было достаточно, чтобы все сорок пять учеников нашего класса включились в урок. Она была не просто учителем русского языка и литературы – она сама олицетворяла русский язык и литературу. Красивая грамотная речь, спокойный голос и невероятная глубина знаний. Она цитировала наизусть длинные отрывки из произведений российских и зарубежных литературных классиков, изучала древних поэтов и труды великих философов, прекрасно разбиралась в мировой и советской истории, захватывающе «рисовала» картинки географических путешествий и археологических открытий. Она не просто преподавала русский язык и литературу – она учила нас мыслить, чётко излагать суть, правильно формулировать вопросы и находить на них ответы. Она обсуждала с нами темы добра и зла, верности и предательства, мы говорили о жизни, о ситуации в мире и в нашей стране, и, конечно, о любви. Впервые взрослый человек, тем более учитель, обсуждал с нами эту запретную и волнующую всех подростков тему и что особенно важно – спрашивал наше мнение. Она любила свой предмет, и благодаря ей его полюбила я.
Писать сочинения мне нравилось всегда. Делала я это с удовольствием, с лёгкостью растекаясь мыслью по древу, разбавляя для объёма «водичкой» и сдабривая в нужных местах коронными патриотическими фразами. Правильно сделанный вывод обеспечивал законную «пятёрку», не позволяя никому усомниться в гениальности созданного мной творения. С приходом Жанны Исааковны мои литературные эпосы явно упали в цене и выше «тройки» в первой четверти вообще не котировались. Отличником для неё был не тот, у кого в табеле по всем остальным предметам были «пятёрки», а тот, кто знал русский язык и литературу на «отлично». Каждый раз, оставаясь после уроков на её дополнительные занятия, я с интересом погружалась в неведомый мне мир литературы вне рамок школьной программы. Разбирая сюжет, композицию, фабулу и архитектонику порой непростых произведений, я научилась улавливать их красоту, ритм и дыхание. Я поняла, что значит выдерживать композиционную и логическую структуру собственных сочинений, благодаря чему к концу седьмого класса мои творения на восемнадцати страницах школьной тетради с заслуженной «пятёркой» Жанна Исааковна зачитывала в качестве примера всему классу. По грамматике (точнее – пунктуации) вопросы всё ещё оставались, особенно, когда увлёкшись, я неосознанно начинала соревноваться с Достоевским или Толстым в длине предложения, бисером рассыпая запятые на полутора страницах текста, но вскоре и этот бич я научилась раскладывать на составляющие.
На следующий год Жанну Исааковну перевели в другой класс, но за эти девять месяцев я прониклась незнакомым мне ранее чувством уважения к школьному преподавателю – не страхом, не насмешкой или презрением, характерными для школьной среды, а именно уважением. Я очень хотела быть похожей на обожаемую учительницу и мечтала стать такой же образованной, начитанной, культурной и, конечно же, такой же красивой.
Ближе к концу школы я начала замечать, что моё отношение к чистоте речи меняется. Мне стало стыдно коверкать русский язык, делая из него дикий русско-украинский суржик, характерный для нашего городка. Я старалась не употреблять уличные жаргонизмы, избегать просторечных выражений и говорить на языке, близком к литературным классикам или хотя бы к языку телевизионных дикторов. И хотя с дикцией у меня были всегда проблемы и с коммуникацией не все ладилось, что становилось непреодолимым внутренним препятствием для общения со сверстниками, вынуждая всё чаще оставлять своё мнение при себе, но даже монологи в своей голове я старалась произносить красиво.
В моей семье никто и никогда не допускал ненормативной лексики. Это было негласное табу. Даже в подростковом возрасте, стремясь всячески отстраниться от родителей, я интуитивно понимала, что использование бранных слов автоматически опускает на уровень дворовых мальчишек и граждан странной наружности возле бочки с пивом или с бутылкой портвейна под кустом, а этого я как раз не хотела. Конечно, ненормативной лексикой любили пощеголять ребята из старших классов, особенно вожаки, демонстрируя тем самым свою раскованность, независимость, пренебрежительное отношение к запретам родителей и ценностям советского общества, считая, что таким образом смогут привлечь девочек, и, надо сказать, нередко им это удавалось. В подростковом возрасте «плохие парни» интересны девчонкам. Тем не менее в мой лексический словарь подобные слова не проникали, как и не вызвали интерес люди, их произносящие, – скорее наоборот, я чувствовала ко всему этому внутреннюю неприязнь, и каждое слово словно жалило ядом.
Поток иностранных заимствований, щедро хлынувших в страну с ослаблением железного занавеса и идеологического пуризма, стал для советской молодёжи символом красивой заграничной жизни и собственной «продвинутости» и, конечно же, затянул в свою пучину и меня. Несмотря на это, в моём сознании иностранные слова существовали как-то отдельно от русского языка, выполняя скорее роль социального маркера, указывая на некую элитарность, позволяя выделиться и отстраниться от старшего поколения, в первую очередь от родителей и учителей в школе. Очень быстро новомодные уличные словечки просочились в газеты и на телевидение, формируя новую языковую культуру в обществе.
Именно поэтому, выбрав на экзамене свободную тему сочинения, подразумевающую в том числе собственные размышления и выводы автора, я долго не могла решить, в каком стиле её излагать: в традиционно книжном, максимально приближенном к литературным классикам, или на современном языке, отражающем перемены в обществе. Вспомнив уроки Жанны Исааковны и её наставления, благодаря которым я научилась раскрывать на «отлично» любую тему, даже о важности решений очередного съезда партии для народного хозяйства страны, я решила выдержать на вступительном экзамене в институт хорошо знакомый мне литературный стиль изложения. Приёмную комиссию я собралась покорить глобальностью затронутых вопросов и глубиной их раскрытия. А сформулированный в конце сочинения вывод не просто побуждал читателя к действию – он непременно должен был принести дополнительный балл, отчего за сочинение мне просто обязаны были поставить не «пять», а все «шесть». «Ну, или, в крайнем случае, вынести благодарность от самого начальника приёмной комиссии» – скромно решила я и, невероятно довольная собой, направилась домой.
Приехав в назначенный день за финальным результатом, вместо привычного моря голов увидела лишь человек двадцать, да и те как-то рассредоточились у входа, отчего доступ к заветному стенду оказался практически свободным. Я быстро нашла название своего факультета, а под ним – длинный список с полученными баллами за последний экзамен. Недалеко висел ещё один список, но совсем короткий – с фамилиями зачисленных. Я, конечно, начала со второго. На букву «П» нашлось всего две фамилии, но, как я ни вчитывалась, Пономаренко среди них не обнаружила. Уставившись в список, я снова и снова произносила по слогам чужие фамилии, недоумевая, куда подевалась моя. На всякий случай решила проверить списки поступивших на другие факультеты, но и там меня тоже не оказалось. «Конечно же, это какая-то ошибка! Это просто недоразумение! Сейчас я им всё объясню, и они поменяют список», – решила я, бегом направившись в приёмную комиссию. Но разговаривать со мной никто не стал, а квадратная тётушка ещё и за дверь выставила, указав на огромное объявление о том, где и когда можно забрать свои документы. «Какие ещё документы? Зачем их забирать?» – думала я, не желая верить в то, что это конец. Себя обмануть сложно. Предчувствуя неотвратимое, я побежала к длинному списку. Моя фамилия словно выпрыгнула мне навстречу, а вместе с ней по глазам хлестнули «четыре» балла. «Значит, я есть. Меня не потеряли», – безысходно прошептала я.
Ничего не понимая, я брела вдоль проспекта. Мутными горошинами слёзы цеплялись за мои длинные ресницы, катились по щекам, висли на носу и срывались вниз, разбиваясь о подпрыгивающую от рыданий грудь чёрными кляксами от туши. Я не замечала удивлённых взглядов прохожих, на которых вдруг натыкалась плачущая девушка, не слышала нервно сигналящих машин, пытающихся объехать непонятно как оказавшегося в центре проезжей части пешехода, как и не осознавала того, что уже четвёртый час иду по каким-то улицам, чужим дворам и незнакомым паркам.
Обида. Невыразимая обида поглотила меня. Она душила в горле, жгла в груди, вонзалась шипами в сердце. Её яд окутывал разум, лишал воли и способности нормально мыслить. Я не принимала случившееся. Я отторгала его. Я словно пребывала во сне, в каком-то вязком коконе из паутины, сотканном из надежд и убеждений, освобождаться от которого никак не хотела. Я вновь и вновь повторяла себе, что произошедшее – какая-то нелепая ошибка, что вот сейчас её заметят, списки исправят, и там появится моя фамилия. «А как же я узнаю, что меня зачислили? Куда они об этом сообщат?» – вдруг встрепенулось в моём сознании. «Надо прямо сейчас вернуться и оставить в приёмной комиссии адрес тёти Жени. Нет, лучше я сама завтра утром поеду и дождусь, когда повесят новый список», – сама себе бормотала я, то разворачиваясь в неясную обратную сторону, то вновь направляясь неведомо куда. Я так верила в справедливость мира и благосклонность судьбы, что не могла даже на секунду допустить, что всё уже свершилось и ничего не изменить. Отличница по жизни, я привыкла быть лучшей, и поражения для меня просто не существовало. И даже если я в чём-то чуть-чуть не дотягивала, самую малость, то у меня всегда был второй шанс: переделать домашнее задание, вырвав лист из тетрадки, стереть ошибку в слове на классной доске, пересдать плохо выученное стихотворение и даже переписать итоговую экзаменационную работу в школе.
Как и в котором часу я оказалась дома – не помню. Судя по реакции тёти Жени, со мной творилось что-то неладное, и она тут же поехала на почту – звонить моим родителям. Я рыдала весь вечер, всхлипывала ночью во сне, и когда утром следующего дня приехали мама и тато, то обнаружили меня под одеялом на мокрой подушке с красными от полопавшихся сосудов глазами, распухшими веками и странными пятнами на лице и шее. На треснутой коже губы чернела засохшая капелька крови, руки дрожали, а при попытке что-либо сказать начинала дрожать челюсть и лились слёзы. Привычным движением тато стянул с меня одеяло, отвёл в ванную и, как в детстве, умыл моё лицо холодной водой, щедро залив пол и забрызгав стены. Сопротивляться я просто не могла, зато, вернувшись через десять минут в гостиную, уже способна была соображать. Усадив меня на стул, тато спросил, что случилось. Вчерашний день я помнила отрывочно: были списки, в которых не было меня, и бездонное чувство несправедливости. Волна обиды захлестнула меня вновь, и, захлёбываясь в соплях и слезах, я убежала в сад. Через какое-то время подошла мама и, присев рядом со мной на скамейке, постаралась успокоить. Её слова возымели обратное действие. Они рождали во мне лишь жалость к себе, а жалость мне как раз была не нужна – я верила в справедливость. В обед родители уехали, наказав непременно позвонить им вечером.
На следующий день я снова стояла на крыльце моего института, но списки меня больше не интересовали. С минуты на минуту должен был подъехать дядя Коля – тот самый сосед мамы из села Козаровка, который выбился в люди и теперь занимал высокий пост в каком-то министерстве. Именно он был для меня живым примером успеха в жизни, и сейчас именно он меня спасал. Выслушав мой сбивчивый рассказ об ошибке, он сказал, что попробует всё выяснить, смело направившись в кабинет с красивой дверью. Минут через пятнадцать меня позвали. В комнате за большим дубовым столом сидел пожилой мужчина, а перед ним лежала моя экзаменационная работа по русскому языку и литературе. Поздоровавшись, он сразу сказал, что в целом работа выполнена неплохо, вот только мной допущены исправление и одна пунктуационная ошибка. Взяв знакомые листы, я осмотрела каждую страницу – всё чисто. И лишь на последней странице красными чернилами была подчёркнута запятая и дано объяснение о том, что в данном случае употребление запятой нежелательно. Перечитала несколько раз своё предложение в сочинении и фразу проверяющего – и до меня наконец дошло, что данная формулировка не значит, что у меня ошибка с точки зрения грамматики, в противном случае её сразу бы зачеркнули без каких-либо объяснений. Всё было не так однозначно: с точки зрения проверяющего запятая казалась нежелательной, но я, как автор сочинения, была просто уверена в том, что для усиления эффекта вывода в последнем предложении запятая просто необходима. Именно в ней скрывалась вся сила предложения, и именно от этой крошечной точечки с хвостиком сейчас зависела моя судьба, а может быть, даже и жизнь – прямо как в мультфильме с фразой «Казнить нельзя помиловать»[3]. Никаких других замечаний по тексту не было, и, окрылённая, я вышла обратно в коридор дожидаться дядю Колю. Через несколько минут без лишних слов и эмоций он сказал, что эта запятая дала повод проверяющему усомниться в моих знаниях, – именно поэтому мне снизили оценку. Тем не менее ситуацию можно исправить. «В течение двух недель на дачу под Киевом необходимо привезти машину красного кирпича. Сейчас иди и срочно звони родителям, а вечером пускай они свяжутся со мной», – спокойно произнёс он. «Самое главное: о нашем разговоре и о том, что ты видела свою работу, не говори никому ни слова. Понятно?» – строго спросил дядя Коля. Я кивнула в ответ и, окрылённая, помчалась на Главпочтамт.
До возвращения родителей с работы оставалось ещё часа четыре, но в надежде, что кто-то придёт пораньше, я каждые тридцать минут заказывала у телефонистки разговор с Каневом, наматывая в промежутках круги на площади и вокруг фонтана. Когда наконец номер ответил и меня пригласили в будку для разговора, я полушёпотом сообщила родителям радостную новость, попросив как можно скорее привезти эту самую машину кирпича туда, куда скажет дядя Коля. В тот момент я ещё не знала, что купить строительные материалы в стране, которая сама рассыпается, на полках магазинов которой отсутствуют не только трусы и туалетная бумага, но и очередь за колбасой занимать надо с вечера, – задача почти неразрешимая. Мой светлый мир, с его коммунистическими идеалами и добром, непременно побеждающим зло, не имел ничего общего с реальной жизнью – взрослой жизнью, о которой я так мечтала и в которой делала свои первые шаги.
На следующий день я снова позвонила родителям, чтобы узнать, когда они отвезут этот кирпич на дачу. «Кирпича не будет», – сухо сказал тато. Последовавшее пространное объяснение так и не помогло мне что-либо понять. Да и как я могла согласиться с тем, что у родителей нет денег и что этот самый кирпич им просто негде взять, а на базе очередь на полгода вперёд, когда здесь и сейчас решалась моя судьба и вся дальнейшая жизнь?! Рыдая, я просила родителей продать автомобиль, занять денег у соседей, обзвонить все базы и найти этот кирпич, но ничего нового сказать в ответ они не могли. «Сегодня вечером обязательно позвони дяде Коле. Это важно», – сказал тато и передал трубку маме. Пытаясь меня успокоить, она говорила о том, что жизнь на этом не заканчивается, что я ещё поступлю, но оплаченные десять минут разговора истекли и в трубке послышались прощальные гудки.
В то время я ещё не понимала, что первопричина ответа «кирпича не будет» таилась вовсе не в отсутствии или наличии денег, связей или того самого кирпича на базе, а совсем в другом. Вслух об этом родители никогда не говорили, но действовали в соответствии со своим пониманием жизни, основанном на базовых ценностях собственной картины мира.
В человеческом обществе всегда существовали два противоположных лагеря, словно две расы, получавшие свои уникальные признаки по наследству. Первая раса – это те, кто сам брал взятки и с такой же виртуозностью умел их давать. Они делали это так же естественно, как и их предки, вне зависимости от того, стоял ли у руля царь-батюшка или вождь пролетариата. В их мире вопросы решались легко и непринуждённо, скрытые от других блага оказывались доступны, а закон работал как-то по-особому. Другая раса – это те, кто давать взятки не умел или, как им казалось, не хотел. Жили её представители внутренними принципами, чувство справедливости имели обострённое, но при этом, как только речь заходила о деньгах, постоять за свои собственные интересы, как правило, не могли, точнее – не осмеливались. И хотя внешне советское общество казалось цельным и единым, эти две расы в нём всегда незримо сосуществовали, люто презирая друг друга. Первую расу – расу коррупционеров – активно высмеивали советские сатирические журналы, их образы заполняли стенгазеты, на борьбу с ними призывали агитационные плакаты, а фильмы и книги активно доносили идею того, что взяточник – это враг народа, враг страны и даже предатель Родины, бороться с которым как раз и должен представитель другой расы. Именно представитель той самой другой расы – кристально честный комсомолец или коммунист – являлся примером для подражания тысяч советских девчонок и мальчишек. И именно он, строитель светлого общества, был призван очищать это самое общество от вредных наростов. Это было уже в крови, передавалось от родителей детям, стало частью наследственного кода советского человека. Именно к этой, второй расе принадлежали мои родители, бабушки и их бабушки. Это стало их глубинной ценностью, одной из базовых основ, составляющих их человеческую сущность. Именно поэтому они не могли допустить, чтобы моя жизнь началась с преступления. Они делали так, как велела им совесть, опираясь на своё внутреннее понимание, что такое хорошо и что такое плохо. Они имели право на этот выбор. Но ничего этого я тогда не знала и, конечно, очень на родителей обиделась. Мне казалось, что меня предали, отвергли, не защитили от этого большого мира и взрослой жизни, к которой я так стремилась и которая с первого шага подставила мне досадную подножку в форме кирпича, точнее – целой машины красного кирпича, перегородившей дорогу в моё светлое будущее.
На следующий день, ровно в десять часов утра, я неспешно прогуливалась по аллее в ожидании дяди Коли. Он немного опоздал и, судя по всему, сильно торопился. Не церемонясь, тут же сказал, что с моими вступительными баллами могут взять в сельскохозяйственную академию на заочный факультет, но для этого необходимо предоставить справку о том, что я работаю в сельском хозяйстве. На мой вопрос, какие там есть факультеты, он предложил зайти в приёмную комиссию и на месте всё узнать. То, от чего я больше всего бежала, то, чего я не хотела больше всего на свете, неотвратимой волной меня же и накрыло. Проведя все свои школьные каникулы в селе, фактически лишившись детства из-за бескрайних огородов, работать на которых меня заставляли родители, пытаясь таким образом привить любовь к труду и взрастить чувство долга по отношению к старшим, к концу школы я всё это просто возненавидела. Никогда и ни за что я не хотела обратно в село, я не хотела быть аграрием и ни за что на свете не выбрала бы для себя такую же тяжёлую жизнь, как у моих бабушек! Я мечтала совсем о другом. Я мечтала жить в большом городе, работать в красивом здании, чтобы маникюр на руках, туфли на каблуке, чёрная «Волга» с водителем и личный кабинет. Я мечтала руководить страной, а не свиньями на ферме, но именно свиней, нарисованных в профиль и анфас на плакатах вдоль стены, судьба мне сейчас подкладывала. Вдобавок ко всему мне предстояло целых пять лет изучать биологию, причём изучать углублённо. Естественно, в школе по биологии у меня были одни пятёрки, но именно этот предмет я никогда не любила, не учила и не понимала, считая его недостойным обучающегося на физико-математическом направлении. Учительница постоянно болела, уроки отменяли, переносили или находили замену, исходя из принципа, что биологию знает любой, а прочитать урок по книжке может и учитель ОБЖ[4]. В расписании нашего специализированного класса именно уроки биологии стояли последними, и нередко именно они выступали в роли «сакральной» жертвы ради благих дел: мытья парт, уборки территории, общешкольного построения.
Когда мы вышли из здания академии, дядя Коля тут же заторопился и попросил сообщить ему моё решение вечером. Зачем ждать вечера, я откровенно не понимала. Обсуждать этот вопрос я не собиралась ни с родителями, ни с тётей Женей, ни даже с Игорем. Для меня он был закрыт в то самое мгновение, когда я услышала в названии слово «сельскохозяйственная», отозвавшееся в моей системе самоидентификации болевой точкой, на которую ненароком нажали. Конечно, само слово «академия», хотя и не дотягивало до моего понимания уровня «университета», но звучало убедительнее «института» и даже как-то интриговало, навевая мысли о науке и учёных-академиках с бородками, в очках и чёрных костюмах-тройках. Тем не менее даже этот тонкий аргумент не мог найти брешь в панцире, за которым я пряталась от самой себя и моих детско-сельско-провинциальных комплексов. Не способствовал этому и тот факт, что за годы советской власти в обществе сложилось резко отрицательное, даже какое-то пренебрежительное отношение к жителям села, которые законом были пришпилены к своим колхозам, вплоть до 1974 года не имели паспортов гражданина СССР и, по сравнению с городскими рабочими, негласно считались более низким сословием. Не случайно даже среди городских детишек самыми обидными обзывательными словами были «сельпо» или «деревенщина», которыми награждали тех, кто в чём-то недотягивал до остальных, был условно неполноценным. Одним словом, вопрос о возможном поступлении в сельскохозяйственную академию я для себя закрыла, основываясь как раз на том самом слове, которого я не хотела больше всего на свете. Я приняла это решение. Впервые в жизни приняла самостоятельное решение, несмотря на то что академия оказалась последним и единственным шансом куда-либо поступить и не возвращаться в Канев в роли неудачницы.
Я злилась на бабушек с их огородами, злилась на родителей, но ещё больше я ненавидела институт. От одной лишь мысли, что мне предстоит опять в него поехать за документами, внутри всё цепенело. Теперь он воплощал для меня вселенское зло, пронзительную несправедливость, с кричащей болью от которой я сталкивалась лишь в далёком прошлом. Он словно сорвал с раны присохший бинт, обнажив то, что я сама от себя старательно прятала. Эта безбрежная душевная боль внезапно оживила тлеющие комплексы, выпустив на свободу могучего демона. Это чувство, от которого я страдала в детстве, с которым боролась в юности и которое, как мне тогда казалось, смогла одолеть: ощущение какой-то внутренней ущербности, личностной никчёмности, чувство собственной неполноценности. Придавленный моим крепким характером, скованный моей отточенной волей, этот демон кротко сидел в своей норе, выжидая удобный момент для мести. Зная, что он всё ещё там, я нередко игралась с ним, засовывая в нору палку с гвоздем, смазанным ядом несправедливости, проверяя, жив он или нет. Как оказалось, жив и, вырвавшись наружу, мгновенно разрушил маску уверенной в себе девчонки, которую я старательно вылепливала для себя последние годы и спрятавшись за которой, бесстрашно смотрела в будущее. Ожившие комплексы вновь напомнили о том, что в этой жизни я никто, что у меня нет голоса, собственного мнения и что за меня всё решают другие. Я словно ждала этого демона, звала его, чтобы потом, прикрывшись чувством жертвы, обвинять всех вокруг в своих страданиях. Он необходим был мне – необходим для того, чтобы переложить ответственность за неудачи на кого-то другого: на бабушек, родителей, институт и саму жизнь. Я нуждалась в нём и ненавидела его одновременно. Я искала виновных снаружи, не понимая, что всё у меня внутри. Мой демон пребывал во мне, являлся частью меня, но встретиться с ним лицом к лицу мне предстояло ещё нескоро.


