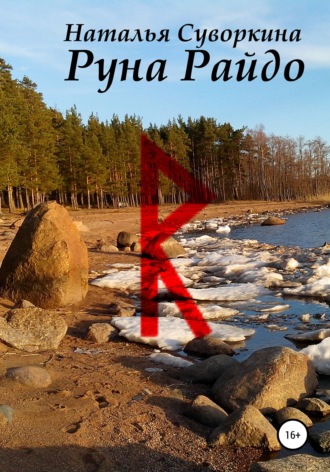 полная версия
полная версияРуна Райдо
– Ты …. необычный человек…Ты назвал пчелам свое настоящее имя?
– Да. Поехали, впереди еще день пути. По отцу я дан, а по матери из дома О’Брайенов. Она дала мне имя на гасип– Бриан . Но ты зови меня Асмунд. Я человек – обычней не бывает, птаха.
* * *
Асмунд.
На двор Бера въехали уже в полной темноте. Никого – только сиротливая скотина топталась и вздыхала в сарае, собаки он так и не завел, хоть и охотиться с ней сподручней, и побрухает, если зайдет на двор кто чужой. Хороший дом сложил Бер себе из толстых сосновых бревен, крепкая дубовая дверь, маленькое окошко под самой дерновой кровлей – запирайся на засов, спи спокойно. Дом до конца не выстыл – не так давно хозяин отправился в лес. Я разжег очаг, оставил Бренну подкладывать, а сам отправился в темноту – распрячь и накормить лошадей, забрать в дом оружие, да принести нам на ужин чего-нибудь из погреба. Наудачу сразу наткнулся на крынку с молоком. Для Бренны хорошо согреть. Спать уложил ее на лавку – кровати Бер не счел себе нужным смастерить, сам улегся у входа, завернувшись в отличное войлочное одеяло, таких он свалял себе несколько, хитрец. Усталая девочка уснула сразу, и я провалился в мертвецкий сон.
Меня разбудил грохот – в дверь били ногами, об стену, похоже, расколотили несколько горшков. Я с трудом глаза разлепил – стоял белый день. Бренна сидела на лавке, прижавшись к стене, в лице ни кровинки, зубы стиснула.
– Эй, молодые, вставайте! Кончилась брачная ночь. Гостей кто будет встречать?! Асмунд, выходите по-хорошему, а то подожжем. Нас трое: я – Арин, со мной Ислейв. И Олав тоже здесь. Олав, поговори с ним.
– Олав, подойди под окно. Я готов говорить. Не бойся, лук Бер забрал, стрелять мне нечем.
– Когда я боялся тебя, Асмунд Торгейрсон…
– Видно начал с сегодняшнего утра, раз грозитесь сжечь нас в доме. Но вы лжете. Вас ведь Хауг послал, значит, девушку вы должны привезти живой.
– Не иначе сам Локи впутал тебя в эту историю, мой друг. Нам приказано и тебя привезти живым. Хауг поклялся сам предать тебя злой смерти. Представляю, что он придумает, пока ждет нас с девицей.
– Ты точно сразу попадешь в Вальхаллу, Асмунд после таких-то пыток, – опять подал голос Арин – дивлюсь на тебя – снова подбираешь королевские объедки? Тебе мало было баб?
– Заткнись, Арин. Мы не будем биться, друг. Я благодарен тебе, что ты пощадил моего усыновленного, помню и как гребли с тобой бок о бок. Отдай девку, оружие брось в окно и выходи спокойно. Ты умрешь быстро и честно – я даже меч тебе дам, когда все будет кончено. Я не повезу тебя Хаугу на расправу, обещаю.
– Спасибо, Олав. Но мы не выйдем – ломайте дверь.
– Я знал, что ты упрям как тролль… Ты же вроде не был дураком, Асмунд – знаешь, что не справишься с тремя бойцами. Мы бы и вдвоем, пожалуй, уделали тебя. А так – шансов нет.
– Конечно, одной рукой сиську и письку не прикроешь.
– Шутишь? Это хорошо помогает справиться со страхом.
– Я не боюсь вас ни по отдельности, ни вместе.
– Зачем, скажи, ну зачем ты убил Харалда и парнишку? – вступил рассудительный Ислейв– Их ведь правда послала Гильдис – она уже гладит сыночка по голове…Они помирились, и королева готова отдать тебя на растерзание. Мы нашли этот дом, потому что твоя тетка о нем знала. Все одна сплошная подлость. Тебе-то что до девки этой? Отдал бы ее Харалду, и дело с концом.
– Да, я понял, что это Гильдис их послала, передумала …спасать внучка…Уж очень быстро они нас догнали – знали, через какие ворота мы выехали. Прости, Ислейв, я не могу объяснить, почему так поступил. Поверь, причина есть. И парня мне, правда, жалко.
– Выходи, Асмунд, без оружия. Если сломаем дверь, возьмем тебя и выполним приказ короля – привезем живым, не обессудь. Сдашься сам – убьем быстро. Мы признаем, что не хотим драки с тобой.
– Хорошо. Я согласен. Только девушка пока побудет в доме. Заберете ее, когда все закончится.
Я выбросил им меч Харолда и топор, лежавший у очага, подошел к лавке, на которой замерла Бренна. Провел ладонью по мягким волосам, шепнул «Прости, птаха». Снял со стены щит и, взяв со стола свой бастард, отодвинул засов.
– Ты зря пытался обмануть нас. Мы знали, что ты предпочитаешь длинный меч.
– Во всяком случае, вам придется убить меня. Хауга видеть не желаю.
Я спрыгнул с крылечка. У них щиты – мне точно крышка. Они накинулись на меня втроем, благородство решили не проявлять. Я старался, парируя, постоянно смещаться вбок вправо от Олава, сбивая его меч вправо от себя – таким приемом я мог отгородиться его телом от остальных. Да и им приходилось атаковать вправо – это для правшей очень неудобно. Я понимал, что мне не достать их, несмотря на то, что мой меч длиннее. Зато не очень удобен со щитом – все-таки работать им как двуручником легче и эффективнее. Но без щита сразу можно в такой ситуации сдаваться. Так, сосредоточившись на обороне, я мог защищать одновременно голову и корпус. Но не третью зону. И я быстро получил сперва глубокий порез предплечья, потом ткнули в ключицу и до кости пропороли бедро. Бедная девочка. Ей будет тяжело увидеть мой труп. Выглядеть он в конце истории будет не очень. Единственный шанс был бы – тяжело ранить хотя бы одного и бежать, прорвавшись через них. На время они, надеюсь, занялись бы раненым. Хотя бы кто-то один. За это время можно бежать и убить того, кто пустится в погоню. Но мужи были опытные и совсем не дураки. Они бы взяли Бренну, а потом нашли меня, уже потерявшего достаточно крови.
Стрела, вылетела из-за невысокой терновой изгороди столь внезапно, что никто из бойцов, увлеченно наступающих на меня, не успел закрыться щитом. Бер оценил ситуацию верно – он целил в горло Олава, который свалился Ислейву под ноги. Я тут же уколол Ислейва шею, когда тот, запнувшись о тело, открылся и мгновенно – в область сердца. Он еще успел достать меня, резанул по боку, но уже вскользь, в падении. Бер шагнул на двор с натянутой тетивой. Но я уже и сам справился – Арин сидел на земле, зажимая обрубок кисти.
– Ты не оставишь мне жизнь, Асмунд Торгейрсон.
– Конечно. Если мертв Олав…Из вас троих только твоя смерть меня не опечалит. Что ты там говорил о фантазиях Хауга? Он с тобой не делился?
Я оттягивал время, потому, что не хотел добивать его. Есть у меня отвращение к подобным сценам. К тому же я начал чувствовать боль и слабость. Из бедра просто текло, а ключицу драло невыносимо.
Я с трудом стянул рубаху, прижал к ране и присел, привалившись к теплому крыльцу. Надо же – солнышко сегодня. Прямо горячее, как летом. Мы с Бером переглянулись, я едва заметно кивнул. Сил что-то больше не было.
Бер поднял свой щит и топор без темляка, щепки он им у очага колол что ли. Однако заточен. Бер – аккуратный хозяин. Все у него поправлено, починено, наточено… Потом тела уберет и двор свежим песочком посыплет…Он помог Арину встать, подал в левую руку меч. Ну, давай, не бить же, как скотину. Но тот все – скис. Махнул пару раз по щиту. Бер и вправду выглядит устрашающе. Я прикрыл глаза, хоть с закрытыми глазами голова больше кружится…
Хороший все же распогодился денек. Я стоял на крыльце со спущенными штанами, подставляя лицо солнышку, и тянул понемногу зимнее пиво, а рядом на коленях стояла Бренна. Какие у нее прохладные тонкие пальчики…Только на приятной двусмысленности этой картинки никак не удавалось сосредоточиться, потому что она зашивала мне бедро и было это йотуны знают как больно и долго.
– Ты бы не пил пиво. Хмельное и густое вредно раненым. Я принесу воды.
Бера она послала за ольховыми шишками – варить какую-то припарку. Пусть командует и хлопочет. Отвлекает от тягостных мыслей. Надо убираться отсюда – будут и еще гости, в зубы их троллям. Точно пожгут. И пасеку, и сарай с коровой спалят – все Берово хозяйство.
– Женщина, перестань хоть на минуту тыкать иголкой. Дай подумать.
– Теперь рука. Сядь, мне так не достать. Плохо, что у Бера нет вина.
– Да у него отродясь не было вина. Откуда? Он эль варит и мед.
– Горячим вином хорошо бы промыть. Горячей водой недостаточно… И хватит напиваться. Я хочу спросить, Асмунд, о том же, что и этот …дан. Почему ты не отдал меня сразу, раз это сама Гильдис велела вернуть меня? Зачем дрался со своими?
– Кому они свои? Хауг прогнал меня, освободил от клятвы. Эти люди служат ему, стало быть, мы больше не друзья.
– Между тобой и Хаугом произошло что-то…серьезное. Что-то послужило поводом к смертельной вражде. Ты увез меня, потому, что хотел ему отомстить?
– Это тебя никак не касается, девица. А может ты соскучилась по красавчику-королю, хотела бы вернуться? Тогда извини – что ж не сказала-то. А!!! Боги, можно как-то осторожней ковырять! Лучше бы Бер зашил.
– Я бы хотела все же услышать ответ на свой вопрос.
– Ну, ладно. У меня, как у любого взрослого мужчины, есть гейсы. У каждого они свои – у кого-то один, у других, как у меня, – несколько. Если я нарушу эти запреты, удача отвернется от меня, и я скоро умру. Также я могу привлечь злочастье к тем, кто окажется со мной рядом. Один из моих гейсов – никогда не отказывать в просьбе старшей женщине моего рода. Моя тетка Гильдис – единственная и, соответственно, старшая женщина моего рода. Она лично попросила меня отвезти тебя за Ров и воспитывать дитя, которое ты родишь. Вернуть тебя назад она меня лично не просила.
– Это и есть причина? Не слишком правдоподобно звучит, уж извини. Мне кажется, это не все.
– Да. Нет! Ты скоро закончишь?!
– Я стараюсь сделать аккуратно, терпи. А если бы она лично попросила вернуть меня Хаугу?
– Я протестую против допроса под пыткой.
– А по другому следствие и не ведется, ты сам знаешь…Так что?
– Вон Бер идет с туесом и еще тащит птицу. Тебе щипать и варить нам похлебку, девица.
– Ты же хорошо понимал, что они тебя не пощадят. Если бы не Бер, ты бы сейчас лежал изрубленный, а меня бы везли по дороге на Миде. Ради чего ты ввязался, я хочу понять.
– Послушай, Бренна. Каждый из нас мог не родиться, мог умереть много раз, до рождения или после. И это событие произойдет непременно, даже если никогда ни во что не ввязываться. Искать смерти глупо, но и много думать о ней, тоже. Она может случиться с человеком сразу, а может – постепенно. Подумай: умереть, значит сразу лишиться всех вариантов. Ничего уже ты больше не получишь, не совершишь, ничего не почувствуешь, ничему не порадуешься. И, вот смотри, птаха: ты отказываешься от важного или прекрасного, от какой-то возможности в твоей жизни из-за страха. В этот момент и случается как бы маленькая смерть, потому, что прямо сейчас ты сам решил отобрать у себя неповторимый кусочек жизни. Что-то не сбудется, навсегда канет в небытие, не оставив даже воспоминаний.
Ну, или ранят…Когда ты знаешь, что боль в конце концов прекратится, все заживет и будет просто еще один шрам, то привыкаешь. После первого– второго раза перестаешь так уж бояться.
Другое дело пытки. Я видел, что и как долго могут делать с пленником озлобленные северяне – а Хауг, я предполагаю, очень зол… на себя. Но себя-то он не накажет. Он бы очень постарался доказать, что между нами нет более дружбы и братских чувств. А когда тело превращается в вопящий кусок окровавленного и обугленного мяса… Не хотелось бы так постыдно закончить это упоительное приключение.
– Все, перевязываю и помогу тебе лечь. Считай, что ловко сумел отвлечь меня от моего вопроса.
– Или себя отвлечь от твоего изящного рукоделия. Спасибо, птаха.
Глава 4
Бренна.
К ночи у Асмунда начался сильный жар. Рана на бедре воспалилась, несмотря на примочку. Конечно, мы никуда не двинулись, хоть Асмунд опасался, что Хауг пришлет еще бойцов или даже явится сам.
Бер не страшный, даже какой-то уютный, если привыкнуть. Молчит не потому, что невнятно говорит – это его не беспокоит, и не потому, что ему что-то не нравится. Просто о чем говорить-то… Ворчал только, что незваные гости разбили горшки, которые сохли на колышках. В чем теперь варить? Он не любопытен и принимает все, как есть. И он ни в чем не нуждается в своем лесном доме. Ночью я поила Асмунда липовым и ромашковым цветом, есть и сухая малина. Бьярки растирает ягоды с медом и сушит на крупных листьях. Составляет мази на основе жира, меда, воска и живицы. Нашлась и сухая полынь, кашица из которой годится для компрессов в таких случаях. Он считает меня своей гостьей. Сам ощипал пару диких гусей, сварил бульон и котел помыл. Жалел гусей: вот, только прилетели, создали парочку, надеялись выводить гусят… Рассказал, что, если убить одного серого гуся, надо ждать, пока прилетит второй и начнет плакать. Его тоже надо убить, иначе он сам себя изведет, они создают пары навечно. Пару убитых им людей он вовсе не жалел. Унес три трупа, закопал и двор почистил.
Всю ночь я просидела подле Асмунда. Он желает мне добра, но оставаться под его покровительством я не хочу. Это какая-то глупость: его, якобы, гейсы… Он что-то обещал королеве, а она теперь передумала. Все, кто «имеют право» и кто не имеет, с раннего детства решают мою судьбу. Этой ночью, когда я смотрела на бледное от лихорадки и боли лицо Асмунда, я думала – ну кто он мне – абсолютно никто. Дала ему настой, утоляющий боль, поменяла компресс. Останусь с ним, пока ему не станет лучше. Сегодня у меня в животе впервые шевельнулся ребенок Хауга. И вовсе не как говорили «как рыбка хвостиком» или «бабочка крылышком». Он сильно толкнул в желудок. Больше тянуть нельзя, и я приняла решение. И этот чужой хороший мужчина здесь совершенно ни при чем, а я в конце концов принесу ему смерть. Нет, хватит – сделаю, что должна, то, что я сама хочу – и будь что будет. Когда к утру жар спал, и Асмунд перестал ворочаться, я, наконец, тоже прилегла на лавку. Он сказал: «важное и прекрасное». От чего он не захотел отказаться?
Мне приснилась башня, в которой я провела долгие месяцы. Промерзшие стены, покрытые капельками влаги, тишина и тьма. Мое заточение началось после Ламмаса, а закончилось после Пасхи, но в башне я совершенно потеряла чувство времени. Я спрашивала у прислуги каждый раз о дне и часе, но для меня все слилось в одну бесконечную ночь. Из мебели тут стояла старинная короткая кровать, на которой спят полусидя, не желая во время сна уподобиться больным или умершим. У моего батюшки тоже была такая – он считал, что спать лежа не полезно. Тусклый свет из узкого окошка под самым потолком освещал часть комнаты, но лишь ярким днем. Осенью и зимой ярких дней бывает немного. Вечером свечи мне не давали.
Первую ночь, после того, как Хауг, почти оторвав меня за волосы от пола, швырнул на ложе, я не смогу забыть никогда. К счастью, я хотя бы не видела подробностей битвы в пиршественном зале, когда убивали родных – пролежала под столом, почти без сознания. От зрелища казни отца меня тоже избавили.
Помню, как больно ударилась головой и плечом о резной столбик кровати. Сначала он пытался говорить со мной, кричал. Я словно оцепенела и не могла понять ни единого слова. Хауг злился все больше, ударил меня по лицу и разорвал платье. Ведь я все еще была в праздничном платье: бархатном, темно-вишневом с таргетским кружевом.
Я боялась, что если хотя бы пошевелюсь, он разъяриться еще больше и задушит меня или страшно покалечит. Словно на меня напал опасный зверь, огромный и свирепый. Я замерла, закрыла глаза. Очень ли было больно? Острые зубья гребня впились в мою голову, и это было даже больнее. Говорят, медведь может задавить человека своим весом, он задохнется прежде, чем будет растерзан. И еще говорят что все, даже самое ужасное, когда-нибудь кончается.
Когда Хауг ушел, я долго лежала, все еще не смея пошевелиться, так, что видела свет факела в щели под окованной железом дверью.
Первым чувством, когда я пришла в себя, было облегчение, что опасность миновала, я жива. Затем стыд за свою трусость и эту подлую радость.
Я сразу сдалась, не сопротивлялась ни секунды, никакой борьбы – только животный ужас.
Стыд и отвращение… Меня преследовало невыносимое ощущение грязи на всем теле, не только там…Я была лишена возможности вымыться, и мне хотелось ногтями содрать с себя всю кожу, вместе с засохшей кровью и спермой. У нее странный мерзкий запах.
Невозможно связать в своей голове такие разные картинки одного дня. Приготовления к пиру: огни разожгли во всех трех очагах, не торф, а смолистые ароматные поленья. Слуги спешили, бранили друг -друга, но весело и вполголоса. Они тоже были рады – закончились «горькие шесть недель», когда старый хлеб почти доели, а новый пока не из чего печь. Пол зала устлали зеленым тростником – свежей соломы тоже мало. Столы украсили небольшими снопами первых колосьев и гирляндами цветов, уставили блюдами с яблоками и кашей из семи зерен с маком, маслом и медом – ведь пир и сговор одновременно с праздником Лунаса – начала сбора хлеба и прочих плодов земли. По древнему договору с сидами, они позволяют людям «резать и бить тело земли с Имболка до Ламмаса», иначе – Лунаса, Свадьбы Луга с прекрасной Эйре. От этого брака родился великий герой Кухулин. Правильно проведенный обряд сулит людям равновесие благ и мир. Остатки яств вечером съедят слуги, поднявшись на холм, чтобы разжечь там костры.
Уже внесли длинные столы для свиты короля и прочих гостей и расставляют на них кувшины с вином, крепким фруктовым бьером, медом и элем, раскладывают круглые ячменные хлебцы и свежие овечьи сыры. И будут вкусные пироги из нового зерна с рыбой, зайчатиной, дикой птицей, и обязательно с черникой, собранной в последнее воскресенье лета.
Даны любят драгоценности и яркие ткани – Хауг был такой красивый. Вот он учтиво отвечает на приветствие Ангуса, затем дерзко берет меня за руку и уводит в сторонку, подальше от любопытных глаз. Наш флирт, его подарок – изящный гребень, с золотой вставкой-фигуркой дракона. Глаза– гранаты как капли крови. Эти камни так и называются – «голубиная кровь». Я тогда успела похвастать им Уне. Она сказала, что гранаты это камень влюбленных и символизирует чистоту невесты. Она меня смутила, хоть я и была уже посвящена в тайну супружеских отношений. Беата и прочие были весьма откровенны в своих разговорах.
Хауг попросил позволения самому украсить гребнем мою прическу. Случайное прикосновение к шее. Я волнуюсь. Вот он улыбается мне, слегка пожимает руку, произнося любезности, в которых слышится горячий интерес, нежность…
Но разорванное платье и липкая кровь на ногах не оставляли надежды на то, что это все кошмар, а не реальность. Зал родного дома усеян телами моих близких и тех, кого я знала с детских лет. Столы с блюдами перевернуты, снопы и цветочные гирлянды растоптаны. Я не буду королевой хенресин и данов – королевой прекрасной земли Эйрин.
Те, кто не погиб в этот день, сейчас на дыбе завидуют мертвым.
Умом я понимала, что всему виной чудовищный замысел моих родных, то, что я сама того не зная, поднесла Хаугу кубок с ядом, что на галерее прятались лучники, что это была попытка государственного переворота, подлая ловушка, измена.
Меня использовали в качестве приманки родной отец и дядя. Судьба приманки известна – ее обычно пожирают. Но мной пожертвовали, не задумываясь. Отец был так ласков, щедр. Когда мне шили это платье для пира, он знал, что свадебного сговора не будет. Планировал ли он вернуть меня в монастырь или у него был другой жених наготове? Готов ли он был к тому, что в меня тоже попадут, ведь стрелы посыпались на нас градом? Могла ли я успеть отойти в безопасное место до залпа? Или это было не важно? А если бы я отпила из кубка несколько глотков? Отец смотрел, как я подношу его к губам и промолчал…
Если бы я не крикнула, не толкнула Хауга так, что он расплескал вино, не успев сделать глоток… Но ведь и Хауг закрыл меня собой от стрел, пихнул под стол…Почему же потом он не поверил мне, решил, что я участвовала в заговоре? Много позже я догадалась – он думал, что в монастыре меня в это втянули сестры, связанные с Воинами Вереска, и я была активной частью их совместного с Ангусом плана. Ведь Беата действительно имела с этой партией отношения, вела с ними дела, участвовала со своими ближними подругами в политических играх. Конечно, как ему было поверить, что я не была во все посвящена.
Король и его люди, отправляясь на пир, под одежду надели кольчуги тончайшего и прочнейшего лэллорийского плетения. Только поэтому большинство получили лишь царапины и успели к своим щитам и оружию.
Я должна была лишь поднести ему кубок в знак уважения к гостю и вернуться на свое место. По нашему обычаю женщины сидят за отдельным столом и на пиру не пьют вина. У данов – иначе. У них мужи и дамы садятся парами, друг против друга и пьют вдвоем из одной чаши, украшая пир беседой. Хауг попросил меня присесть с ним. Даме прилично пригубить из кубка первой. В монастыре я изучала яды, мать Арисима давала мне крошечные дозы, дабы развить нечувствительность. И, когда я попробовала вино, я сразу узнала этот вкус. Я поняла, в чем дело, не сразу, передала ему кубок и почувствовала горечь, как жжет опухающий язык, а ведь я только лизнула. Никто не ожидал, что я закричу и толкну короля, выбивая кубок из рук. Он не успел даже к губам поднести. И сразу нас накрыло залпом стрел.
Обо всем этом я раздумывала часами, днями. Мысли шли по кругу, иногда принимая какое-то странное, абсурдное направление, но, всякий раз сворачивая на одно. Конечно, замысел принадлежал дяде, как вождю клана. Уна, хоть и делила с ним ложе, разумеется, ничего не подозревала. Не могла она, пришивая жемчуг к рукавам этого великолепного платья, знать, что оно может быть пробито стрелой, вместе с телом ее любимой воспитанницы. До сих пор в моих ушах стоит стук жемчужин о каменный пол.
Зачем Хауг его разорвал? Если бы он приказал, я бы сама послушно сняла. О чем я, господи, думаю! Куда бы я теперь его надела… Вишневый бархат хорошо впитывает кровь, она на нем совсем не видна. Куда его дели? Должно быть, сожгли.
Я чувствовала одновременно тошноту и голод, которые затем станут постоянными. Не могла насытиться вполне сносной едой, которую мне приносили. А иногда – не ела, просто не могла. Я вовсе не хотела умереть, нет. Смерть страшила. Через силу я впихивала в себя немного, утешаясь тем, что Хаугу доложат – я почти не трогала обед. Может быть, ему не все равно. Потом меня стало рвать. Я страдала от того, что воду приносили только во время трапезы, и меня выворачивало на сухую.
Раз в сутки приходила пожилая дама – я подозревала, что не простая прислуга. Наверняка в ее обязанности входило шпионить за мной. Зачем это надо Хаугу или королеве, когда я и так полностью в их власти и лишена всякой возможности бежать или связаться с родными, я не думала. Просто мне тогда казалось опасным и враждебным любое слово и даже взгляд, исходящий от людей. Она купала меня, выносила ночную вазу, причесывала, иногда приказывала переодеть белье или платье. Чья это одежда я не думала.
Тянулись дни, недели, месяцы. Апатия сменялась яростью, затем снова отчаянием. И холод. Я все время дрожала, никак не могла согреться. Я сходила с ума от одиночества и тишины. Каждый день и ночь боялась, что Хауг придет и желала этого. Я все время о нем думала. То с ненавистью, то как о любовнике. То жаждала его сострадания, то мечтала о том, как зарежу его во сне, то о том, как мы помиримся, как он обнимет меня. Я прощу его. Как я прощу его?! Было ясно, что мы не сможем после этого ужаса жить ни вместе, ни порознь.
И он приходил иногда, но никогда не засыпал в моей постели и не ласкал меня. Отметившись как мужчина, Хауг молча уходил. Мы не разговаривали и не смотрели в глаза. Иногда мне казалось, что он жалеет обо всем произошедшем, но не может это прекратить. Не знает, что со мной делать дальше, не в силах прервать это злое наваждение.
Но я не могла его избавить от затруднения, потому что, к счастью, не имела ни ножа, ни яда.
А потом я увидела ее. Сначала просто как некое пятно, лишь чуть светлее окружающей тьмы. Я стала напряженно вглядываться в это…туловище в оборванной окровавленной сорочке без головы…Я так орала, что пришел отрок-охранник. Он велел мне замолчать, но я так безумно себя вела, так умоляла его не оставлять меня одну, что он сжалился и оставил мне зажженный масляный светильник. Он ничего странного, конечно, не увидел, и решил, что я лишилась рассудка. В дрожащем свете лампы я разглядела ее лучше. Нет, голова была, но как бы более прозрачная, едва различимая – растрепанные лохмы, закрывающие лицо. И она двигалась: отвела свои патлы, уставилась на меня немигающими темными глазищами и заговорила. Ее голос был словно скрип виселицы, словно скрежет ржавого от крови пыточного колеса, резкий, невыносимый. В комнате стало еще холоднее, как будто каждое слово нежити наполняло ее затхлым ледяным дыханием склепа.
– Ты жалеешь себя, молодая королевна? Плачешь о том, что этот обезумевший мальчишка убил в тебе? О том, что заперта во мраке и холоде? Но ты не принадлежишь ни своему мучителю, ни смерти. Солнечные лучи согреют тебя, и ты услышишь пение птиц. А то мягкое, слабое, сладкое и глупое, что было побито морозом, из самой твоей сердцевины снова примется в рост, как новый побег на живучем кустике розы.



