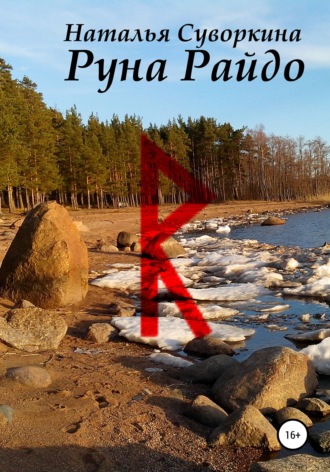 полная версия
полная версияРуна Райдо
– Куда?
– За Ров. В мой замок, птаха. Я лерд.
– У тебя за Рвом есть замок, а ты торгуешь хмельным и водишься с какими-то…Девкам своим рассказывай.
– Девкам, с которыми я вожусь, гораздо интереснее содержимое моих штанов и особенно их карманов, чем замок за Рвом. Ладно, ладно, не смотри так сердито, госпожа моя. Вижу, когда закипает гнев, страх проходит. Как мед?
– От него щиплет во рту. Но он очень…
– Тихо. Видишь те большие елки в низине? Вон там?
– Да, а что…?
– Тихо. Спускайся туда и полезай под елку. Убедись, что тебя не видно и сиди там. И ни звука, чтобы ты ни услышала. Не вылезай, пока я не приду за тобой сам, поняла?
* * *
Судя по звукам, далеко слышимым в тумане, времени у него было достаточно. Асмунд бросил взгляд в низину: старые ели представляли собой такие роскошные непроницаемые шатры, что даже ему не было видно, где спряталась Бренна. Затем не торопясь вытянул свой бастард. Клайдеб – один из двух прекрасных клинков, купленных после продажи приличного надела, крутанул его пару раз, размял кисти и вернул в ножны. Откусил от лепешки. На поляну выкатили трое: два отрока и с ними старший – боец примерно одних с Асмундом лет. Один из отроков был знаком. Олавов усыновленный – Хелги. С Олавом ходили на одном корабле. Хель! Как неудачно. Мальчика надо сберечь. Асмунд прихлебнул из фляги и приветственно помахал ею в сторону конных.
– Здорово, мужи.
– И тебе. Асмунд?
– Вроде я.
– Отдыхаешь? Кобылу вижу, а где ж девица?
– Пошла по нужде. Вон за тем валуном присела. А что?
– Так далеко пошла? А не сбежит?
– Это вряд ли. Живот у нее прихватило. А стыдится. Вот и искала камушек побольше да подальше. А что?
– А ты не штокай, а давай ее пожитки. Гильдис приказала вернуть ее назад. Передумала.
– А… Слушай, отрок, ты Хелги, Олавов сынок? Ты пойди к тому валуну, но девице не показывайся. Стой за березой и жди. А то она вас увидит, побежит с перепугу, еще свалится в какое бучилово. Потом вытаскивай. Хелги в нерешительности поглядел на старшего – тот кивнул.
Когда Хелги отошел на порядочное расстояние, он не услышал за спиной бульканье перебитой артерии своего приятеля. Тело опустилось на мягкий мох беззвучно.
Обернулся на звон мечей и растерялся. Харолд и этот Асмунд бились, со страшной скоростью и силой нанося удары. На миг Хелги выпал из реальности и ему показалось, что старшие показывают им правильный красивый бой.
Секуще-рубящие движения, лаконичные, быстрые, серии ударов и финты, вот Харолд парирует плоскостью, затем батман и колет, а Асмунд показывает движение уклонения. Контрудар и Харолд снова защищается жестким отбивом, затем атакует с целью сблизится, ростом он пониже. А вот лезвие против лезвия с целью надавить и поймать в ловушку после сопротивления, снова разошлись, вот удар, направленный в сустав, нет догадался, парировал…
И тут Харолд поскользнулся. Может осклизлые прошлогодние листья или гриб, может раскисший помет лесного зверя…Нога поехала назад и, прежде чем он успел восстановить равновесие, Асмунд прыгнул, сшиб противника, используя свой немалый вес, навалился и вогнал клинок глубоко подвздох, с усилием пропоров кольчугу.
Хелги стоял и не мог пошевелиться. Старшие преподали правдивый урок: удача на миг отвернулась от недруга – используй мгновенно, максимально, ни жалости, ни благородства. Потому, что в следующее мгновение она может изменить тебе.
Асмунд поднял с земли какую-то тряпку, тщательно протер свой бастард, по очереди оттащил тела за кусты можжевельника, отошел к яме, заполненной талой водой, чтобы вымыть залитые кровью руки.
Хелги стоял и смотрел. Ужас неминуемой смерти, паника его парализовали. Он понимал, что убежать не сможет – ноги стали слабые, непослушные
«Девица!», – вдруг вспомнил он, обнаружив в своей руке нож. Надо схватить девицу, приставить к горлу…Только вот где она…
– Эй, Хелги! Иди сюда. Да не бойся, не трону. Нет нужды. Кто послал вас и так понятно. Харолдов меч мой по праву, а лошадей забирай. Да спрячь ты нож. Передай королеве Гильдис…а впрочем, ничего… Ступай.
– Что я скажу в замке? Как объясню, что ты меня отпустил?
– Сказать советую правду. Все знают, что Олав мне друг.
Глава 3
Бренна.
После того, как Асмунд убил этих людей на поляне, поехали быстрее, и вскоре выбрались на открытое место. Я ничего не спросила про убитых: ни кто они, ни за какую вину. Хоть и видела торчащий из можжевельника сапог, старалась не смотреть туда. Асмунд этот человек опасный. Он как это вот холодное море спокоен, как море коварен и безжалостен. Как все даны. Куда он везет меня на самом деле, что у него на уме? На простого бонда не похож, но и на отигнира тоже. Какой он лерд? Уложил двоих бойцов, я и «Отче наш» прочитать под елкой не успела. Наемник? Говорит чисто по-нашему, вроде ласково – все с усмешкой, как с малым дитем. А мог бы сделать что угодно – я представила, как он хватает меня за волосы и бьет лицом о ствол дерева или сворачивает шею одним движением. Или прижмет к земле да задерет подол на голову. Я тут одна с ним, в этой чаще нет ни души. А если б и услышали, кто ж сунется. Выпустит кишки и бросит на съедение лисам. Или люпусы сожрут. Говорят, они теперь везде рыщут.
Мы выехали на берег, чтобы в известном Асмунду месте напоить лошадей из ручья, текущего с холмов в залив.
Ветер разогнал тучи, на миг открылось небо, яркое, какое бывает только весной. Солнце осветило темные громады можжевельника, и они сделались изумрудно-веселыми, светился молочный ягель, вспыхивали бусины прошлогодней брусники, пылал сосновый подлесок, подступивший к самой воде, и виден был далекий остров в солнечной дымке – Березовый, так называло его племя, когда-то населявшее этот край.
Но, через минуту, небо опять стало белесоватым, как брюхо мертвой рыбы. Снова его затянула снежная туча, крупные хлопья таяли у кромки мутной ледяной воды. Сквозь мглу еще просвечивал белый кружок солнечного диска, но вскоре и он растаял.
Дни-то должны уже стать длинными, светлыми, но на этот раз Старуха не хотела уступать. Сумрак словно пропитал воздух, подслеповатая серость, морось стали привычны. Влага на лице, сырая одежда, озябшие руки и ноги. Ломота в каждой косточке, суставе, сведенные мышцы, усталость. Погреться бы в бане, посидеть в душистом жару, напиться теплого молока с хлебом, уснуть под одеялом у огня. Дома, с Уной.
– Эй, птаха, ты что, спишь? Свалишься. Дай-ка я тебя пересажу к себе.
– Нет, пожалуйста, не надо. Я не сплю, просто задумалась. Замерзла немного. Мы не остановимся погреться у костра?
– Не противься, это глупо. Давай. Не получится погреться, птаха. Придется двигаться всю ночь без остановки на ночлег. Поедем берегом. На открытом месте при свете луны немного видно, а в лесу хоть глаза выколи темнотища. Нас, конечно, снова могут побеспокоить мужи по твою душу, мы ведь как на ладони в лунном свете с любого холма. Хотелось бы оказаться под крышей Мил Моинир как можно скорее. В усадьбу Бера они точно не сунутся. Поэтому мы должны промелькнуть как тени.
– Почему усадьба так называется – Медовая Поляна?
– Пересаживайся на моего Зверя, тогда расскажу все. Тебе понравится история, похоже на сказку.
– Все, что ты мне говоришь с момента нашей встречи, не более, чем сказка, я уверена. Даны лгут, как дышат.
– Но я полукровка, малыш, так что иногда хочу соврать, а правда фррр…и вырвалась. Я хенресин по матери.
– Не трогай, убери от меня руки!
– Эй! Ну-ка втяни коготки, ты, дикий котенок! Надо очень… Я хочу тебя закутать в свой брэт. Сиди смирно и скоро согреешься.
Тело предательски требовало тепла и опоры, и я позволила Асмунду прижать меня к себе и укрыть своим плащом. Моя голова билась о его грудь, когда вороной Зверь шел по кочкам. Хоть, надо признать, конь у него замечательный: мощный, но умный и осторожный, бережный к всаднику.
– Ну, слушай, госпожа моя, хм… дозволенные речи.
У короля Хрольва Змеиное Жало был удачливый хевдинг – Гуннар по прозвищу Свартхед. Был он очень некрасив, и, как видно из его прозвания, черноволос, маленькие карие глазки смотрели на мир из-под косматых бровей, зато силен и свиреп. Однажды в бою он получил страшный удар по голове. Два дня пролежал хевдинг без сознания, однако дышал, и конунг велел унести его с поля боя и везти домой вместе с прочими ранеными.
Когда Гуннар очнулся в драккаре посреди волн, он вскочил, заревел, набросился на ближайшего к нему гребца и покалечил его голыми руками и зубами. На Гуннара насели вдесятером, связали. Весь путь он не ел и не пил, был странно слаб, однако постепенно пришел в себя.
С тех пор стал хевдинг берсерком. Все уважали его и боялись, даже сам Хрольв, поскольку в бою он стоил семерых воинов, но, как это бывает с берсерками, впадая в священную ярость, не владел собой и не различал своих и чужих. Когда он впадал в боевое исступление, в нем не оставалось ничего человеческого – ни разума, ни чувств. Не восприимчивый к боли, он не истекал кровью от самых глубоких ран.
– Этого не может быть. Все люди и звери могут истечь кровью.
– Ну, так говорят. Но на самом деле, конечно, после боя берсерки иногда умирают от потери крови и нервного истощения. Ну, не перебивай, птаха, из меня и так никудышный скальд. Я рассказываю, как положено: вооруженный двуручной секирой, без кольчуги, а часто и вообще обнаженный до пояса, он ревел, изо рта показывалась пена, и он, прорубаясь сквозь строй врагов, выглядел так безумно и устрашающе, что те забывали об оружии и бежали. Однако, берсерк обретает скорость и ловкость медведя. А от медведя далеко не убежишь. Они, говорят, даже топор или меч чувствуют как когти, как продолжение лапы. Берсерк на языке данов означает «голая рубаха» – они не только без брони бьются, но и голое тело раскрашивают черным – узорами битвы. Хотя, не только они – боевая магия есть и у нас.
– У нас? Мне показалось, ты дрался за данов. Я уже слышала подобные рассказы, но думаю, тут много выдумки? Правда, что они пьют одурманивающий отвар из грибов, чтобы впасть в подобное состояние?
– Нет, птаха. Ничего Гуннар не пил. Ты права – не так это часто бывает на самом деле. Большинство тех, кто называют себя берсерками, просто врут, притворяются, чтоб их боялись. Но Гуннар – нет. Всему виной был удар по голове, что-то там повредилось, вот и стал он впадать в безумие. Это состояние приходило, когда он видел картину боя, слышал его звуки, чувствовал смрад – запах крови и внутренностей. Важно также и самовнушение и всеобщее убеждение, что он действительно становится не человеком. Он ничего потом не помнит, не отвечает за свои поступки в этом состоянии, как бы ни были они чудовищны и жестоки. Это все же приступ болезни, поскольку потом берсерка накрывает состояние непреодолимой слабости, которое иногда длится долго.
– А ты раскрашиваешь лицо перед битвой, Асмунд? Или тебе, чтобы убивать, это не требуется?
– Не требуется. Я не слишком верю в пользу краски в этом деле. Кто не в первый раз топает в строю и понимает, что сейчас будет – боится и так. А кто не боится, иногда успевает об этом пожалеть, а иногда – нет.
– А ты боишься?
– Естественно. Пока не сшиблись. Потом становится некогда, да и возникает особое состояние, когда кровь ударяет в голову. Не знаю, как это описать…восторга? Нет, наверное. Но приятное. Его трудно забыть или чем-то заменить. Поэтому, кроме страха, перед боем испытываешь нетерпение и волнение. Как перед тем, чтобы лечь с желанной женщиной.
– Хвастаешься?
– Похоже, да, девица. Трясу фазаньим оперением…
Но боевая «магия» имеет и другой смысл. Раскраска как бы дает воину «иное лицо», помогает стать на время кем-то… не собой, тем, кто не испытывает ужаса и жалости.
– А ты жалеешь тех, кого убиваешь?
– Не в бою. Иногда, признаюсь, после всплывают…впечатления.
В детстве мне даже оленю было трудно перерезать горло. Однажды отец приказал мне, потом учил свежевать. Мне было плохо, хоть я и виду не показал. Потом привык.
– Так что же было дальше с Гуннаром?
– Да…Пришло время, когда удача оставила хевдинга. Случилось так, что однажды, вернувшись из долгого похода, он обнаружил, что его жена беременна, и по срокам выходило, что ребенок не мог быть его. Напрасно жена, рыдая, клялась, что неповинна в измене, что носит этого ребенка во чреве уже целый год. Ведь в такое невозможно поверить.
Гуннар запер неверную и стал ждать, когда родится ребенок, чтобы посмотреть, на кого он будет похож. Наконец, женщина родила мальчика, похожего на Гуннара – с шапкой густых черных волос и карими глазками, смотревшими на новый мир из-под насупленных бровок. Но отец его был непреклонен. Досадуя, что не понял, кому отомстить, он отказался признать ребенка своим и велел отнести в лес.
– Это ужасный, бесчеловечный обычай язычников.
– Но ведь никто и не считает, что это хорошо, птаха. Однако так поступают и на гасип, и даже крещеные, например, если ребенок рождается больным. Это только для очистки совести говорится, что его отдали эльфам. Эльфы, мол, заберут дитя и вылечат его. Нет, все на самом деле знают, что калека никому не нужен в этом жестоком мире. Уж лучше ему умереть, пока он ничего не понимает. Верно, птаха?
– Нет.
– Ну, как бы там ни было, малыша отняли у матери. А она, как ночью все уснули, побрела в лес его искать, хоть и была слаба после родов, а стоял страшный холод. Утром нашли ее мертвой, в руке – старая юбка, в которую ребенка завернули, прежде чем трель унес его, а малыш пропал. Исчез бесследно – ни чужих следов вокруг, ни крови.
Гуннар, когда принесли тело жены, впал в неистовство. Бросился с топором сначала на треля, хоть тот лишь исполнял его приказ, затем на достойного мужа, который пытался его урезонить. Да и зарубил обоих, а многих покалечил. Тут уж люди, которым изрядно надоело бояться, набросились всем миром, накинули на него сеть и убили.
Прошло лет семь-восемь, все уж и позабыли о злосчастном берсерке. Конунг Хрольв Змеиное Жало стал за это время настоящим королем, занял город Миде, откуда мы с тобой держим путь.
Однажды на двор зажиточного ландбоара явился мальчик. Он выглядел крепким, был просто, но добротно одет. Обратившись к хозяину, он назвался Бьярки, сиротой и попросил дать ему кров и пищу в обмен на службу, но с условием, что останется свободным, гиафтлеларом – добровольным рабом он ни за что не желал становиться. Хозяин смекнул, что хоть малыш и некрасив лицом – смугл и черноволос, а также совсем неразговорчив, но силен для своего возраста и может пригодиться на хозяйстве. Для начала, он приказал ему наколоть побольше дров и удивился, видя как ловко ребенок управляется с топором. Тогда велел дать мальчугану похлебки и позволил остаться.
Его прозвали Бьярки-медвежоноком, и прижился он у тех крестьян не сразу. Работал старательно, но не всегда понимал, что от него требуется, словно бы впервые видя некоторые предметы домашнего обихода. В основном ему поручали простые вещи: натаскать воды, помахать лопатой или топором. Коровы и козы хорошо его слушались, вот и стало основным для мальчика делом пасти их да чистить хлев.
Но дворовые псы никогда не ластились к нему, а часто рычали и норовили укусить, словно чужака, да с лошадьми он не ладил. Попросят его запрячь, а конь при виде Медвежонка бесится, ловчится приложить копытом или хватануть за голову. Так он и ходил всегда пешком и пастушьей собаки себе не завел.
Говорил Бьярки мало и, казалось, сами звуки человеческой речи даются ему с трудом. Зато у мальчика открылся талант, который сделал его работником необычайно ценным. Его не жалили насекомые. Он умел не только находить и вынимать дикий мед, но отыскивать и приносить из леса слетевшие рои, сажать их в домашние борти и забирать мед, не отравляя пчелиные семьи серой, как это принято у крестьян. Вместо этого он всегда оставлял достаточно меда, чтобы пчелы не умерли зимой. Бортник, который убедился в преимуществе этого способа, поскольку хоть с борти меда вынималось меньше, зато весной пчелы трудились, едва показывались лесные первоцветы, охотно сделал его своим помощником, платя хозяину за это не только медом, но и монетой. Он даже разрешал ставить рядом со своим бортевым значком руну, которую мальчик выбрал как свою метку – алгиз и вволю угощал его и сырым лакомством и хмельной домашней медовухой. Не зря, мол, пчелы – символ покорности и трудолюбия, его уважают.
«Сладкая жизнь» Бьярки у некоторых домочадцев вызывала зависть. Стали поговаривать, что такая любовь пчел не дается без колдовства. Вот хоть кошка– никогда об ноги его не трется, зашипит и убежит…Хоть и не взрослый еще, а уже колдун.
К тому же Бьярки не стремился подружиться со сверстниками. Он не искал их расположения и не просился в игру. Конечно, его дразнили. Особенно мальчишки фостре – рабы по рождению, рыжие близнецы, что считали себя лучше прочих слуг, потому, что родились в доме. Они презирали его за то, что он выполнял самую грязную и постыдную работу охотно и усердно, а на каверзы их и злые слова внимания не обращал. Пытались братья драться с ним, да вышло не в их пользу, и они оставили идею его поколотить. Но однажды – Бьярки был уже подростком – ему велели починить почти безнадежно изорванную сеть. А обращаться с челноком мальчик был не мастер. Он долго мучился, наконец, ему почти удалось с ней справиться, но он отложил работу и зашел в сени напиться, стояла жара. Один из близнецов – Скелди, чтобы «позлить дурака», взял сеть и порезал ее ножом – распорол всю починку. Он бросил сеть на землю, а сам уселся на крылечке, ждать потехи. Вернувшись, Бьярки поднял сеть и стал крутить ее, с удивлением разглядывая огромные дыры, вновь возникшие на уже зачиненных местах. Когда он поднял взгляд на Скелди, тот издевательски улыбнулся и показал нож. И тут Бьярки сделал то, чего Скелди никак не ожидал – спокойно подошел к крыльцу и точным ударом босой ноги в запястье выбил нож, одновременно накинув ему на голову и плечи драную сеть. И, перевернув вверх тормашками, сунул головой в бочку с дождевой водой, что стояла для полива огорода. И не собирался вынимать. Скелди дрыгал ногами в воздухе, пускал пузыри, в панике силился перевернуть бочку или вытащить руки и, конечно, захлебнулся бы, не приди ему на помощь кто-то из взрослых. Ведь бочка была узка и полна до краев.
Когда братья побежали жаловаться, хозяин угощал в доме своего родственника – старика– конюха из людей ярла Оттара. Он выслушал мальчишек, нахмурившись, снял со стены плетку и велел позвать Бьярки.
Мальчик явился и со спокойным равнодушием выслушивал сердитые речи, но на расспросы не отвечал и не проявлял раскаяния, а глядел куда-то в стену, словно видел там что-то и улыбался, чем распалил гнев хозяина еще сильнее. Хозяин поднялся из-за стола с плетью в руке. Он замахнулся, но мальчик мгновенно вывернулся из-под руки и, не глядя, схватил со стола остро заточенный длинный нож, который у крестьян называется хаусвер и используется как для разрезания жареного мяса, так и для обороны от всяческих бродяг и разбойников, каковые могут нагрянуть в любой момент в наше благословенное время.
– Ты зачем хватаешься за хаусвер, тролль тебя задери! Я спрашиваю, кому, щенок, ты угрожаешь оружием? Живешь под моим кровом восемь лет, ешь мой хлеб – заревел хозяин.
Бьярки продолжал сжимать в руке нож, он страшно побледнел, но продолжал смотреть в сторону. Выражение его лица вдруг стало совсем детским, радостным, кривая улыбка исказила черты.
«Он не будет меня бить, я не раб его», – только и сумел произнести Бьярки заплетающимся языком, затем выронил хаусвер и рухнул посиневшим лицом вниз. Судорога выгнула его дугой, изо рта пошла пена.
– Я знаю эту болезнь. Это недуг св. Валентина.
– Валентин – «фол нет хин» – «падать вниз»? Остроумно, девица.
– Этому святому надо молиться, что смешного? Еще помогают валериана, полынь, дурман, белена, омела, красавка.
– Полный набор, чтобы наверняка ноги протянуть. Помогает жертвоприношение Тору и ожерелье из позвонков гадюки или ужа, я слыхал. Ну, Бьярки– то лечить никто и не думал. Напротив, его стали еще больше сторониться. Кто – то говорил, что так наказывает лунный бог Мани– ведь большинство приступов случалось в полнолуние. Утром бедняга не помнил, что было с ним ночью. Иногда он во сне бродил по двору, а однажды – убежал, не просыпаясь, в лес и вернулся только через два дня, совершенно истощенный. Но с тех пор всегда уходил в лес перед приступом.
Все это не нравилось хозяину – проку-то от Бьярки было все меньше… За седьмицу до припадка он впадал в тоску, беспричинный страх одолевал его, болела голова. И чем ближе подходило полнолуние, тем меньше он походил на человека: становился злобным, ни с кем не разговаривал и, казалось, видел нечто, невидимое остальным.
А тут еще хозяйский приятель, тот самый конюх вспомнил берсерка Гуннара – парень, мол, крепко на него похож… И пошла молва так и сяк: то ли отец его был берсерк, а матушка от медведя понесла, то ли, когда отнесли младенца в лес, выкормила его медведица и жил он с ней в лесной избе… Словом решили – пахнет тут недобрым. Перекинется зверем да всех домочадцев и задерет. Одна хозяйка с дочкой Хильд – сверстницей мальчика – жалели его. Потому и медлили прогнать.
Но он сам начал верить этим россказням, будто станет оборотнем или уже стал. Бьярки что-то переживал особенное в своем трансе, какие-то видения необыкновенные его посещали. А братья– фостре совершили последнюю подлость. Случилось так, что люди с соседнего хутора завалили косолапого. Послала хозяйка людей купить мяса, жира и шкуру на теплое одеяло. И братья придумали такую пакость. После обеда и говорят Бьярки: «Ты, медвежий ублюдок, похлебку ел? Она из медвежатины. Может своего родича отведал. Теперь ты проклят». Стали они его оскорблять и провоцировать на драку. Но добились только нового приступа. Тогда положили Бьярки на свежую медвежью шкуру, а когда очухался, сказали – вот твоя шкура, мы видели, как ты перекидывался. Следующий раз на кол тебя насадим, оборотней железо не берет.
Уж не знаю, поверил ли им Бьярки или просто устал от ненависти в этом доме, только он попросил у хозяина за службу топор, хороший нож и еды на первое время и ушел.
Здесь мы остановимся, птаха, и спешимся ненадолго.
– Но куда мы приехали?
– Это славное место. Надо поздороваться с Липой и пчелами.
* * *
Когда они выехали на Мил Моинир, было уже достаточно светло, и Бренна смогла хорошенько рассмотреть Дерево. Это была раскидистая старая Липа – и трем взрослым людям не охватить, покрытая узловатой, бурой от возраста, но мягкой и теплой корой. Девушке сразу же захотелось обнять дерево, прижаться щекой к коре – как к материнской руке. Ее молодые веточки приобрели красноватый оттенок, почки набухли. Бренна приникла ухом, закрыла глаза, и ей показалось, что она слышит, как от корней к кроне поднимаются весенние соки. Обычно в эту пору деревья уже зеленые.
К удивлению Бренны, Асмунд тоже обнял дерево и что-то зашептал. Затем отошел на край поляны и вполголоса запел на гэльском: «Дорогие пчелки, это Бриан О’ Брайен аэп Мумман сын Торгейра Аудунсона. Я вернулся из долгого путешествия. Со мной Бренна дочь Ангуса О’Нейл аэп Лагин. Мы не причиним зла, мы хотим быть вашими гостями, как и гостями Бера, вашего и нашего друга».
– Теперь мы можем ехать, Бренна. Дом, который станет нам приютом на какое– то время, еще не близок. Отсюда начинаются медовые угодья моего друга. Мы еще на раз увидим медоносные деревья. Но больше всего меда лесные пчелы собирают с цветущей черники.
– Ты пел им? Ты занимался …магией?
– Это не магия….хотя…Рассказывают, что Липа растет из праха мудрой женщины, которая просила, чтобы ее похоронили именно так. Она желала после смерти стать деревом – домом для птиц и пчел. Ты ведь тоже почувствовала, что это необычное место. Место покоя, но и буйной жизни: летом здесь все гудит и щебечет. Когда солнце в зените, лучи едва могут проникнуть сквозь листву, а тень от дерева покрывает почти всю поляну – так широка и густа его крона. В день Бельтайна, когда Липа цветет, и вся поляна благоухает медом, сюда приходят девушки с пирогами и бьером, поют Липе и украшают ее лентами. Конечно, это не ясень, не дуб и даже не тис – не одно из пяти Великих Деревьев Эйрин – это женское Дерево. Это Мать, которая благословила нашего Бьярки и подарила ему первый рой. Вокруг поляны стоят колоды, помеченные руной алгиз.
С пчелами надо не только здороваться, но и рассказывать им о важных событиях – смертях и рождениях, свадьбах, путешествиях и гостях…
Магия… Я верю, что иногда человеку может стать спокойно и хорошо, как будто надо выбрать путь, и вдруг одну из тропинок осветило солнце… Приходят знаки, подтверждение мыслей, зримые ответы на вопросы, внятно советуют руны и встречаются правильные попутчики. Тогда все начинает случаться в нужный момент и только так, как должно было быть. Это сложно объяснить, но это, да, магия. В нее я верю.



