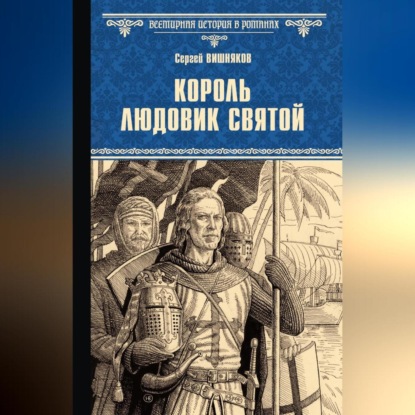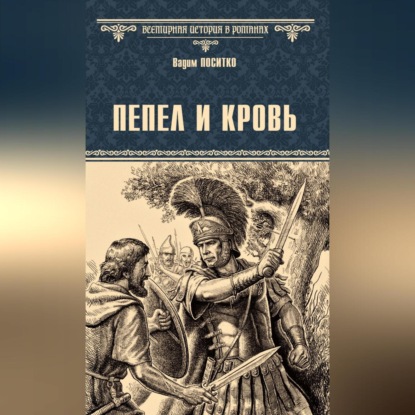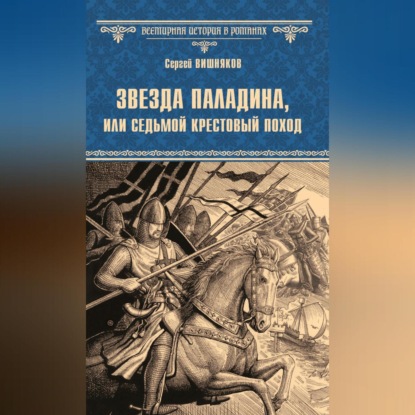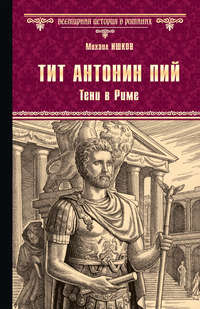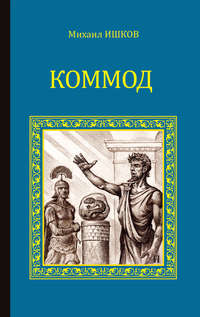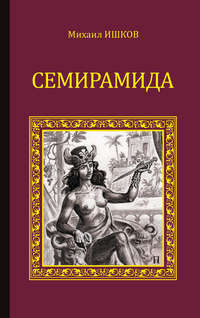Полная версия
Сен-Жермен
Попытайся одолеть первый, самый трудный подъем и с перевала тебе откроется новая даль, новая линия горизонта. Ступай дальше – ничего, если для этого тебе придется спуститься вниз, помесить грязь, переночевать в забитой путниками корчме, послушать, о чем судачат люди. С наступлением утра снова в дорогу, к следующему перевалу.
…Третью неделю я не выхожу из своей спальни. Недостойные люди, шуты, вымогатели толпятся вокруг моего ложа, за окном шумит флорентийский люд. Во времена Цезаря мой родной город называли «Цветущая колония Юлия», здесь был устроен военный лагерь. Скоро 7 марта, день Святого Фомы Аквинского, провозглашенного покровителем наук. Мое сердце с тобой, в переделах чудной Венеции. Ты, верно, любишь раскатывать на гондолах. Нанимаешь ли кастратов, чтобы услужить их пением прекрасным дамам? Прошу тебя, старайся поменьше оказываться на людях. Не забывай, как часто встречаются в этом страшном городе вделанные в стены каменные львиные пасти. Вспомни надписи, какая осеняют эти жуткие архитектурные украшения – «Для тайных доносов против не уважающих церковь и богохульников». Не забывай о каменных колодцах, в которые навечно заключают провинившихся в свободомыслии или заговорах граждан. Разве сравнится с ними свинцовая темница, устроенная на чердаке Дворца дожей! Только мой титул удерживает инквизицию в рамках приличия. Я с тревогой думаю, что случится с тобой, когда меня не будет в живых! Екатерина Сфорца, жена Джованни Медичи, сына основателя младшей линии нашего рода, опасаясь врагов, скрывала своего сына, переодетого девочкой, в монастыре. Это великое чудо, что малыш избегнул кинжала или сосуда с ядом и дожил до совершеннолетия. К слову отец его, сам Джованни был храбр необыкновенно. Он был назначен капитаном республики и заслужил прозвище Непобедимого. В битве при Мантуе он получил смертельную рану. Умер двадцати девяти лет от роду после ампутации ноги. Во время отрезания сам бестрепетной рукой держал факел перед хирургом. Горячо любившие его солдаты до конца своей жизни не снимали траурные одежды…»
В Венеции я остановился в доме синьора Фраскони, местного аптекаря, являвшегося также одним из последних тайных розенкрейцеров в Италии. Человек недюжинного ума, обладавший резким густым басом, он частенько разговаривал сам с собой. Лечебные препараты Фраскони готовил отменно, соблюдал все требования, которые святая церковь предъявляет к доброму верующему, имел могущественных покровителей, со своими братьями по тайному ордену почти не общался, так что власти Венеции почти не досаждали ему. Как оказалось впоследствии, он жил в ожидании меня или подобного мне молодого человека, кто волей обстоятельств изначально был герметичен, чья судьба с рождения представляла из себя загадку, секрет которой необходимо было тщательно скрывать. Прочитав рекомендательные письма от Джованни Гасто, от профессоров из Сиенского университета, от единомышленника из Феррары, он долго разглядывал меня, хмыкал, что-то пришептывал. Я отошел к стрельчатому окну, глянул на канаву, в которой колыхалась грязная, мутная, пропитанная отвратительной зеленью вода, словно досадуя, что её заперли в этом каменном мешке, где ей негде разгуляться, обернуться могучей волной, обрушиться на берег, ударить в борт корабля. Я на мгновение ясно увидел, как блеснула молния, громыхнули раскаты и чудовищный вал лег на палубу несчастного судна… Здесь же, между каменными осклизлыми стенами, водица только поеживалась, покачивала мусор.
– Твои воспитатели очень хвалят себя.
Услышав голос синьора Фраскони, я вздрогнул, очнулся, повернулся к старику, сидящему в кресле с изогнутыми ножками. На голове его возвышался старомодный парик, который носили во времена Тридцатилетней войны.
– Я очень старался, мессер Фраскони. У меня не было выбора, кроме как проявить должное усердие в овладении науками и искусствами.
– Ну, и чему же выучили тебя эти университетские профессоришки? Что есть тинктура?
– Это несуществующая субстанция, с помощью которой должно было совершиться превращение низшего металла в высший.
– Верно. Тогда скажи, что есть алхимия, или, как выражаются мрачные англичане, all химия, то есть «всёхимия»? Как ты считаешь, должна ли она замыкаться только на полезном изучении свойств химических элементов, их способности в определенных пропорциях вступать в соединения, или в её силах отыскать тинктуру, с помощью которой люди смогут осуществить три великие цели: превращение при содействии философского камня низких металлов в золото, открытие «панацеи» или эликсира жизни и получение всеобщего раствора, смочив которым любое семя можно во много раз увеличить его плодовитость?
– Могу ли я сомневаться в словах мудрых наших предков, синьор Фраскони? Может ли человек, подобный мне, удовлетвориться мыслью, что сон всего лишь отдых тела и души. Я верую в высшее предназначение химии и даже если все эти надежды только плод воображения и самообман, все равно стоит заняться подобной наукой. Это лучше, чем губить людей на полях сражений, или ввергать народы в нищету, а граждан в каменные казематы…
Хозяин прижал палец к губам.
– И это верно. Иной раз неосуществленная мечта становится куда бóльшей ценностью, чем само золото. Попытка не пытка, граф, – он помолчал и неожиданно громко рявкнул. – Ты пришел! Я буду учить тебя!..
Глава 3
Третье письмо догнало меня по дороге в Англию, куда я, расставшись с любезной моему сердцу Франсуазой де Жержи, отправился, чтобы хотя бы на время сбить со следа ищеек-иезуитов, которые так и крутились вокруг меня. По-видимому, они что-то пронюхали насчет намерения Джованни Гасто, который к тому времени нежданно-негаданно стал великим герцогом Тосканским, наделить меня богатым наследством. Я не люблю пышных выражений, но на остров меня в самом деле повлекла неведомая сила. Как раз в ту пору мои ночные кошмары оформились в нечто осмысленное, путеводное. Первыми впечатлениями я поделился с Джованни Гасто во Флоренции, куда заехал, покинув Венецию.
Об этом стоит рассказать подробнее. Прежде всего, узкая, зажатая между каменными стенами лужица, открывшаяся передо мной из окна дома синьора Фраскони, во время погружения в дрему обернулась обширным океаном, наблюдать за волнующейся поверхностью которого я сначала мог только с поверхности. Словно упавший за борт пассажир, перепуганный до смерти, сорвавший голос… Я то взлетал на гребень жидкой горы, то низвергался в пропасть. Не сразу мне удалось сообразить, что за расцвеченные необычайными, радужными пятнами холмы вздымались вокруг меня. Расцветка была отвратительной, вызывающей отвращение. Я бы никогда не посмел воспроизвести эти цветовые сочетания на холсте. Грязно-желтый соседствовал с буро-зеленым, муть с остатками нечистот – ну, Бог с ними!.. Только спустя пару ночей я смог выбраться из этой клоаки и воспарить над волнующейся, вздыбленной поверхностью. Небо – или то, что можно было назвать небом, отливало платиновой тяжестью. Однородный облачный слой лежал низко, кое-где касался находящихся в постоянном движении водяных гор.
Опекун с нескрываемым интересом и восторгом выслушивал мои рассказы. Все эти дни я ходил словно в бреду, пил исключительно чай, похудел донельзя. Пока не увидел свет, ясный, обильный, исходивший с Востока, с вершин каменной страны, выступившей из этого беспредельного отстойника. Был он зеленоват, чуть в бирюзу, чистоты и силы необыкновенной. Его отголоском показалось мне сияние, которым неожиданно окрасился остров на западе, формой напоминающий сидящую собаку. Сияние было сильно приглушено, однако отсветов хватало, чтобы разогнать пятна цвета серы, колыхавшиеся вокруг. В другом направлении – я бы сказал на юге – тоже зарождалось светоносное пятнышко. Почему «на юге», «на западе»? Поутру я подолгу ломал голову над истолкованием этих ослепительных, выворачивающих душу картинок. Это был мучительный вопрос, как относиться к подобному бреду – иносказательно или в цветастых образах таился намек на что-то реальное, способное вести и направлять.
Ненастной погодой встретила меня французская граница. Я очнулся от окрика жандармского начальника, который пропускал с той стороны карету какого-то важного господина. Косой дождик скребся в узенькое, разделенное деревянной решеткой стекло моего экипажа. В этот момент четверка крупных задастых лошадей с лихостью протащили под вздыбленным шлагбаумом огромную угловатую карету. Это была государственная экспедиция – посол короля Франции Людовика XVI направлялся в Голландию. Помнится, лет тридцать назад вот также мне довелось повстречать на границе графа д’Аффри,[17] тогдашнего представителя его величества в Нидерландах. Случилось это в 1759 году. Мой верный кучер Жак также поставил экипаж на обочину, также с протянутой рукой подошел к нам человек в форменном ношеном донельзя кафтане и с гордостью заявил:
– Vous etes deja en Frans, Messeur,[18] – затем дрожащим голоском добавил. – Et je vous en felicite,[19] – и протянул руку.
И на этот раз пришлось положить ему в ладонь несколько су. Промокший бродяга сверкнул в мою сторону взглядом и отошел в сторону. Через несколько минут мы уже скакали по ухоженной, профилированной дороге, устройством которых занимался ещё Людовик XV. На полотне не было и следа грязи, которой так богаты дороги Германии. В некоторых городишках проезжая часть сужалась настолько, что борта кареты задевали о стены домов. О лужах, роскошных германских лужах, я уже не говорю. Жаку приходилось не раз помогать нашему доброму коньку выволакивать колеса из жидкого, сдобренного помоями месива. Дождик мерно барабанил по крыше, успокаивал, вот только взгляд осмотрщика экипажей не давал мне покоя. Ранее, в молодости, в начале службы он вряд ли посмел бы наградить проезжающего дворянина дерзким взором. Ныне его взгляд обжигал. Прежнее грозовое предчувствие вновь обняло мою грудь, стеснило дыхание. Весь последний год, сразу, как только я ушел из жизни, мне не давали покоя ощущения надвигающейся беды. Порой я отказывался видеть сны и по ночам отправлялся на прогулки, старался по возможности долго избегать лежачего положения – мне неприятны были отчетливые виды будущих бедствий. Мне постоянно мерещился какой-то чудовищный, напоминающего букву «П» аппарат, с лихостью, одну за другой отсекающий головы. В памяти вновь возникло лицо этого озлобившегося таможенника, который до сих пор так и не удосужился сменить штопаное перештопанное платье, а ведь у него в ближайшем городке возле Лилля стоял собственный дом, построенный на подачки, выклянченные у пересекающих границу, имелась выгодная торговля, которую он устроил на паях со своим сменщиком. Я все про него знал, все выведал за эти несколько секунд, во время которых он выпячивал свою немощь и нищету и демонстрацию которых завершил таким грозным взглядом. Скоро этот буржуа возьмется за ружье, и мне вовсе ни к чему знать, в кого первого он выстрелит, чью плоть потревожит штыком.
Это было жуткое, сводящее с ума ощущение безнадежности и бессмысленности всяких потуг образумить людей, внушить им мир и согласие, убедить, что любой спор не стоит и капли пролитой крови. Что, в конце концов, все мы братья, о чем мне поведал в Лондоне полковник Макферсон, оказавший мне помощь в разгадывании снов о свете и безбрежном мутном океане, в который я то и дело проваливался с приходом ночной тьмы, а также познакомивший с легендой о храме.
Но прежде, ещё на борту пакетбота, на котором я впервые отправлялся в Англию, в момент желудочных судорог и приступов головокружения я ощутил, что свет, являющийся мне во время ночных скитаний, есть указатель направления, и падает он не только сверху, из-за туч, но и пробивается снизу, сквозь толщу воды. Вот туда и надо стремиться, тем светом следует полнить душу. Полковник Макферсон помог мне расположить эти бредовые откровения в соответствии с требованиями потусторонней географии, в которой полюсами служили не точки пересечения оси вращения земного шара с его поверхностью, а особые области – средоточия света и тьмы.
Вместе с полковником мы читали письмо моего опекуна, в котором он писал об алхимии, о тайнах древнего ордена тамплиеров, об обществах вольных каменщиков, которым не миновать того, чтобы продолжить возведение нерукотворного Храма, являвшегося домом Святого духа, как церковь служит прибежищем Иисуса Христа. Писал о том, что мне надо надежно укрыться, так как смерть с косой стоит у его изголовья. Призывал заняться поисками смысла, ради которого пчелы собираются в строй и возводят улей…
«Не только же ради продолжения пчелиного рода или насыщения медом человеческой утробы трудятся они. Тот, кто удовлетворяется подобными объяснениями, подобен былинке на ветру. Даже если пчелы трудятся только для этого, все равно в силах человеческого разума наделить их высшей целью, которую и нам не грех примерить на себя. Вдруг и нам придется впору. Не из подобных ли фантазий рождается вера в животворящую силу Святого духа? Не мы ли сами источник его и причина рождения? Не мы ли, двуногие пчелы, творим себе и мечту, и веру? Эта дорога усыпана обломками свергнутых кумиров, но разве этот хлам – единственное, чем усыпан наш путь?»
Между тем дождь, поливавший предместья Лиля, кончился. Скрылась из вида пятиугольная цитадель, построенная славным Вобаном,[20] бесчисленные ветряки, окружавшие город, построенные для выжимки рапсового масла. Лилль был несчастнейший город на свете, более десятка раз его осаждали враги. Здесь жили от осады до осады, по ним вели счет годам, и эта своеобразная хронография куда как точно отражалась в его неприступных стенах. Тягловыми животными здесь служили собаки, и один из хозяев уверял меня, что его кобель может везти семьсот фунтов на расстоянии полулиги. Врет, конечно, ради того, чтобы заработать лишний суа, он готов был пожертвовать своей собакой, единственным кормильцем многодетной семьи. Это было жалкое зрелище – пегий, худой пес, впряженный в повозку с огромными колесами…
Теперь за окном кареты лежала плоская равнина Пикардии. Ровно нарезанные каналы, угодья и нивы, с которых уже месяц как были убраны хлеба; поросшие кустарником межи. Разве что рощи здесь погуще, чем во Фландрии. Даль была подернута клочьями тумана. Меня знобило, видно, не просто далось мне посещение собственной могилы. Никогда ранее я с такой силой не ощущал свою несовместимость с тем, что мы обычно называем временем. Глядя на себя со стороны, я не уставал поражаться безумной работе моего мозга, одновременно перемалывающего события, относящиеся к первым десятилетиям нашего века, к его середине и к самому концу. Собственно времени как шкалы следующих одним за другим исторических фактов для меня не существовало. Я одинаково свободно – зримо и слышимо – чувствовал себя в любой точке хронологической таблицы. Я пересек границу Франции в августе 1788 года, но в то же время все, что происходило со мной в 1724 на улицах Лондона, в 1760 годах на дороге в Париж оказывалось ощутимой и непосредственной явью.
Кто я?
Этим вопросом я не уставал задаваться все эти годы? Для меня не существует ни прошлого, ни настоящего, ни будущего – только сиюминутное и вечное, а также свершившееся и не совершенное. Эти понятия я с грехом пополам ещё могу различить в своем сознании, все остальное не для меня. Я человек, лишенный мечты. Я неспособен мечтать, всякая моя, как мне кажется, фантазия, причуда, всякий вымысел, в конце концов оборачивался реальностью. Других видений, кроме пророчеств, предсказаний, проникновения в тайну свершающихся – не важно, в прошлом ли, в будущем – событий, мне видеть не дано. Всякий бред являлся либо свидетельством произошедшего в истории, либо предчувствием непременно надвигающегося события. Дороги Франции особенно располагают к размышлениям, но даже они, ухоженные, поддерживаемые в идеальном порядке, не в состоянии были освободить меня от печали, от неистребимой горечи, которая скопилась в моей душе за все эти столетия, которые я прожил на свете.
Одно спасение женщины! Хвала Всевышнему, за то, что он не ограничился одним неудачным опытом и не пожалел ребра своего любимца, чтобы создать это нежное, обольстительное существо. Я всегда мчался от одного приключения к другому, эта пуповина крепче других связывала меня с реальностью. Один из самых увлекательных анекдотов ждал меня в Лондоне… Она была очень молоденькая и необыкновенно остроумная кокетка, эта маркиза Д. Я познакомился с ней в богатых меблированных комнатах госпожи Пенелопы Томпсон, расположенных на Брук-стрит, в нескольких минутах ходьбы от квартиры, которую занимал в ту пору в Лондоне несравненный Гендель. Несмотря на выдающуюся худобу и впалые щеки, хозяйка пансиона оказалась приветливой и добродушной женщиной. Вам когда-нибудь приходилось встречать сушеную, высокую и добродушную англичанку преклонных лет? То-то. Удивительные подарки иногда подбрасывает нам жизнь.
Этот пансион оказался хранилищем удивительных тайн, способных взволновать и куда более здравомыслящего человека, чем я. Спустя два дня, как-то вечером я позвонил в колокольчик у себя в кабинете. Вместо ожидаемой служанки Софи, лицом, возрастом и фигурой во всем похожей на свою хозяйку, ко мне вошло прелестное существо семнадцати лет. Девушка краснела, поминутно приседала, глядела в пол и наконец прошептала что-то вроде «что угодно господину?»
– Господину угодно узнать, откуда ты, милое созданье? – спросил я.
Так и не добившись толкового ответа, я попросил принести мне чаю. Девушка быстро исполнила просьбу. Я принудил её налить чашку и для себя, однако усадить горничную мне так и не удалось. Её поминутно вспыхивающие и бледнеющие щечки были очаровательны. Наконец я сумел выяснить, что зовут её Дженни, что хозяйка наняла её, чтобы заменить Софи, которая отправилась в деревню, где скончался её «папа». Софи жаждала разобраться с наследством. Скоро Дженни призналась, что она тоже из деревни, и у неё тоже есть «папа», который тяжко болен. Уже совсем тихо она призналась, что хотела бы заработать пару гиней на его лечение и возвратиться в Кент.
Через неделю в пансионе поселилась молодая, очень миленькая француженка. Она назвалась вдовой маркиза Д. и после смерти супруга решила «посмотреть свет». Точнее побыстрее потратить доставшиеся ей по наследству денежки.
Я в тот же день коротко познакомился с ней. Мы посетили Британский музей, Вестминстерское аббатство, здешний собор Святого Павла, чей купол огромным сверкающим полушарием встретил меня при подъезде к Лондону. Когда служба кончилась, проводник предложил нам подняться в верхние галереи. Маркиза изъявила согласие, и мы поспешили наверх. Это был утомительный и трудный подъем. Я бывал на Страсбургской башне, бродил по альпийским горам, однако если бы не моя спутница, то отказался бы от славы покорителя самой высокой точки Лондона. Она же взбиралась, даже не затруднив дыхание. Однако на верхней площадке, почти под самым крестом я забыл о своей усталости…
Сверху Лондон показался мне грудой цветной черепицы, на Темзе – ежовым мехом – густые джунгли корабельных мачт. Наверху вовсе не ощущался прогорклый запах древесного угля, которым повсеместно, во всех концах отапливался великий город. Здесь маркиза позволила себе повести окрест крошечной ручкой и объявить:
– В Англии, – прощебетала она, – надобно только смотреть. Слушать здесь нечего. Англичане прекрасны видом, но скучны до крайности. Женщины здесь миловидны – и только. Их дело разливать чай и нянчить детей. Ораторы в парламенте напоминают индейских петухов, здешние актеры умеют только падать на сцене. Все это несносно, не правда ли?
Она казалась такой взволнованной, кровь её была в страшном движении. Я кивнул, подал руку и мы пошли вниз, дружелюбно разделяя опасности спуска и говоря без умолку.
– Не оступитесь, мадам, – предостерег я её. – Не сделайте ложный шаг.
– Ах, женщины так часто поступают… – ответила она.
– Это потому, что порой падение для женщины бывает таким приятным, возразил я.
– Возможно, но от этого выигрывают только мужчины.
– Но потом дамы так грациозно поднимаются…
– Не без того, чтобы до конца дней своих не чувствовать печали, укорила меня маркиза.
– Что может быть прекрасней печали очаровательной женщины?! – спросил я.
– Наша беда в том, что мы всем готовы пожертвовать ради его величества мужчины…
– Этого владыку частенько свергают с престола, мадам…
– Как бедного Чарльза I,[21] не так ли?
– Почти, мадам…
Ах, какая это была женщина! Какая деловая партнерша!.. Она обладала редкой проницательностью и первая угадала, что имя кавалера Шеннинга, которое я принял, чтобы освободиться от настырной опеки отцов-иезуитов, было всего лишь маска. К своему стыду я не сразу обнаружил, что моя милая маркиза одного со мной поля ягодка. Случилось это в преддверии телесного облегчения, когда она, разгулявшись, принялась ловко, выказывая профессиональные навыки, подстегивать меня. Потом, не в состоянии надышаться запахом её юного тела, я долго с удивлением прикидывал, каким же образом эта веселая парижанка сумела провести знатока потусторонних тайн, адепта и свидетеля света небесного. Ах, как она щелкнула меня по носу, предложив составить компанию на паях по ловле богатых любовников. В мою задачу входил поиск подходящих клиентов, а уж до нитки, улыбнулась она, я всегда сумеет их обобрать. «При этом, – уверила меня Жази, – я всегда буду доступна для вас. Ваша прыть пришлась мне по нраву».
Я принялся хохотать, она также безудержно поддержала меня и открылась, что Париж ей пришлось покинуть не по собственной воле. Она едва успела опередить полицейских ищеек, которые почему-то решили, что именно малютка Жази похитила дорогое ожерелье у одного из высокопоставленных вельмож.
– Это был такой скупердяй, что я была вынуждена сама похлопотать о причитающейся мне плате, – заявила она. – Не страшись, мой милый, у меня ловкие руки, и все, что мы с тобой добудем, я спрячу так, что никакой полицейский прохвост не сможет обнаружить.
– Ах, Жази, ты так непосредственна. Твое предложение делает мне честь, но, к сожалению, я вынужден отказаться от него. Я очень недолго пробуду в Лондоне. К тому же, милая, ты несколько ошиблась, обвинив меня в присвоении чужого имени. Если в отношении Шеннинга ты безусловно права, что же касается «кавалера», я имею полное право на подобный титул.
– И я не держусь за этот вечно простуженный Лондон, – заявила она. – У нас впереди вся Европа, а за ней медвежья Россия. Там я буду изображать итальянку. Мне так хочется побыть итальянкой, это говорят очень увлекательно. Буря страстей, слезы, жадные лобзания, на которые вынуждает меня могучий, сбежавший из Сибири любовник. Мне так хочется побыть итальянкой, я думаю у меня получится. Так ты не в Россию направляешься?
Я усмехнулся.
– Нет, Жази, я собираюсь в Индию.
Она охотно совмещала слежку и постель. Трудилась добросовестно, так что миссис Томпсон вынуждена была сделать ей замечание. Через несколько дней Жази съехала в снятый для неё сыном небезызвестного члена верхней палаты, маркиза Б. домик. Я было взгрустнул, так как сам по собственному почину во время прогулки в Гайд-парке представил её этому бессовестному повесе, однако она сумела мгновенно развеять мою печаль, напомнив, что я должен ей изрядное количество монет. В первый момент это ошеломившее меня требование поглотило всякую печаль от разрыва наших отношений. Помню, в тот день, прогуливаясь возле площади Кавендиш я приметил несчастного слепого старика, которого вела маленькая собачка на снурке. Собачка остановилась возле меня, начала ласкаться, лизать ноги. Нищий сказал дрожащим голосом: «Сэр, я стар и слеп!» Более ничего… Я дал ему несколько пенсов. Старик благородно поклонился, дернул снурок и собачка побежала дальше.
Это было очень разумное четвероногое существо – она вела хозяина подале от края тротуара, от ям, из которых выглядывали полуподвальные окна. Часто останавливалась, ласкалась к прохожим (но не ко всем а по известному только ей выбору – собака оказалась физиогномисткой!), и почти каждый из них подавал нищему. Я шел за ними следом и в тот момент меня сразила простенькая мысль. Странным показалось мне, что порок с такой легкостью выманил у меня три десятка гиней, а человеку, истинно нуждавшемуся в поддержке, я пожалел лишний пенс. Неужели так легко откупиться от добродетели и так дорого высвободиться из объятий зла? Я догнал старика и сунул ему шиллинг. Вечером, в присутствие Дженни, тоже испытал некоторую неловкость и передал девушке необходимую на лечение отца сумму. Каково же было мое удивление, когда перед самым отъездом из Англии я узнал, что девушка, вернувшись в Лондон, поступила к Жази горничной.
Я видел её судьбу наперед, для этого не надо было обладать даром ясновидения. Встретился, попытался отговорить, однако Дженни ответила, что хозяйка очень добра к ней, хорошо платит и к тому же намерена открыть модное ателье, где ей будет предоставлено место младшей компаньонки.
Обо всем этом у меня было время поразмышлять на борту торгового флейта,[22] отправлявшегося из Плимута в далекую Индию, где мои новые друзья хотели укрыть меня, а также проверить, насколько точны мои учителя в оценке моих способностей. Меня в ту пору донимали мучительные сны, смысл которых состоял в том, что долгожданная заря занималась в восточной стороне. Там появился великий герой, чьим предназначением должно было стать насаждение новой правды на земле, установления долгожданного братства между людьми.