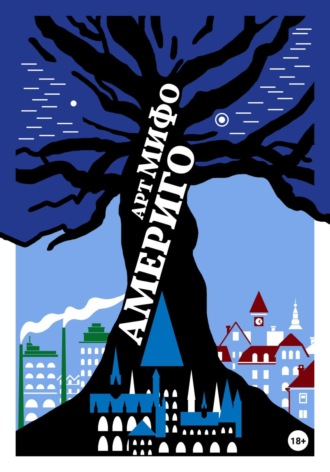
Полная версия
Америго
– Кто это… что это? – округлив глаза, спросил Уильям.
– Дикобраз. Я сказала ему, что он вредный, – гордо объяснила девочка. – Потому что так и есть. Я не вру. Он только фырчит и жалуется!
Но Уильям пропустил все это мимо ушей.
– Пушистое, – сказал он и кинулся вслед за зверьком. Не успел он догнать его, как метла внезапно раскрылась и стала веером; безобидное на вид существо в один миг сделалось большущей колючкой, замерло и как-то напружинилось всеми иглами. Уильям норовил уж схватить его, но лесная девочка взбежала на покатую каменную глыбу и прыгнула сверху прямо ему на спину с такой силой, что он перевернулся вверх тормашками, и дикобраз махнул мимо них.
– Что ты все дерешься! – проворчал он, подбирая цветы, уцелевшие чудом.
– Глупый! Иголки!
– Он колется? Я подержать только. Что такого?
– Этого так не поймаешь, – уверенно заявила Элли. – Его надо выследить… а я умею выслеживать. Хотя он все равно не дается. Он просто бояка. Меня он вот тут проткнул, гляди, – показала она на свою ладонь.
Уж этого Уильям никак не ожидал услышать.
– Прямо насквозь? – спросил он и даже стиснул кулаки на всякий случай. Одно дело ободрать локоть или разбить колено, но ведь насквозь – это самая настоящая рана! Сколько должно быть крови! На память пришел Крюк – чудовищная Тень, колоссальный ящер, который нашел свою смерть меж отвесных стен ущелья, в висячей деревне, упав грудью на опорный столб разрушенной платформы. (И это, кстати говоря, – часть одной из самых интересных историй, подаренных человеку Создателями!)
– Не вытащишь потом! – сказала Элли, изображая это как-то нелепо, отчаянно дергая рукой. – Уж лучше его не цапать.
И этот новый опасный зверь, уже юркнувший куда-то на дно овражка, без конца поддакивал ей из своего укрытия смешным голосом, словно мамина подружка – маме.
К тому времени, как небо над деревьями похорошело и залилось первой предрассветной краской, дурные предчувствия успели изрядно сотрясти Уильяма. Они с Элли как раз присели отдохнуть на ствол поваленной пихты; девочка начинала клевать носом, но все еще стойко продолжала рассказ о том, как однажды видела в этой части Леса редкого барсука с черной полоской посередине лба.
– Мне надо возвращаться, – неуверенно сказал Уильям.
– Ты меня совсем не слушаешь, – обиженно протянула девочка, но потом, зевнув, сказала: – Хотя это правда, я с тобой уже заболталась.
– Если я не вернусь до того, как они придут сюда… – добавил Уильям и задумался. – Будет плохо. Я и так рассердил учителя. И мама! Что теперь скажет мама! И цветы…
На него разом налетело столько тревог, что он не мог понять, какой из них нужно уделить внимание. И увидел ирисы. Они лежали рядом, из букетика рассыпавшись в шесть или семь вислоухих голов. Цветы не спали; без слов они корили его, что он бесстыдно носил их с собой всю ночь, так и не сделав то, для чего был послан обратно в Лес. А Элли посапывала с другого боку, мало-помалу заваливаясь на его плечо.
– Цветы, – твердил мальчик, – я должен вернуть их. На место.
– Какое место? – сквозь сон пробормотала Элли. – Я знаю всякие места… и все-все тебе покажу. Там есть пролески и водосборы… еще ветреницы.
– Ирисы! – громко сказал Уильям. – Я должен вернуть ирисы!
Элли мгновенно проснулась – и все поняла.
– Не бросай их здесь, не бросай! – пронзительно закричала она. – Они погибнут, если ты оставишь их здесь!
– Но меня же и в самом деле съедят, если я…
– Неправда! – оборвала она его. – Ты врун, но ты совсем-совсем не трус! Возьми их с собой, так будет лучше.
– И тогда цветы не умрут? – обрадовался Уильям.
– Умрут, – вздохнула Элли и вдруг тихонько всхлипнула.
Не зная, чем развеселить ее, он спросил, как будто между прочим:
– Тебе, может, тоже нужно чего-нибудь съесть?
Он не столько беспокоился о ней, сколько о собственном пустом животе – ведь он голодал со вчерашнего дня.
– А, – махнула рукой девочка и снова зевнула. – В Лесу полно… всякой еды. И потом, есть я не так уж люблю. Вот сон – другое дело. Без него никак нельзя…
Уильяму интересно стало, что у нее за еда, и он теперь жалел, что не подумал спросить раньше. Элли предложила спрятать ирисы под рубашку, чтобы их никто не увидел, и взяла с него обещание, что он придет на следующий день.
– Потому что сегодня я буду спать, – пояснила она. – Ты меня очень утомил.
Она проводила его почти до самого берега, указывая по дороге ориентиры, которые должны были помочь ему не заплутать и выйти к их полянке. На месте, где Уильям накануне свернул не туда, в широком стволе дуба зияло преогромное дупло, – и ему стало немного стыдно из-за того, что он его не заметил.
– От дуба – налево, не направо, – серьезно говорила девочка. – Направо только со мной. Дальше я не пойду – до встречи!
Она понеслась обратно в чащу, колыхая своей синей одежонкой – и скоро скрылась из виду, а Уильям смотрел на старый дуб и вновь думал о том, не чудилась ли она ему все это время – как призрак из книги, вызванный лишь затем, чтобы заморочить голову усталому страннику.
Переведя глаза в сторону, он увидел, как солнце неумолимо взбирается по ветвям. «Я вернул Блага, я не виноват, у меня их нет», – залепетал он мысленно, готовясь при случае повторить это вслух – без запинок и немой робости. Только бы не попасться опять учительскому взгляду. Только бы не попасться.
Он побежал по направлению к берегу, но все же не очень быстро – от таких приключений начинали побаливать ноги. Солнечные лучи насмешливо поглядывали на него с левого боку; а он продолжал говорить себе – еще не так высоко, еще можно подстеречь остальных где-нибудь у арки и смешаться с ними, когда они пробьются в ворота, и переждать снаружи, за статуей, и найти самому дорогу через переулки, и донести цветы до рук Лены и все объяснить ей…
Увы, вскоре до него долетели ликующие вопли из толпы детей. Когда он вышел на берег, там уже осваивались самые проворные ученики. Те, кто до сих пор боялся лестницы, медленно, держась за перила, передвигались по ступенькам бочком. За ними терпеливо спускались двое взрослых: один из них учитель, его широкую бесформенную блузу можно было различить еще из-за деревьев, другая коротковолосая, красивая, как искусственный цветок, молодая женщина – в обыкновенном зеленом жакете, поношенной зеленой юбке и зеленовато-прозрачных колготках, с гранитолевой зеленой сумочкой в руке… и это была мама! Они с учителем обменивались какими-то фразами; судя по озабоченному выражению ее лица, она его о чем-то упрашивала. Оба замолкли, когда у нижней ступеньки появился маленький Уильям.
Он хотел что-то сказать, – и учителю, и матери, – но ему все время приходилось устремлять глаза вниз, и сводить перед собой плечи, и втягивать живот, чтобы не стеснять несчастные ирисы, и со стороны это выглядело как откровенное раскаяние, желание принять и выдержать наказание. Так думала фрау Левская (и это уберегало ее от невесть каких потрясений), так думал учитель, а дети, пользуясь замешательством взрослых, негромко болтали о своем. Неудачи Уильяма их уже не слишком волновали: они думали, что он, обиженный, начнет наконец возражать и тогда, может быть, совсем перестанет играть в тихоню и они примут его к себе, а может быть, его только еще строже накажут взрослые, и это будет еще более замечательно! Но вот он стоял, понурив голову, нелепо скрестив руки, как будто просил, чтобы его еще больше ругали и наставляли, и это было очень для них непонятно и вовсе уж не забавно. И они отворачивались.
Мальчик взглянул на лицо матери – мимолетно. В ее глазах не было упрека или огорчения, напротив – такими пустыми они никогда еще не смотрели на Уильяма. Он опять склонил голову и стал подниматься. На полпути наверх она взяла его за правую руку и кивнула учителю, который уже собирал детей, чтобы произнести короткую речь, и тот любезно кивнул ей в ответ.
По дороге они оба – мать и ее незадачливый приемный сын – молчали. Мимо них спешили к большой площади Господа, одетые в голубые костюмы, и бежали в разные стороны рабочие в полинялых зеленых куртках; рабочие-носильщики в грязных зеленых рубашках катили телеги с фруктами, овощами и грибами из оранжерей. Рабочие-газетчики в зеленых кепках размахивали свежими номерами ежедневной газеты «Корабельный Предвестник», а хозяева лавок в светлых и темных красных костюмах – собственники – с бодростью поднимали со своих витрин рольставни. Весна и солнечная палуба звали пассажиров трудиться! Уильям с тоской наблюдал за суетливым мельканием разноцветных ног. Ему сильно хотелось, чтобы его забрал ненадолго кто-то, кому не было до него никакого дела, но мама, привязанная к нему крепче всех на свете, этого ни за что бы не допустила и потому тянула его за собой.
Когда они свернули на 3-ю Западную, фрау Левская задержалась у кондитерской, но не затем, чтобы купить какую-нибудь шоколадную булку. Она вообще редко покупала готовые сласти – пирогов хватало. Кроме того, кондитерская открывалась несколько позже. А вот ушлый газетчик Марко Модрич появлялся перед витриной со своей демонстрацией в такое раннее время, когда многие еще грезили в своих постелях о будущих Благах острова Америго.
– Эй, герр Модрич! – окликнула его Мадлен. – Вчерашний номер остался у вас?
Приунывший было Марко (в то утро покупателей как сдувало) прямо подскочил, чуть не шибанувшись головой о низкий навес над витриной, и подлетел к ним с целой кипой газет в руках, чуть не разметав ее по брусчатой мостовой.
– Имеется! – гаркнул он так, что Уильяму пришлось спрятаться за спину матери. – Два кораблеона! С сегодняшним – четыре!
– Как хорошо, а то муж так и забывает… – пробормотала Мадлен, но тут встрепенулась. – Как вы сказали? Четыре кораблеона?
– Все так, прелестная фрау! Четыре ценных кораблеона! Новый перечет Отдела Благополучия! Поправка о распределении…
– Да, да, слышала уже, чтоб они все за борт побросались, – сердито сказала Мадлен, выдергивая из недр сумки маленький бумажник с видом на палубу, вышитым тремя цветами – красным, зеленым и голубым. Еще разок вслух попрекнув невидимого Рональда за то, что он не купил «Предвестник» вчерашним утром, она забрала два номера и повела Уильяма домой. Остановившись у четырехэтажного апартаментария № … в конце 3-й Западной улицы, она вновь поглядела на мальчика так равнодушно, как обычно смотрели взрослые, когда хотели показать особенное недовольство.
– Повезло же, что господин Ватари сегодня не пришел, – промолвила она. – Что ты там внизу все ищешь?
Рональд сидел за столом, на котором сох в одиночестве на большом прямоугольном подносе последний кусок пирога с яблочным джемом. Он недобро покосился на мальчика и пробормотал чего-то себе под нос.
Мадлен посмотрела на него с ласковым снисхождением.
– Ступай на службу, – посоветовала она ему. – Бурчишь, а сам расселся, как законописец.
Отец фыркнул, но шляпу натянул охотно. Мать проводила его игривым взглядом наябедничавшей на обидчика плутовки. Вообще-то ранняя прогулка на палубе ее несколько взбодрила; она кинула газеты на кровать и тоже собралась бежать на благофактуру, но вспомнила, что ей предстоит решить – как же быть с Уильямом?
Увидев помятые и обессиленные, но все еще живые ирисы, она чуть было сама не отправила сына обратно в Парк, но, поразмыслив, пришла к выводу, что фрау Бергер, которая продает искусственные цветы, вполне может найти им благое применение.
– Давай их сюда, Уильям.
Тот и не возражал, позволяя ей беспрепятственно завладеть цветами. Он ждал, когда же она почует запах (который порядком ослабел за ночь), но куда там! Она даже и не поднесла их к лицу, а лишь небрежно сгребла рукой и запихнула в сумку.
– Мама! Куда ты их прячешь? Там же тесно! И ты их даже не понюхала! Что ты с ними будешь делать? – завелся мальчик и принялся скакать вокруг матери, позабыв, очевидно, о том, что всю ночь был на ногах.
– Цветы я вечером отдам в умелые руки фрау Бергер, – холодно ответила та, – и для них найдется благополучное место на палубе. А вот тебе следовало бы задуматься о своем поступке.
Мальчик перестал прыгать и присел на пол, ошарашенный. Никогда он еще не слышал от нее таких неприятных, таких чужих слов, – и чего, интересно, наговорил ей учитель? А Элли – Элли все-таки хотела, чтобы ирисы оказались у него дома! Что же он сделал не так? Мама сурово глядела на него сверху вниз – и прикидывала что-то в уме.
– Вот что, юноша, – после недолгого раздумья заявила она, – завтра ты снова отправишься в Школу… Учитель обещал мне не спускать с тебя глаз.
От этого Уильям совсем приуныл и опять стал вести себя тихо. Он не таил ни капли зла на мать, нет, он любил ее! Ее слово еще имело над ним необыкновенную власть, превосходящую и власть учителя. Ради нее он готов был даже забыть об Элли – хотя и расстался с той всего час назад! Проглотив по наставлению матери три чайных ложки терпения и две – благоразумия, он забился в угол комнаты с книгой о приключениях хладорожденного волшебника Криониса. И там уже его захлестнуло горькое, как эти жидкости из склянок, чувство вины перед всеми – и перед мамой, и перед учителем, и перед другими детьми, и даже перед незнакомым ему господином Ватари. Горечь перешла на кончик носа и края глаз, и это очень было похоже на то, что случилось на берегу Парка – только сдержать слезы теперь было чуточку легче.
Фрау Левская, словно и не замечая терзаний сына, погремела в воздухе ключами и удалилась, унимая тревогу о его судьбе мыслями об уютном стуке ткацкого станка и воздушных тканях. Хлопнула дверь – и Уильям остался наедине с книгой. Он начал перелистывать страницы и смотреть на картинки, чтобы отвлечься от грусти. Голос Элли по-прежнему теплился где-то внутри него, сопротивляясь всем недобрым чувствам. Он вспомнил запах ее ладони – она пахла всякими цветами и еще грибами, каких он никогда не пробовал. Нос тут же прекратил болеть, и тогда Уильям поднялся и сгрыз маленький кусок суховатого пирога – и это помогло прогнать неприятный вкус с языка. Он вернулся в свой уголок к раскрытой книге и, оттолкнувшись от светло-зеленой стены, нырнул с головой в историю Криониса. Крионис, измученный, обливающийся талой водой, искал среди песков пустыни вход в древнюю подземную пещеру, – но вместо этого встретил какую-то странную девушку, которая состояла из еще более холодного льда, чем он сам, но почему-то не таяла, а еще у нее почему-то были темные волосы, которые опускались до шеи, и она улыбалась так, будто расхаживала по той самой хрустальной пещере, а не под палящими лучами коварного солнечного диска…
Он проснулся глубокой ночью в своей кроватке, вспотевший, жутко напуганный и весь в недоумении. Но его успокоило негромкое, отрывистое рычание – это храпел герр Левский, и не было никакого сомнения в том, что рядом с ним спит и мама. Мальчик же сновидениями насытился и не хотел к ним возвращаться – да и не мог. Он попробовал вспомнить, что же все-таки творилось в этих сновидениях, но это удавалось ему плохо, еще и храп постоянно встревал, поэтому он решил подумать о чем-нибудь другом. Конечно, впереди всех на это решение отозвалась лесная девочка, и Уильям с радостью освободил для нее место – до самого утра.
II
Мама подошла к нему около семи часов.
– Ах, ты уже не спишь! – без особенного удивления пробормотала она, поцеловала его лимонно-сахарными губами в лоб, нос и подбородок, о чем договаривались каждый раз перед сном, и вернулась к духовому шкафу. Рональд еще похрапывал, без помех растягиваясь на матраце.
Обстановка апартамента № … была небогата и не располагала ни к чему праздному. У левой от Уильяма стены рядком теснились платяной шкаф с резным орнаментом на дверях, зеленый диванчик и комод для хранения белья и других важных вещей (на комоде – бронзовые статуэтки Создателей, совсем не такие красочные, как в Школе). Двуспальная кровать у правой стены каждое утро облачалась в покрывало с вышитым изображением великолепного прибрежного сада. Кроватка Уильяма стояла у единственного окна, которое выходило на запад. Из окна было видно высокую сплошную ограду, разграничивающую палубы, и сверкающие крыши и башни на той стороне. Два деревянных стула простаивали себе возле родительской кровати, но шли в дело в том случае, если утренних гостей было двое или даже трое. В пустом углу между спальными местами висели две примыкающие друг к другу полки – с книгами для Уильяма и герра и фрау Левских. Под этими полками, на раздавленной, закатавшейся мелким зеленым пухом подушке, мальчик обычно усаживался для чтения. Напротив его кроватки, по правую руку от входной двери, стоял старый кухонный сервант, а рядом с ним – плитка, мойка и маленький холодильник. Скатерть на столе была украшена скучным зеленым узором.
Уильям приподнялся на кровати и глянул на стол. Там уже появилась голубая картонная коробочка в соблазнительную белую клетку – мама все-таки побывала в кондитерской накануне. Это было здорово – значило, что она и правда больше не сердится! Но потом он вспомнил о жадных пальцах захаживающих к ним Господ и сразу же сник.
Для него как раз придумали полезное развлечение. Пока доходил пирог, мать успела сводить Уильяма в подвал дома, где помещались сравнительно обширные, сырые комнаты для общих нужд – уборная, постирочная и купальная. В купальной она хорошо вымыла его под горячим душем и сама, масленая от пота и мыльной пены, ополоснулась вместе с ним, предусмотрительно подвязав волосы зеленым полотенцем. С этим полотенцем, обмотанным вокруг головы как попало, и особенно вставшая боком, она еще больше была похожа на гигантский цветок вроде колокольчика. Запах от нее шел не очень цветочный, и она считала его неблагоприличным, но на самом деле пахло бесконечно и необъяснимо приятно, так что верхом счастья было оказаться у нее под грудью или под мышкой.
– Ну что ты присосался? – бормотала она, будто ей это не нравилось. – Не тыкай, не тыкай пупок. Щекотно. Еще раз тебя натереть? Дай свою грязь уже смою. Сейчас Господин придет, отца будить надо… Вечером опять скупнемся.
– Вечером тут, наверно, твои рабочие будут.
– Подумаешь! Да пусть они в Океане идут мыться, если кто чего захочет сказать.
В этот раз Уильям решил, что если Элли – принцесса, то маму с ее высокой грудью и длинной шеей можно признать за королеву – когда она не слишком уставшая. Разумеется, книжные королевы обыкновенно купались не в подвале под струйками и двумя лампами, а в огромных, светлых бассейнах с пряностями и медом или даже горячих источниках под открытым небом. И хотя она была такая красивая и мягкая, она так часто посылала кого-нибудь на дно ужасного Океана; Уильям не слышал, чтобы кто-то всерьез осуждал ругательства из уст взрослых, но в книгах-то их было довольно мало, а титулованные особы не пользовались ими вовсе, поэтому мама была очень странная королева.
Устроившись высыхать в апартаменте, Уильям решил еще чуть-чуть подумать о Парке перед завтраком и был очень озадачен, когда вместо девочки по имени Элли к нему возвратился кислый запах страшного существа, которому они едва не попались той ночью в лапы. Тогда он отметил, что дурных мыслей это теперь не вызывает, только странный интерес – у Уильяма ведь была игрушечная фигурка островного тигра, который скалил свою пасть прямо так, как должен был скалить тот зверь. И вот Уильяму захотелось выяснить, действительно ли он издает такой запах, – тигр жил совсем рядом, под его кроватью.
Он скинул с себя цветистое одеяльце, стал на пол на четвереньки и потянулся за ящиком с игрушками.
– Уильям, ты же давно ходишь в Школу, – заметила мать, возясь с длинноносой туркой.
Мальчик высунул голову из-за нависшего одеяла и уставился на нее. Она почувствовала это и обернулась, вытирая забрызганные руки о зеленый передник.
– Мне кажется, тебе уже не нужны игрушки, – сказала она миролюбиво. – И твои глупые книжки уже ничему не научат…
И снова опустила руки в мойку; тонко зашипела водяная струя и задребезжала посуда, оставшаяся с готовки.
– Уильям! Тебе ведь скоро семь! – добавила она все же укоризненным тоном.
– И что с того? – внезапно возразил ей мальчик.
– Как что! – Мама так удивилась, что уронила вазочку для джема, и та брякнулась в мойку одновременно с ее возгласом, превратив его в устрашающий вскрик. Уильям вздрогнул. – Ты становишься взрослым, а значит, должен быть серьезным и слушать своего учителя, а соблазняться бестолковыми детскими россказнями взрослому вредно! Вот отец вчера не спал, про нимфов ваших рассказывал, которые с голой попой везде бегают и рисунки на ней рисуют… теперь храпит, бездельник, забыл, что к восьми будут гости!
– Подымаюсь сейчас… – послышалось бурчание с большой кровати.
– Но, мама, что ты говоришь! – пришел черед удивляться Уильяму. – Ты же сама их читала, разве нет?
– Только до пяти лет! – гордо отозвалась мать. – Или около того – уже не вспомнить… Потом я училась шитью! А вам обоим нужно объяснять, что вредно, а что полезно! Мальчишки.
«Опять с ней что-то не то, – сказал себе Уильям. – Может, не надо было нажимать кнопочку?»
– Я всегда думала, что буду шить одежду… Красивые платья из кружева и ситца! Сколько одежек сработала девочка! Правда, они даже на куклах не смотрелись, кроить я так и не выучилась… Что и говорить, завидую фрау Дайс!
Уильям под шумок опять нырнул в подкроватную прохладу, нащупал гладкую кромку и дернул на себя. Ящик грузно пополз на свет, бороздя шероховатые доски; гулкий, противный звук раздался по всей комнате. О мастерстве фрау Дайс матери пришлось забыть.
– Уильям! – возмущенно прикрикнула она, но голос ее тотчас же стал очень тонким и жалобным. – Рональд!..
Отец сел на кровати и, чтобы проснуться, похлопал себя по грубым, покрытым колкими черными точками щекам.
– Делай, что мать велела, – сказал он равнодушным басом. – Оставь этот ящик, а не то я тебе его на голову надену.
Около четверти девятого в дверь постучались.
– Создатели мои, творцы! – взволнованно зашептала мама. – Это, должно быть, пришел Господин! Но отчего так поздно?
Она устремилась ко входу. Рональд занял привычное место за столом. Стук повторился. Уильям, который благополучно стрескал уже свои картофельные оладьи, забрался на кровать и начал усиленно думать о всяких приятных вещах, потому что гостей он не любил.
– О, я уже иду! Открываю! – воскликнула Мадлен.
А за дверью стоял строгий голубой костюм. В нем, понятно, находился еще и человек, но человек был худой, как карандаш, и костюм висел на нем, как на вешалке; кроме того, физиономия была ужасно юная и непредставительная, с едва проскочившими жидкими усиками, так что Мадлен узнала именно костюм.
– Зайдите, – растерянно сказала она. – Господин…
Она ждала, что он вежливо объявит свою фамилию, но он вместо этого сделал два резких и широких шага внутрь, даже не пошаркав туфлями о половик, и очутился у стола. Хозяйка последовала за ним.
– Вы сядете вот здесь, – мягко объяснила она и выдвинула стул с противоположного конца, чтобы гость поместился спиной к окну и детской кровати; она знала, что Уильям будет за это благодарен.
– Ничего подобного, – возразил юноша. – Я очень тороплюсь и поэтому сяду ближе к двери.
И он бесцеремонно захватил место, которое хозяйка отвела для себя; та пожала плечами и отошла к плите. Небритое лицо Рональда на миг исказилось от негодования, но он с легкостью его выправил. Ему было не впервой, хотя манеры властителей обычно его так не сердили. Гость тем временем завладел крохотной серебряной ложечкой, предназначенной для поедания пирога, и звякнул ей о чашку, наполненную вкусным кофе.
– Ваш кофе похож на сквозняк, которых в этом прекрасном доме уже более чем достаточно, – неодобрительно заметил он. – Вас не предупредили, что я прибуду в восемь пятнадцать?
– У ваших друзей принято переступать мой порог ровно в восемь часов, – с неизменным почтением ответила ему Мадлен Левская. – Все было готово к восьми.
Господин покачал головой и ткнул ногтем в картонный верх клетчатой голубой коробочки, тот распахнулся, обнаруживая желто-бурую плитку фаджа. Он недоверчиво ковырнул ее, затем взялся за десертный нож, неумело покромсал плитку, выскреб уголок и отправил его в рот. Стоило ему прикусить, и его лицо сделалось не просто непредставительным, а прямо-таки злым и сплющенным, как у обиженного ребенка. Еще забавней стали смотреться его усики! Рональд сумел опять сдержаться – теперь от усмешки.
– У меня с этой стороны челюсти нетрудоспособен коренной зуб, – с достоинством, насколько того могло хватить в сплющенном лице, пояснил молодой человек.
– Сломался? – участливо спросила подоспевшая хозяйка. Она опустила поднос с пирогом посередине стола и села напротив гостя.
– Нетрудоспособен! – раздраженно повторил Господин. – Скорее предоставьте мне новый кофейный напиток, соответствующий требованиям к температуре.


