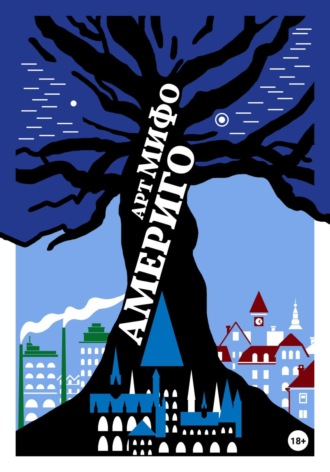
Полная версия
Америго
– Угу, – ответил ей полный рот. Мадлен подвинулась к сыну; обняла одной рукой его за бок, другой выловила из густых волос полукруглое ухо, как половинку печенья, упавшую в кофе, и горячо прижалась к нему губами. Потом она взялась за стаканчик, то же самое сделал Рональд. Отец и мать быстро выпили свои порции терпения.
Уильям схватил повлажневший кусок пирога и отправил его в рот целиком, но поторопился и начал прямо по-взрослому, с досадой, кряхтеть над скатертью. Мадлен засмеялась и стала хлопать его по спине, все крепче и крепче, и так увлеченно, словно приняла порцию усердия. Наконец он был вынужден сплюнуть немного бисквита обратно на поднос, чтобы мама оставила в покое его спину, и потом она продолжила играть с ним – уж на это он, конечно, всегда был согласен. Игра называлась «Откушу кусочек ушка, ам! ам! потому что ты мой сладкий, ам! ам!». (Почему-то только об этом рассказывать по-настоящему неловко, но все-таки с самого начала решено, что не будет никаких врак.) Они оба ужасно любили такие развлечения: на время их становилось понятно все то, что нельзя или не хочется объяснить на словах, мама превращалась в его Лену, и заодно легко было простить друг другу любую обиду.
Рональду радость жены не передалась. Он пристально смотрел на мрачно-зеленую стену и молчал. Вырвался жутковатый вздох.
– Заработался ты, – посочувствовала Мадлен, повернув голову к нему. – Когда смена?
– Завтра – в шесть тридцать, – сквозь зубы ответил Рональд. – Но к обеду пустят, не волнуйся. Ох!
– Ложись, как раз хорошо успеешь выспаться, и боль уйдет.
– Ну уж нет! – возразил Рональд. – Я в уборную, – мучительно пояснил он и засобирался.
– Фонарик не забудь.
Утром включили электричество. Мадлен быстро удалилась, а Уильям, который проснулся от ее нежностей и следил за ней полуприкрытыми глазами, вздохнул и свесил ноги с кровати. Он догадывался, куда она ушла, и от негодования начал болтать ногами взад-вперед, ударился пяткой о тяжелый деревянный ящик под кроватью и огорчился еще больше. Отец не должен был вернуться до обеда, но вот мама могла прийти в любую минуту, и притрагиваться к игрушкам он не смел. «Я возьму их в другой раз», – так решил он и поразмыслил, стоит ли теперь самовольно удирать из дому. Потом он как-нибудь объяснится, но если мама пошла в Школу… Учитель мог и в самом деле запретить ему приходить в Парк, в его угрозах не было никакого обмана. Ничего иного, как ждать и надеяться, Уильяму не оставалось. Он начал разглядывать домашнюю обстановку, стараясь на что-нибудь отвлечься.
С короткой цепочки на потолке – в углу над книжными полками – свисали часы. Обыкновенные часы, то есть небольшой диск с цифрами за голубым стеклом. Часовая и минутная стрелки двигали крохотные голубые кораблики на своих наконечниках вокруг яркого зеленого острова в центре циферблата.
Часы были новые – прежние разбил отец в одно из февральских воскресений, запустив под потолок какой-то свой инструмент. Почему он так сделал, Уильям не понял – перед тем отец спокойно сидел за столом и, как всегда по воскресеньям, пил размышление, говорил дольше обычного об Америго и о каких-то новостях из газеты, вел довольно ленивый и в целом добродушный спор с матерью.
Часы иногда покачивались, если в апартамент кто-нибудь заходил уверенными шагами.
Часы показывали половину восьмого. Изнывая от ожидания, Уильям снова лег на кровать.
Тишина и неизвестность угнетали его; если бы сейчас явился гость, то своей мерзкой повадкой и важничаньем непременно возвратил бы мальчику все милые воспоминания. Но по воскресеньям властители не приходили, и теперь, как он ни старался, в голове крутились одни страхи.
Минуло около пятнадцати минут, и он, не вытерпев, вскочил. Поволок запасной стул в пустой угол, залез и глянул внутрь родительской полки.
Для взрослых пассажиров была создана отдельная серия книг. Волшебников и других чудесных существ в них, по правде сказать, не было. Были такие же люди, и они не исследовали лесов и пустынь и не бросали вызова злодеям. Вместо этого они решали разногласия между собой и доставляли друг другу всякие неприятности, после чего стремились к сплочению и благоразумию и в конце концов добирались и до высших Благ. Кроме того, действие иногда происходило не на самом острове, а все еще на Корабле, – так, наверное, равнодушному взрослому легче было представить себя на месте персонажа, – и тогда судьба принуждала героев пройти какое-либо испытание. Книг было довольно много, больше, чем на полке Уильяма, хотя родители почти никогда ими не занимались. Мальчик поводил пальцем над корешками, и ему одновременно захотелось кашлянуть и задержать дыхание. Вечером мама достанет все книги, повозится с ними – с каждой по очереди, – и там уже будет приятно пахнуть влажной бумагой.
Он еще поскреб ногтем один из переплетов, решив, что из этого может получиться любопытный звук, потом слез со стула. Он, конечно, пробовал читать эти книги – никто ему не запрещал. Но истории были сложны, скучны, чересчур длинны и к тому же совершенно ничем не запоминались.
Кораблик на минутной стрелке достиг вершины.
Уильям облокотился на подоконник и стал смотреть на вымощенные улицы и крыши, сияющие утренним румянцем. Отыскал глазами мамину благофактуру на 1-й Западной, потом открыл створку.
Нежный холодок окропил лицо. Уильям просунул голову и плечи наружу, уже без страха, и прислушался к улицам, свободным от людской суеты. Потянул воздух ноздрями и услышал мерный рокот соседней палубы Аглиция. Благофактуры вели нескончаемую работу, не затихали они и по воскресеньям, хотя, как ему казалось, шумели совсем не так назойливо, как обычно.
Что-то приглушенно застучало. Уильям решил, что это все благофактуры, и вылез еще дальше, оторвав одну ногу от кровати. Стукнуло вновь и вновь, и мальчику даже почудилось, что стучит где-то под другой ногой. Он мельком глянул на часы наверху и ужаснулся. Часы робко раскачивались на цепочке. Стучали в дверь, и стучали упрямо, с нетерпением топчась перед самым апартаментом.
Кто это мог быть? Господин? Рассыльный? У мамы ведь есть ключи!
«Меня здесь нет, я сплю», – ринулась мысль, и он захлопнул окно, затем живо спрыгнул на кровать.
Страхи завалились обратно под одеяло.
Стук смолк. Зазвучали голоса – мужской, неокрепший, и женский, виноватый. Жалобно лязгнул замок. Мадлен, продолжая рассыпаться в извинениях, отворила дверь. Мальчик накрылся с головой.
– …Конечно, зайдите.
Она поставила на пол тяжелую корзину, издала сдержанный стон, стараясь не смутить рассыльного, и повернулась к его бумаге. Потом уже на столе очутились звенящие склянки. Уильям осторожно выглянул.
Получив бумагу с подписью, рассыльный пожелал хозяйке благого воскресенья и ушел. Мадлен глубоко вдохнула.
– Уильям! Я знаю, ты не спишь! – строго сказала она, загибая уголок цветистого одеяла. – Поднимайся, будешь помогать мне.
«Как это – помогать?» – в панике подумал Уильям и вынырнул сам.
– Мама, я ведь иду в Шко…
Она снисходительно смотрела на него и ждала, чтобы он договорил… но договаривать не имело смысла. Что толку идти против воли королевы! Видя, что ее любимцу и вправду приходится нелегко, она наклонилась и шепнула ему на ухо голосом Лены:
– Ну что киснешь? Неужели тебе сорванцы какие-то стали дороже меня? Быть этого не может. Сам говорил, что там скучно… хотя по тебе и не угадаешь. Опять весь в царапинах, живого места ни на руках, ни на ногах нет. Пора нам от них отдохнуть.
Затем он был удостоен монаршего поцелуя в нос, и мама, загоревшаяся, с азартом подхватила корзинку и – бум-бр-р-р! – ссыпала все сливы в мойку.
– Помой и перебери ягоду, а я пока переоденусь. И ты тоже оденься, – велела она и распахнула двери шкафа. Уильям нехотя встал и напялил зеленые штанишки, которые на ночь вешали на спинку одного из стульев возле кровати. Тут он вспомнил про другой стул, который остался в углу, и перетащил его от угла к мойке – от этого половицы брюзжали. Вскарабкался на него, поджал ноги, сунулся в чашу и дернул за блестящий рычажок – показалась хилая струйка воды. Пока он трудился, мама как следует обтерлась, помочила из этой струйки лицо и шею, заколола короткие волосы над ушами и накинула на себя мятую зеленую сорочку без рукавов, чем-то напоминающую тунику деревенского эльфа.
Вдвоем они нареза́ли плоды очень быстро, но варка все равно затягивалась: электрическая плита нагревалась долго, а это приходилось проделывать несколько раз. Джем варился в небольших мисках, из которых внушительную часть незаметно съедала сама Мадлен, проверяя его готовность и вкус. «Сахару много!» – восклицала она, и Уильям, если не был в ту секунду поглощен своими делами, подскакивал на месте.
– Я пришел, – раздался басовитый голос.
Мать стояла дугой над грибным супом, глядя неотрывно в кастрюлю, как в ревущую бездну, и не шелохнулась; отец отбросил зеленую куртку и лениво пошел к ней.
– Стряпней занимаетесь? – сказал он, заглядывая ей через плечо. – Ну-ну. А размышление взяла? – задал он вопрос мимоходом. (Эту склянку продавали в лавке провизора.)
– Пускай тебе жалованье вначале повысят, потом будешь размышления свои водить, – огрызнулась вдруг она.
– У меня скоро получка! – вознегодовал отец. – Могла бы и взять, большое какое дело! Воскресенье, у всех радость, а я должен о костюмах парадных думать?
– Одна у тебя радость, бездельник, – сказала на это мать.
Она схватила склянку, которая возникла под рукой как по волшебству, и взялась за пробку. Пробка не поддалась. Пальцы, намазанные маслом для супа, упрямо соскальзывали. Она скрипнула зубами.
– Ты с утра забыла принять? Как же? – уже несколько смущенно спросил Рональд. Мадлен ему не ответила, и тогда он отнял у нее склянку.
– В этом ты силен, ничего не скажешь, – заметила она.
Рональд промолчал, откупорил сосудик и вернул ей ее благоразумие. Она глотнула прямо из горлышка и после этого стала накрывать на стол. Пирог уже давно стоял на подоконнике, не портя никому аппетит.
С обедом справились скоро, и Рональд блаженно прикрыл глаза.
– Говорят, на отмели живут безмозглые маленькие создания, пригодные в пищу, и мы сможем ловить их себе сколько угодно! – мечтательно пробормотал он. – Как же все-таки недостает размышления, а, Мадлен?
– Тебе вечно недостает, – проворчала жена. – Лучше бы о ребенке думал. Вот переймет он твои склонности, и будете вместе празднословить и стамесками швыряться. А питаться одними размышлениями.
– То была кельма, – ласково поправил ее муж. – И не ворчи так. Ты же приняла…
– Приняла, – кивнула Мадлен. – А то бы задала тебе, бездельник, жару.
– Не ворчи, – повторил Рональд. – Давайте лучше пирог пробовать.
Мадлен, укоризненно на него покосившись, – чтобы не высокомерничал, – сгребла тарелки и отложила их в мойку.
Пирог оказался неописуемо вкусным, как и всегда, – но Уильяму было не до него. Какое ему могло быть удовольствие, когда неизбежность, лживо улыбаясь, заглядывала ему в рот и спрашивала вместо мамы – нравится ли ему пирог, и сдавливала его внутренности, зажигая между делом вывеску с ножницами? Ножницы злорадно щелкали и не спеша, как сытый паук, спускались с вывески к его голове, чтобы отхватить ее последним щелчком.
Трудно сказать, отчего Уильям так не любил стричься – вероятно, хотел быть похожим на героя с красивой книжной иллюстрации? Но он и в зеркале-то видел себя редко, и не всего целиком (зеркало хранилось в сумочке у мамы, совсем небольшое – в нем она рассматривала что-то на своем лице)… Когда отец наказывал его, запрещая заниматься интересными делами или что-нибудь отбирая, наказание оставалось в силе недолгое, почти незначительное время. Уильям знал, что скоро получит все назад, и ждать было куда легче. Но волосы отрастали целую вечность! Он как-то пожаловался на это матери, та рассмеялась и сказала, что вечными могут быть только радость на острове или муки в синем Океане! Напрасно он пытался объяснить. «Ну и зачем тебе такая метелка? – шептала ему Лена. – А стриженому тебе мы купим голубую коробочку. Хочешь голубую коробочку? Ту самую». Уильям отвечал, что будет готов на такую жертву разве только ради волшебника Криониса. Мама не соглашалась купить фигурку якобы из-за ее дороговизны. Но ведь в сувенирном магазине «Фон Айнст» голубовато-белая фигурка из удивительного светящегося материала продавалась по цене всего-то четырех коробочек фаджа! Уильям едва не каждый день пересчитывал. Стрижек случилось уже куда больше четырех, но мальчик по-прежнему оставался ни с чем – мама умела находить себе оправдание, пусть оно порой выглядело точь-в-точь как угрозы отца.
– Чего ты все со своими капризами, а? – упрекнула его Мадлен, еще будучи не в лучшем расположении духа. Странное дело – хотя родители не знали, что такое вечность на Корабле, они не могли жить без вечного недовольства в апартаменте. Обычно сердился герр Левский – к этому все привыкли, но когда отец был доволен, что-нибудь непременно досаждало матери.
– И Господ тут нет, никто тебя не тяпнет за руку! Бери-бери! – нервно продолжала она. Уильям втиснул в себя кусочек, только бы она не смотрела на него так пристально. Что же все-таки произошло с ней после того разговора с учителем? Он не понимал. – И помнишь, куда мы должны сходить? Доешь – и надевай пиджачок, вон он лежит на кровати. У фрау Барбойц короткий день, не успеем, придется в наш салон идти. Сделают из тебя щетку, которой у отца на службе пыль из трещин метут. Так, Рональд?
Отец безразлично сопел, откинувшись на спинку стула.
– И ты собирайся, – приказала ему мать. – Так или не так?
– Конечно, – очнулся герр Левский. – Верно. Разумеется. Надо стричься.
Мальчик молчал и думал о Парке Америго.
Салон фрау Барбойц обслуживал по большей части собственников и Господ, потому был занят по-настоящему только на протяжении будних дней. В воскресенье, когда почтенные пассажиры отправлялись благопристойно отдыхать – к борту, в Кораблеатр или в богатый дом на званый обед, – салон принимал такие семьи, как Левские, которые в течение двух-трех месяцев откладывали на лучший, самый благополучный уход за волосами. Вообще-то рабочее население Корабля не слишком интересовали прически – то есть не так, как питание, размышление, одежда, украшения или сувениры. Но как бы там ни было, Мадлен больше всего прочего думала о приемном сыне и готова была отказывать себе в чем угодно, чтобы он не только был сыт и одет, но хоть когда-нибудь выглядел достойным высших Благ и вечной радости.
Высокий красный потолок салона был украшен замечательными люстрами – белые фигуры творцов подпирали его мощными руками; ноги у каждой фигуры оканчивались матово-голубым плафоном, а к тому был прикреплен голубой обруч с подвесками из прозрачно-голубого хрустального стекла. Свет люстр отражался в красном мраморном полу, как в зеркальной глади воды, отчего салон казался значительно более просторным. Вдоль красной стены слева стояли в ряд обыкновенные зеркала – изящные полированные трюмо красного дерева – и одноногие красные кресла.
Фрау Барбойц, круглая немолодая женщина в красном халате, сидела возле трех других дам – собственниц и Госпожи – на длинном красном диванчике у противоположной стены. Волосы у этих дам спускались на плечи золотыми спиралями, и от них разило дорогим лосьоном. Поодаль, на особом кресле, устроился неопределенного возраста Господин – с большущим металлическим колпаком вместо головы, видно было только бритый подбородок и равнодушно сжатые губы. В зеркальном полу подрагивали подошвы его дорогих туфель с блестящими голубыми пряжками.
При виде Уильяма и его родителей круглая парикмахерша мигом освободилась от общества завитых посетительниц и услужливо повернула одно из кресел.
– Вот и вы, мой угрюмый завсегдатай! – любезно поприветствовала она мальчика. Завитые женщины, словно по команде, уставились на него, оценивающе склонив головы. Мужчина в колпаке небрежно сложил руки, покачал, закинув ногу на ногу, остроносой туфлей.
– Осторожнее, тут ступенька, вы помните? – добавила внимательная фрау Барбойц, когда Рональд уже занес ногу. Жена машинально его придержала.
– А ваши служительницы где же? – спросила она, забирая у сына пиджак.
– Как видите, посещаемость у нас все утро невысокая! – объяснила со смешком фрау Барбойц. – Я их отправила по домам. Мы тоже, как закончу с вами, пойдем в Кораблеатр. Пристойный отдых никому еще не мешал, видят Создатели!
– Верно, – кивнула Мадлен и присела на край диванчика. Три женщины доброжелательно глянули на нее.
– Сегодня же дают новое представление. Премьера! Это почти что Праздник! Кстати, насчет будущих праздников. Белинда собралась замуж, вы только подумайте!
– Ей давно пора, – подала голос одна из женщин, и ее золотые спирали задрожали в согласии. – Я все удивлялась, как возможно такое – тридцать пять лет, и все на одной высокой мысли! Без мужа, без детей…
– Без детей теперь во всяком случае, – подхватила другая.
– Верно, верно, – воодушевленно повторила фрау Левская, и тут они впятером пустились в такое живое обсуждение этого обыденного, казалось (хотя и запоздалого), решения, что Уильям и Рональд постарались углубиться каждый в свои мысли.
Хозяйка салона, увы, отвлеклась не надолго.
– Уильям, что же вы стоите? Вот ваше кресло и чудное зеркало, полюбуйтесь пока на себя, неухоженного растрепу, и запомните, каким вы были раньше! А я приготовлю ножницы.
– Вот, я ему говорила, фрау Барбойц, растрепа! – умилилась мать.
Мальчик посмотрел на это красное кресло, затем на бубнящие завитки. Диванчик с женщинами находился чересчур к нему близко. Только в дальнем кресле, напротив которого молча сидел мужчина в колпаке, можно было бы кое-как отстраниться от взглядов присутствующих.
– Не хочу садиться здесь! – заявил он, набравшись храбрости. Женщины покачали головами, теперь неслаженно. Мать даже вскочила на ноги, но парикмахерша так громко и добродушно рассмеялась, что Мадлен не стала ничего говорить и опустилась на место.
– Желание моего посетителя для меня – тот же закон, что и желание Господина! – воскликнула хозяйка и нагнула голову к опешившему мальчику. – Где бы вам хотелось стричься, юный герр Левский?
– Вон, – робко махнул тот, почему-то в сторону колпака. Мужчина, словно почувствовав это, качнул туфлей и даже нервно сглотнул.
– Вы, вероятно, имеете в виду кресло напротив господина Финке? – догадалась фрау Барбойц. – Ну пойдемте! Что же, вы хорошенько запомнили свою внешность? Я вас не буду очень задерживать, вы же не Госпожа в годах. С вами не придется возиться, правда же, Уильям?
– Можете хоть до завтрашнего утра его ощипывать, главное, чтобы человек наружу вышел, – донесся голос со стороны кресла, только что отвергнутого Уильямом. Отец уже понемногу становился прежним; фрау Барбойц улыбнулась, однако, и ему.
– Вам, герр Левский – старший, тоже сделалось необходимым постричься?
– Ну уж нет, – ответил Рональд, проводя рукой по затылку. – Я своему дому не враг. Бесцельных трат у нас хватает.
Мадлен бросала гневные взгляды то вправо, то влево, не зная, кого из домашних следует пристыдить в первую очередь.
– Что ж, мне, вероятно, даже повезло, – пошутила парикмахерша, выдвигая ящички изящного трюмо. – Волосы у вас жесткие, трудные, и соорудить из них толковую укладку, кажется, непросто. Это у вас от рождения или в «Тримменплац» предлагают новые услуги, каких нет у меня? Поделитесь!
Рональд фыркнул и забросил ногу на ногу. «Наверно, на него теперь тоже наденут эту пробку», – отчего-то подумал Уильям.
– И не судите уж так о тратах, были бы они вашими или нет, – добавила она, с предвкушением клацнув ножницами (несчастный мальчик затрепетал от этого в кресле). – Неужели вам безразличен ваш внешний вид? Неужели вы не хотите выглядеть благополучно?
– Не имею еще таких благ, чтоб волосы завивать кренделями, – парировал Рональд. Женщины возмущенно переглянулись. – Что до моей внешности, то мне и одного указчика хватило. Пускай сперва издадут закон и выпишут бумагу, а после делают со мной и моими доходами, что им вздумается.
– Да ты сам подрываешь их этим… размышлением, – вмешалась Мадлен. Между мужем и женой завязалась наконец перебранка – с упоминанием не к месту и не ко времени и Создателей, и неба, и земли, и всех чудовищных глубин Океана. В тот же момент на плечи Уильяма опустилась огромная, резко отдающая не то стиральным средством, не то каким-то особым парфюмом, накидка. Он увидел в отражении яркий рисунок острова: покосившиеся деревья, смятые в складках кусты и внушительно вздымающаяся у берега волна. Фрау Барбойц немедля укротила мятежные воды ребром ладони и повернулась к спорщикам.
– Не обижайтесь, но, по моему мнению, употреблять размышление – значит проявлять праздномыслие, – сказала она с достоинством, обращаясь к Рональду. – Разве Цель недостаточно привлекает вас? Разве великолепие Америго не трогает ваше сердце всякий раз, когда его наполняет праздная злоба?
– Мое сердце уже съедено, фрау Барбойц, – по-простому объяснил тот. – Обстоятельства меня скоро доконают. А Цель… что с нее взять? Я только размышлять о ней могу, обсудить – с женой только, сын еще мал… И вы меня отговариваете от этого. Пока я здесь, я – рабочий и нуждаюсь в предписанном отдыхе, а если его нет, мне и радости для сердца не видно.
– Вы, герр Левский, и без того на редкость умный человек. Но вас и впрямь снедает праздность, хотя и не так опасно, как ей позволяют некоторые. Вам лишь следует образумить свой ум, и все у вас и вашей семьи будет замечательно!
– Да, Рональд у меня способный умом, – тут же подтвердила фрау Левская, – куда бы еще тот ум деть и куда от него деться.
Рональд просто схватился за свои трудные жесткие волосы и больше ничего не говорил. Женщины в золотых спиралях продолжали переглядываться, обмениваясь ухмылками. Фрау Барбойц между тем натянула на руки тугие красные перчатки (они коварно щелкнули на ее запястьях) и не спеша приступила к делу. Посыпался обрезок челки, потом крупные клочки волос начали скатываться с макушки, свисать со лба, оседать на носу. Уильям зажмурил глаза.
– И с боков ему уберите, покороче! – громко забеспокоилась мать. – С боков!
– Пожалуй, пожалуй, – кивнула сама себе парикмахерша и взялась за виски, с необычайной для ее сложения ловкостью суетясь с ножницами, гребнем и щеточкой вокруг мальчика.
Уильям открыл глаза. Он видел в зеркале, как постепенно оголяются его щеки, и понимал, что вот уже скоро лицо опять превратится в уродливый, одутловатый треугольник, и мерзко, совсем не по-маминому, вытянется над повязанной накидкой шея, и в самом лучшем случае он будет смахивать на злого дракона!.. Все расплывалось в слезах, и он заморгал так часто, как мог, и подцепил, наверное, ресницей волос, потому что в одном глазу вдруг стало жутко чесаться. Он снова зажмурился, высунул руку из-под накидки, неосторожно провел пальцем и наткнулся на лезвие ножниц.
– Юноша! – впервые по-настоящему возмутилась фрау Барбойц. – Как же вы так! Я вам пальчик отхвачу и заметить не успею!
– Мама, я хочу в Парк… Мама, отпусти меня в Парк!.. – отчаянно прошептал Уильям, продолжая теребить веко.
– Чего это вы, юноша, шепчете? – жеманно осведомилась фрау Барбойц. – Ну же, не щиплите ваш глазик! Что у вас там?
Уильям дал выкатиться нескольким слезным каплям.
– Ну а это что за нелепость? – удивилась парикмахерша, теперь тоже шепотом. – Налипнут вам волосы на щечки, будет неприятно. Прекратите сейчас же.
– Мама, пусти меня в Па-арк! – во весь голос заревел Уильям, яростно натирая кулачком то один, то другой глаз. – Мама, пожалуйста!
Мадлен выглядела сконфуженной; она вновь не знала, к кому обратиться виноватыми глазами – к женщинам ли, которые все посмеивались между собой, к мужу, беспокоить которого было совсем неуместно… А Уильям плакал и звал ее, и вот она опять с тяжестью внутри думала о том, как трудно воспитывать в людях, больших и маленьких, настоящее благоразумие и терпение.
Уильям вырвался из объятий красного кресла, едва не расцарапав затылок о ножницы, недоуменно замершие в воздухе, и вместе с накидкой ринулся к выходу. Фрау Левская ахнула три раза подряд, женщины на красном диванчике засмеялись звонче, почти уже хохотали, злодейки; и даже равнодушные губы под колпаком вынуждены были сложиться в улыбку. Рональд поднял голову. «Ступенька, юноша, ступенька!» – воскликнула за спиной хозяйка салона, но поздно. Уильям растянулся у порога и завопил еще громче: он серьезно ушиб колено. Тут женщины на диванчике недовольно сморщили лица, но у него не хватило сил долго вопить, и он просто тихонько захныкал, теперь на руках у обомлевшей приемной матери, не могущей проронить ни слова – от ужаса и стыда. Женщины, напротив, поспешно возобновили свою беседу.
– Я ведь не рассказывала вам, как обратилась к миссис Саттл из Аглиции? – сказала с негодованием Госпожа. – По вашему совету! И как она обошлась с моими чудесными локонами? Безобразие, ни ума, ни таланта – о чем только люди говорят?


