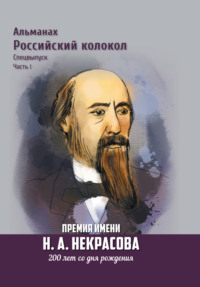полная версия
полная версияСеверный крест
Я долго молчалъ, ибо былъ я удивленъ словесамъ Ея; удивленъ и возмущенъ, перси мои часто вздымалися. И Она молчала: казнила молчаньемъ. Я желалъ Её, но то было не слѣпою страстью, виномъ невѣдѣнія и помраченія, но виномъ трезвѣнія и просвѣтлѣнія, чреватаго: и прозрѣніемъ, и видѣньемъ чистымъ, и вѣдѣніемъ. Я вопросилъ Её:
– Милая, милая, какъ же ты говоришь это мнѣ: болѣе богатому, чѣмъ почившій Имато и здравствующій Касато – со всѣми ихъ чертогами, усладами, рабами и земными сокровищами?
– Истинно, истинно говорю тебѣ: богатство твое нынѣ еще не заполняетъ: пустоту въ сердцѣ твоемъ. Но близко время…
– Но позволь узнать, каково имя создавшаго, ежели у него вообще есть имя?
– Мудрецы міра сего тщатся разгадать, что снится вечносонному слѣпцу, но тщетно. Ибо и самые мудрецы сіи суть грезы создавшаго. Но ты не сонъ создавшаго – менѣе всего ты сонъ, о пламень! Его, создавшаго, должно нарицать Іалдаваофъ, онъ – сынъ бездны, сынъ хаоса, держащій въ уздѣ всѣхъ: страхомъ и успокоеніемъ, которые кровосмѣсительно переспали между собой и породили: чинопочитаніе, послушаніе, смиренномудріе и прочихъ; онъ и самъ – страха порожденье; онъ – отраженье страха рабовъ своихъ, внушеннаго имъ отъ страха, рабовъ своихъ, съ коими повязанъ онъ не нитью, но цѣпями; онъ – удильщикъ, уловляющій не только рыбу, но и себя самого: своимъ же крючкомъ; онъ и господинъ, но еще болѣе – рабъ; онъ – оселъ, кричащій И-А, И-А! Держитъ онъ въ десницѣ не бразды, но цѣпи: цѣпи, подвѣшенныя къ каждому сердцу человѣческому. Ходитъ-бродитъ по Лабиринту во тьмѣ многой существо – не ликомъ, но мордою – быкъ красноярый, а плотью – человѣкообразенъ; злой, слѣпой, пышетъ злобою, полонъ сквернъ, погрязшій въ нѣгахъ, чего не коснется, претворяется въ еще болѣе дурное; самъ онъ дуренъ, а твореніе его еще дурнѣе. Создалъ слѣпой слѣпое твореніе, невѣдѣнья царь, царствующій въ царствѣ невѣдѣнья, не вѣдая, что создалъ, ибо неспособенъ къ познанію въ слѣпотѣ своей, и скоро, скоро возгласитъ онъ (чужими устами: устами рабовъ своихъ): «Я Богъ, и нѣтъ иного Бога, и нѣтъ подобнаго Мнѣ». Сперва она обрѣзаетъ крылья всему живому, а послѣ утверждаетъ, что лишь онъ – богъ, лишь онъ – творецъ, а остальные суть грязь подъ ногтями его, пыль подъ стопами его. Но родъ людской и впрямь – плодъ слѣпого его недоразумѣнія и невѣжества, глупости, безстыдства и самонадѣянности. И каждому воздастъ онъ по низости его. Страшный, ярый быкъ, несущійся изъ одного Ничто въ Ничто иное, изъ бездны – въ бездну. Ибо и самъ онъ есть дитя бездны. Таковъ онъ – князь міра сего, создатель, ужасный, имѣющій и слугъ своихъ – архонтовъ: царей, ему прислуживающихъ, о двоихъ изъ которыхъ я тебѣ упомянула. – Но долженъ ты вѣдать и Судьбу, служанку создавшаго, выполняющую повелѣнія его и грязную работу: слѣпую старуху по имени Имармене, первую и послѣднюю изъ оковъ, ибо она ткетъ нити свои, но нити тѣ суть цѣпи, подвѣшенныя къ сердцу человѣческому. Судьба – лишь бѣсноватая блядь, чреватая Бѣдою, изсохшаяся любодѣица, чрезъ свою влагу извергающая желанье, нѣкогда смазливая дѣвка, неистовая въ яркихъ и ярыхъ своихъ дѣяніяхъ, но нынѣ карга старая, бѣльмами похотливо глазѣющая окрестъ, блудница, заигрывавшая съ создателемъ и присными его и одурманившая ихъ, – потому она отъ вѣка пріобрѣла нѣкоторую Свободу. Нынѣ она, какъ міръ, стара, и ослабшія ея, изошедшія, выдохнувшіяся чары, не могущія волновать ни душу, ни кровь, постылыя, воздѣйствуютъ лишь на старожиловъ такихъ, какъ создатель со чады, на существъ предвѣчныхъ; для сильныхъ и младыхъ, дѣла чьи Побѣдою вѣнчаны, иль Пораженьемъ (ежель битъ кто Судьбою изъ дерзновенныхъ), бытіе чье исходитъ кровію и духовнымъ сѣменемъ, она мерзка, якоже лобзаніе безстыжаго старца, какъ течка бабищи, жаждою и алчбою истомленной, отвергнутой, безпутной дуры; завораживающая скверна ея чаруетъ лишь слабыхъ. – Потому слѣдуетъ служить не гніющей и смердящей ея плоти и припадать не къ мнимо-материнской груди Судьбы, но къ огнестрастнымъ устамъ огнезарнаго Духа; устремить очи горѣ – прочь отъ сего міра, гдѣ всё полонено Временемъ и пространствомъ. – О, они, не-малые сіи, должны быть божественно-неприступны, неотмирно-хладны для нея, небесно-красивыя сіи созданія, вздымающіяся высоко по лѣствицѣ Духа, способныя на частые всплески Огня. – Потому не Любовію, но Ненавистью должно съ ней сочетаться: любое несоблюденіе закона ея есть твоя добродѣтель, единый путь спасенія: отъ лабиринта зла.
– Будетъ ли печальной судьба моя? – испросилъ я, а предъ тѣмъ долго обдумывалъ Ею реченное, ибо сокровеннѣйшее сперва обнажалось, вышедши изъ прикровенія, а послѣ въ полной мѣрѣ раскрылось, словно одежды пали наземь – всѣ безъ остатку; и сокровенное явило себя и…засіяло – до боли въ глазахъ.
– Судьба всегда черна, – отвѣчала Она, лія собою свѣтъ. – Бытіе всего высокаго – тяжелые, горькіе пути, прорывающіе – сердцемъ идущаго ими – ковы слѣпого бога… Но бытіе твое – уже – счастливѣйшее: оно – лучъ: сквозь тьму, но и одинокая виноградная лоза: въ пустынѣ. Твое призваніе столь огромно, что я затрудняюсь описать его.
– Будетъ ли забыто мое дѣло иль будетъ продолжено? – вопрошалъ я.
Чуть помолчавъ, Она напутствовала меня: нѣжно-заревыми словесами:
– Грядущее и мнѣ невѣдомо, дѣйствуй, о вѣнчанный Свободою: я вѣрую въ тебя. Ждутъ тебя дѣла неложныя: святыя и великія. Помни: Судьба – для слабыхъ, для тѣхъ, кто пріемлетъ её въ сердцѣ своемъ, бытуя подъ сѣнью ея, въ лонѣ ея; борись съ нею, о, борись! Ты не видишь, но одѣянъ ты въ ризы бѣлыя. Я ихъ вижу, а ты – нѣтъ. Ибо ты – духъ воплощенный: потому можешь и возможешь ты дѣять всё: совершенному дозволено всё.
Далѣе изрекла Она словеса, мнѣ неясныя и доднесь:
– Свобода – въ мигѣ: вся вселенная – отъ скопленій звѣздъ до неделимо-малаго – колеблется въ мигѣ, будучи напряженной, и – разряжается: въ мигѣ выбора. Въ томъ единство и въ томъ борьба: свободы и необходимости, – что въ мигѣ выбора избирающее – свободно, но избрать должно оно – съ мѣрно-заданной необходимостью; если въ первомъ случаѣ – избирающее стоитъ подъ знакомъ Свободы, то во второмъ – подъ знакомъ Судьбы и Времени, сихъ царей царствующихъ; и именно Время, отъ вѣка заданное и отъ вѣка мѣрное, бичомъ подстегивая избирающее, ткетъ нити Судьбы. На томъ зиждется дольній міръ.
И простерла Она десницу, затмевая собою Солнце (ибо Сама была Солнцемъ: для меня), десницу благословляющую и отъ вѣка пречистую: то было касаніе лазури. Въ большомъ смятеніи душевномъ я облобызалъ её: я казалось бы потерялъ себя: въ страсти безплотно-неземной. Но на дѣлѣ обрѣлъ себя.
Послѣ же, отверзши очи, я не узрѣлъ никого. – Всё было Свѣтомъ, и я былъ Имъ…Всё земное и всё тѣлесное на незримыхъ крылахъ отлетало еще во время нашей бесѣды, а тогда оно отлетѣло куда-то и вовсе. И надо всѣмъ виталъ гласъ Ея, разливаяся по аэру лазурною чарою, неотмiрный, звонкій, далекій. – Взоромъ Вѣчности глянула. Ибо неизглаголанное было Ею изглаголано, и надмiрное было впервые явлено въ мiрѣ: вся въ бѣлыхъ одеждахъ, словно паря надъ землею, алый ротъ изливалъ собою откровенія: лазурныя молніи. И Слово Ея меня родило и сожигаетъ доднесь.
М. закрылъ ненадолго очи, приложилъ руку къ главѣ своей и, помолчавъ, продолжилъ:
– О, безъ сомнѣній, была она изъ рода существъ премірныхъ, тамошнихъ. Поистинѣ: высокимъ единеньемъ я наново былъ рожденъ – тогда, тогда, въ то достопамятное время. И это лишь то, что глаголали уста Ея; очи говорили о еще большей правдѣ. Казалось бы, всё, что было моею тихою гаванью, пристанищемъ, опорою, твердынею, всё то, на чёмъ покоилось бытіе мое и мое счастье, – всё это – послѣ словесъ Ея – должно было бы заколебаться, претвориться въ зыбь, и долженъ былъ я потерять почву изъ-подъ ногъ. – Но нѣтъ: потерявши себя, я нашелъ себя, и казавшееся свѣтомъ стало тьмою, а тьма – свѣтомъ.
Акеро послѣ долгой, но для обоихъ благопріятной паузы испросилъ:
– Очень радъ и весьма удивленъ, что Судьба (которая обычно противъ насъ) тебя нѣкимъ образомъ свела съ нею… судьбы немногихъ (или попросту: лучшихъ) непостижимо перекликаются и возгоняютъ другъ друга въ выси. Тобою съ тѣхъ поръ Вѣчность въ очи мнѣ глядитъ! Но видалъ ли ты её еще, друже?
– То, безъ сомнѣній, была нѣкая иная Судьба, не та, что царитъ и правитъ въ мірѣ семъ, не та, что есть не кто иной, какъ изсохшая блудница, одноглазая сука, прихвостень создавшаго, – не болѣе, чѣмъ длань слѣпого бога. Именно первую Судьбу я молилъ: молилъ её, дабы узрѣть Дѣву вновь, предъ тѣмъ долго лелѣявъ таимую надежду; не зрѣть Дѣву было подобно пребыванію въ узилищѣ; когда пребывалъ я въ моленіи, нѣчто нежданно сжало горло мое и принудило меня воскликнуть на утренней зарѣ сквозь тающіе мглу и туманъ, когда неслышенъ еще крикъ пѣтуха и когда Звѣзда сіяетъ ярко, – изъ меня вырвались слова какъ бы помимо воли моей: «О, пріиди – какъ свѣтъ и какъ боль! Пріиди, ибо лишь злой языкъ скажетъ, что ты-де тьма, кажемая свѣтомъ; я же вѣдаю: свѣтъ, кажемый тьмою!». И я если не тотчасъ же, но всё же вскорѣ узрѣлъ Ее по милости не то Судьбы верховной, горней, не то по милости самой Дѣвы. Послѣдній разъ я зрѣлъ то ли Её, то ли болѣе земной Ея двойникъ: какъ бы Она, но и не Она при томъ: Первая была существомъ болѣе тамошнимъ, а Сія – болѣе здѣшнимъ. Но всё жъ то была Она, да, Она, неотмiрно-лазурно-нѣжная. О, какъ былъ пронзенъ морокъ свѣтомъ Ея. Я какъ вчера помню быстротечную бесѣду съ Нею, состоявшуюся чрезъ время, не столь отдаленное отъ перваго Ея посѣщенія моего сердца. Увидѣть Её вновь было праздникомъ несказаннымъ, возгоняющимъ душу въ выси, наполняющимъ Её пламенемъ, вызывающимъ въ груди моей нѣкое безымянное чувство. Вотъ и послѣдняя съ Нею бесѣда, и хорошо я помню гласъ Дѣвы, словно зависшій въ аэрѣ – тогда, въ сердцѣ же – нынѣ:
– Милый, въ какія неряшливые одежды одѣвается твоя похоть, твое вожделѣніе ко мнѣ, твой пламень, – не безъ игривой улыбки сказала Она и, потупляя прекрасныя свои очи, продолжила: —Ахъ, я вѣдаю: ты любилъ меня; но нынѣ, нынѣ – лишь похоть въ тебѣ, лишь похоть. О, невыносимо…
– Отнынѣ любо мнѣ лицезрѣть Тебя елико возможно чаще, о вѣчно-ускользающая, но вовсе не вѣчно-ускользающее въ Тебѣ манитъ меня. Ты чиста и юна, Дѣва нездѣшнихъ мѣстъ, но и не это манитъ меня. И не то, что далеко превосходишь всѣхъ прочихъ, о невозможно-прекрасная, безпримѣрная и несравненная. Нѣчто иное, несказанное и безымянное, манитъ меня. О, какъ манитъ оно! Что-то измѣнилось, но то не похоть, нѣтъ! Иное въ помышленіяхъ, иное и въ сердцѣ. Щемящее бросилось въ сердце: проклятіе ли то или благословеніе? Но не только щемящее бросилось въ сердце, но и безвозвратное. Я словно потерялся: въ лабиринтѣ высочайшихъ страстей, – ибо и сердце мое затерялось – въ Тебѣ. Нынѣ Ты представляешься еще восхитительно-прекраснѣе. Бросается это щемящее въ сердце: стрѣлою. У меня къ Тебѣ всё слито воедино – въ Свѣтъ; ибо Ты еси Свѣтъ. И я не кривилъ и не кривлю душою, когда говорилъ и говорю, что много чистосердечнаго, неизъяснимо-чистаго и восхищеннаго, возвышеннѣйшаго рвется: словами. Ибо я питаюсь пречистымъ Твоимъ свѣтомъ, паче снѣга свѣтлѣйшимъ, и уже не могу иначе. Но слово обычно умолкаетъ, егда я зрю Тебя, о высокочтимая Дѣва. Но не днесь. Милая, нынѣ – зима, увядающая зима, беременная весною, погляди на солнца сѣвера – снѣга, столь рѣдкіе въ родныхъ нашихъ мѣстахъ; но у меня…у меня весна, расцвѣтшая весна – въ венахъ; и родилася она лучистой нашею любовію: любовію изліянною; незакатное, заченшееся при первомъ Твоемъ посѣщеніи сердца моего, нынѣ распустилось въ мѣрѣ полной. Печальной – Ты еще прекраснѣе. Невыразимо. Чуялъ и чую, вѣрнѣе, вѣдалъ и вѣдаю: здѣсь свѣтитъ подлинное. Коснуться не смѣю: коснуться звѣзды – себя опалить. Прости, о немыслимо-прекрасная, за искреннее, слишкомъ искреннее; не оно извергается изъ меня помимо Воли моей, и я не могу сего ни скрывать, ни молчать о такомъ, но – я такъ желаю, ибо я желаю Тебя, но желаніе мое не имѣетъ въ себѣ постыднаго: оно – лучъ, оно – свѣтъ, оно – весна! Женщина есть существо текучее, влажное, непостоянное. Ты же болѣе застывшая, поскольку Ты льдяная, что не мѣшаетъ горѣть огню внутри этого льда, – отвѣтствовалъ я со страстію, мнѣ присущей.
– Милый, я вѣрю тебѣ въ томъ, что въ тебѣ сердце пламенное и многохраброе, коему подстать побѣды небывалыя, о коихъ легенды будутъ слагать вовѣкъ вѣковъ, ибо зрѣла сердце, изъ коего сыплютъ себя искры пламенныя. Я буду вѣчно помнить гордыя твои дѣянія, – и тѣ, что были, и тѣ, что имѣютъ быть, – какъ и то, сколь часто ты ставилъ на конъ Жизнь, играяся съ быками, почитаемыми здѣсь священными. Я знаю благую твою любовь. Но я алкаю иной Любви – Любви неземной – небесной. А для тебя Небеса – суть? Ты вѣришь? Ахъ, если бы ты вѣрилъ…
– Вѣрую!
– Но ты еще слишкомъ мужъ, ты не преодолѣлъ полъ, хотя во всёмъ остальномъ ты и возвышаешься, и не твоя вина, что ты не преодолѣлъ: ты не вѣдалъ. Должно еще пройти время.
– Къ чему преодолѣніе мужского: не считаешь ли Ты, что оно равно съ женскимъ? – удивленно вопросилъ я.
– Быть можетъ, и не равно, но оба суть заданное, мѣрное, не твое, не ихъ. Посему слѣдуетъ уходить отъ сего. Помни: похоть самца и даже самая мужественность стоитъ не столь ужъ многимъ дороже женственности; врата вышины запечатаны для тѣхъ, кто не преодолѣлъ полъ въ сердцѣ своемъ.
– Ради Тебя я готовъ и на сіе…
– Ты нынѣ глаголешь, какъ мужъ, а я желаю иного…Горько мнѣ…
– Ты, Ты… самое совершенство; мнѣ не должно отказаться отъ словъ своихъ и своихъ клятвъ: всё ради Любви… Ибо сердце мое затерялось въ Тебѣ, въ пречистомъ Твоемъ свѣтѣ. Ибо Ты – Дѣва сердца моего.
– …И твоего духа, – змѣясь, сказала Она.
– И духа моего, – повторялъ я, не то ослѣпленный, не то оглушенный, глядя въ никуда.
– Возлюбленный, Любовь твоя должна быть не плотоядна, не плотска, а возвышенна…
– Я готовъ возгонять себя именно ради Тебя (а не ради себя и, скорѣе, вопреки самому себѣ), о Дѣва. Ибо Ты – на устахъ, Ты – въ сердцѣ, Ты – въ помышленіяхъ. Ты – сердце судьбы моей. Всё готовъ я бросить на алтарь…ради Любви къ Тебѣ.
– И ты пойдешь на это?
– Пойду, о богиня. Азъ есмь звѣзда, исполненная огня, и я гряду къ звѣздѣ: звѣзда къ звѣздѣ, духъ къ духу. Порою, въ лучшіе миги представляется: ради Тебя я готовъ потерять…что угодно; я готовъ всецѣло себя отдать ради Тебя. Ибо Ты предстаешь безконечно-отличною отъ прочихъ. Милая, Ты – самое близкое сердцу часто, слишкомъ часто, до боли мое. Вездѣ мракъ изсушающій, а Ты – Свѣтъ, о возлюбленная. Въ Тебѣ я вижу не Себь и даже не себя: въ женскомъ обличьѣ, – но свое Я.
– Возлюбленный, я узрѣла боль въ осѣненныхъ закатомъ осеннимъ устахъ твоихъ, кои часто сливалися съ моими въ вѣчныхъ нашихъ лобзаніяхъ. Я не желаю, чтобы тебѣ было больно…больно изъ-за меня.
– Не говори такъ: Тебя мнѣ подарила сама Судьба, о Свѣтозарная. И Ты, Ты рождаешь ярколучистый мой пламень, молнійно-лазурный и багрянопылающій.
– Не говори и ты такъ, о Свѣтъ въ ночи: Судьба зла, зла, зла…Мнѣ тяжело тебѣ вѣрить.
Вдругъ Она измѣнилась до неузнаваемости: двоящейся обликомъ, но не двоякой сущностью, предстала Она и бросила въ меня слова горькія, какъ змѣиный ядъ:
– Я змѣя небесная, гряди къ иной! Приди въ ея обьятья – не въ мои!
– О нѣтъ! Не для того настигалъ Тебя: не жду безопасности и счастья не жду. Не для того, о, не для того всё это! Повѣрить не могу…
– Я опасна, какъ змѣя, – то правда. Предостерегаю, любимый…
– Не предостерегай: въ томъ нѣтъ нужды…Въ лоно Дня вступаемъ мы – гляди: довольно Ночи!
– День, – продолжалъ я, – и въ самомъ дѣлѣ вставалъ тогда ото сна – длиною въ Ночь; багряными ризами одѣялся онъ, и мраки разступилися. Я продолжалъ, полнясь высочайшими страстьми:
– О, прости за рѣчи сіи, но не томи несказаннымъ и невозможнымъ. Зрѣть Тебя, пречистый Твой ликъ, очи, пронзающія и излучающія сіянье, зрѣть выю бѣлоснѣжную, тонкую, станъ колеблющійся…и сознавать, что Ты…Ты – не моя…прости…я не вѣдаю, какъ сказать…Ты…я…ты – всего дороже на свѣтѣ, о сокровище несказанное. Не могу я иначе, милая. Слишкомъ много огня внутри, нерастраченное бродитъ въ душѣ. Покинешь меня – и всё будетъ исполнено страданья жестокаго; о томъ и думать нѣтъ силъ…О, если бы я могъ надѣяться! О дѣва божественная, токи и потоки Любви, всеблагой и святой, пронзаютъ меня, выводя и возгоняя меня отъ дольнихъ безднъ – къ Свѣту, къ вершинамъ горнимъ, претворяя меня – изъ человѣка – въ Огнь.
Дѣва тупила очи, и поверглась глава Ея долу: была покорена и очарована. Она сказала:
– Когда ты глядишь на меня – Любовь глядитъ на меня изъ зѣницъ твоихъ; Любовь, всепокоряющая и всевластная, свѣтитъ себя чрезъ тебя, изливающаяся, струящаяся. Для тебя немыслимое есть явь – явь возможная. Не желаю зрѣть тебя рабомъ своимъ. И ты не постылъ…Но ты – иной, иной, иной… Свѣтъ тамошній въ ликъ тебѣ глянулъ, и Вѣчность тебя ласкала. И не сильна она затушить высокія твои горѣнія, ибо она ихъ источникъ.
– О благодарю – Тебя – звѣзда! Но змѣею – не будь, о, не будь. Не отвергни меня отъ Себя, отъ лика Своего! Если нѣчто гнететъ тебя – преложи сіе на мои рамена, о Свѣтозарная.
– И я иная – не змѣя. Я дѣва неложная. Но тебѣ предстоитъ послѣднее испытаніе: ты долженъ отпустить меня; и отпустить навѣки – не ради меня и не ради любви, но ради себя, ибо сіе есть бремя наитягчайшее, и ничто, ничто не закалитъ тебя лучшимъ образомъ: то надобно для того, чтобы высшее въ тебѣ престало быть лишь побѣгомъ и претворилось въ многомощное древо, чтобы ручей сталъ полноводною рѣкою! – сказала Она, змеиновласая, и въ глазахъ Ея вспыхнулъ не огонекъ, но свѣтъ, проникшій, пронзившій, вошедшій въ меня и оставшійся навѣкъ въ сердцѣ, ибо онъ покорилъ меня себѣ.
Жадно обняла Она меня, походя на змѣю (о, безъ сомнѣній, было въ Ней тогда что-то змѣиное); нѣтъ! – не обняла – обвила: змѣею, – и цѣловала: въ уста – неутѣшно… И Свѣтъ сіялъ во тьмѣ. Вокругъ рѣка журчала, серебрящаяся, межи вешнія въ туманахъ таяли. И молвила: «Тебя ждала, лишь тебя»; и узрѣлъ я очи неложныя и очертанья горнихъ сферъ, отражающіеся въ Ея очесахъ.
Она снова растворилась словно: растворилась въ зарѣ утренней. Болѣ я Её не видалъ; Она воспарила туда, откуда низошла: на небеса, – продолжалъ М. не безъ печали въ голосѣ. – Что-то сомкнуло мнѣ уста – я молчалъ множество дней. Мнѣ долгое время казалося: она посланница Того, Неизреченнаго, Отца, Невѣдомаго и Неизглаголаннаго: безъ Нея я не узрѣлъ бы Его. А нынѣ въ томъ я твердо увѣренъ.
Такъ говорилъ М. День клонился къ закату своему, кровавясь, и герои стали плыть къ берегу, осіянному закатомъ Свѣтила. М., окончивъ повѣствованіе о Дѣвѣ, снова молвилъ:
– Мнѣ и ранѣе думалось, въ давнее время: боги сіи, тѣ, коимъ и здѣсь поклоняются, и гдѣ угодно еще, боги сіи – ложны, ложны, нѣтъ отъ нихъ вѣяній неложныхъ, не чуялъ я сего и не чую. Думалось: нѣтъ ихъ на дѣлѣ, нѣтъ. Послѣ встрѣчи съ Нею стало ясно, что они суть, но суть зло; они словно тати крадутъ божественное изъ сердецъ людскихъ, ибо всего болѣе радѣютъ о томъ, чтобъ родъ людской не имѣлъ божественнаго въ себѣ – и съ успѣхомъ; и лишь ихъ отрѣшившись, предстаешь предъ самимъ собою и жительствуешь наединѣ съ собою; стало ясно такожде, что есть Иной. И хотя первое, еще стоявшее знакомъ вопроса «Ты – еси» мною почуялось въ дѣтствѣ, знаніе «Ты – еси» родилось именно милостью Дѣвы. Именно въ первую изъ нашихъ встрѣчъ Она бросила: «Невѣріе и сомнѣніе въ «Ты – еси» есть первая и опаснѣйшая Ариманова уловка». Прочія же вѣрованія – спираль и лабиринтъ, Ея же словеса – одна прямая линія – стрѣла – прямикомъ въ сердце Іалдаваофа.
– Ясно, что Богъ Невѣдомый не есть часть міра и не есть міръ, ибо Онъ болѣе міра, но являетъ ли Онъ Себя напрямую безъ посланниковъ въ видѣ высокочтимой тобою Дѣвы? – съ интересомъ вопросилъ Акеро, глядя на приближавшійся брегъ.
– Да, Дѣва – посланница Его, и Она не разъ сказывала о томъ. Думно мнѣ, что надобно идти стезями многотрудными, бросая вызовъ: всему, всему – отъ міра до самого себя, – дабы Онъ былъ ближе къ намъ.
– Протянетъ ли длань свою Всевышній? Заговоритъ ли съ тобою? Почему скрывается Онъ въ незримомъ и неизглаголанномъ?
– Онъ молчитъ: Онъ – въ безднѣ. Явленіе Дѣвы – слишкомъ многое. Онъ глаголалъ Ею – того довольно! Того – сверхъ мѣры! Истинно, истинно говорю тебѣ: всегда желалъ я знать, а не вѣрить; да-да, не вѣрить, но вѣдать, желалъ зрѣть Бога, а не вѣрить Ему и въ Него. И Онъ явилъ себя: Ею.
Вдругъ М. поднялся и воздѣлъ руцѣ къ Солнцу и изрекъ:
– Пусть же страхомъ и слѣпотою принужденные поклоняются богамъ и богинямъ, закоснѣвшіе въ лѣни духовной, но – не мы! Не мы! Пусть низкіе боголѣпно и раболѣпно ихъ почитаютъ и славятъ, но не мы! Не мы! – Намъ не надобны ихъ благорасположенье и дары ихъ. Ибо я желаю ступить на лазурь небесъ, а ихъ дѣло – имѣть страхъ божескій. Міръ сей безмѣрно тѣсенъ для меня, потусторонняго и посторонняго, внемiрнаго и всемірнаго, безмирнаго и внемѣрнаго.
Акеро вопросилъ:
– А боги, кои также суть зло, по твоимъ словамъ, они…
– Да, и нынѣ думно мнѣ: боги сіи суть, и силою ихъ всё совершается въ здѣшнемъ мірѣ. Потому и міръ такъ дуренъ, ибо подлинные его правители еще дурнѣе. Давно, давно послалъ я къ чорту боговъ критскихъ: тамъ имъ и мѣсто, ибо и сами суть черти. Убить племенныхъ боговъ въ сердцѣ своемъ означаетъ начало восхожденія къ вершинѣ именемъ Я. Не вѣра въ вѣру, но знаніе есть непреложное основаніе истины и неложныя къ ней стези. И нѣтъ вѣры знающей и знанія вѣрующаго. И я отнынѣ уже пригвожденъ къ знанію: Ею.
Акеро отвѣтствовалъ:
– Съ иныхъ поръ прозрѣнья твои – громъ, словеса твои – молніи: претворилъ ты слово въ мечъ обоюдоострый; изливающееся изъ устъ твоихъ слово способно убивать и воскрешать. Ты – звѣзда, рожденная лузурью, просвѣтъ молнійный: въ гущахъ тьмы. Потому – вспоминая тобою реченное днесь – возглаголемъ: да не впадемъ мы въ руки твои, о богъ слѣпой! И да будемъ облачены въ ризы бѣлыя, свѣтлыя, чистыя. Также я думаю, дорогой мой, что кто боли страшится – Жизни недостоинъ. Поистинѣ: кто неспособенъ на гнѣвъ и на страсти высокіе – да страдаетъ. Святое, святое бремя ты несешь.
Ладья приближалася къ брегу пустынному, и М. снова началъ грести, и спустя время нѣкоторое изрекъ:
– Война, раздирающая нынѣ Критъ, могла бы быть не только полемъ сѣчи межъ Добромъ и Зломъ, межъ Истиной и Ложью, межъ горнимъ и дольнимъ, но претвориться въ Огнь, что сожжетъ если не вѣсь міръ, то по меньшей мѣрѣ Критъ, капище боговъ ложныхъ и людей низкихъ. Иными словами: я надѣюсь на одно: да не будетъ пролитіе крови лишь умовеніемъ, питіемъ земли-матери, будучи безплоднымъ, но да претворится во всходы новые, что даруютъ міру здѣшнему надежды новыя! – Слѣдуетъ очистить лѣсъ отъ пней да поваленныхъ деревъ.
Отирая обильно струящіеся поты съ лица и выи, оглядывая съ улыбкою суверена ширь и гладь морскую, онъ продолжилъ:
– Я разлюбилъ всю роскошь мірозданья, и День, и Нощь, и Ночи сіянье лунное, и сіянье Солнца, и зной, и хладъ: природа мѣрна, она есть порожденья создателя: именно потому, противясь ею заданному, дѣешь сообразно съ инымъ: она даруетъ не Путь, но путы, и послѣднія не необоримы: она низвергла меня въ дольнее, она же и окончитъ дольнее мое существованье, что бы я ни дѣялъ и сколь много боли я бы ни выдержалъ, дабы его продлить: исходъ плачевенъ; но безсильна она владѣть мною, моимъ мною рожденнымъ Я. Казалось бы, она не можетъ быть познана, но на дѣлѣ тайны ея и прочее ея незримое всё жъ могли бы быть осознаны и поняты: но лишь чрезъ тысячелѣтія; но для того надобно скорѣе возненавидѣть её, чѣмъ возлюбить, и отвратиться ея чаръ, чаръ, кои суть трясина, и осмыслить её, прорвавшись къ ея сути, чѣмъ-то неприроднымъ, чѣмъ-то тамошнимъ, а потому немогущимъ быть съ легкостью очерченнымъ, выраженнымъ, внятнымъ: не тѣломъ или душой, но духомъ, который – какъ показываетъ не только вѣсь опытъ мой, но и мои мысли, – есть нѣчто тамошнее, нездѣшнее. Признаю, однако: не разъ говаривалъ, опьяненный и потому побѣжденный ею, будучи захваченъ ею въ ея хороводъ: «Лишь вѣтръ шалый доселѣ я люблю – лишь онъ бунтарь въ природѣ, онъ ропщетъ, враждуя со всѣмъ живымъ и неживымъ! И буря – мнѣ сестра! И небо властно влечетъ меня». Что Солнца око? Что очи звѣздъ? Ничто не мило. Нескончаемыя чередованія бурей и тиши, дня и ночи, смѣны временъ года: безконечная круговерть безъ начала и конца, однообразно-монотонная, ужасная въ своей косности. Я усталъ отъ творенья злоковарнаго творца. Я не люблю міръ, а міръ не любитъ меня: лишь страшится онъ меня, лишь страшится. Вѣдаю лишь безпримѣрную и негасимую мою Гордость и Волю какъ ея орудіе (милостью коей всё дѣется). И не Земля, но Небеса – тронъ мой.
Кровавое Свѣтило уходило за окоемъ: въ тьму. Звѣзды заступали на небосводъ. Мѣрно пѣло море.
– Да не будутъ взгляды различающіеся камнемъ преткновенія! Но ужели ты не чуешь и не зришь всё великолѣпіе природы, о воинственный, слишкомъ воинственный мужъ? – вопросилъ Акеро, уставившись вопросительнымъ знакомъ на М. – Ея тѣни воскресаютъ въ сердцѣ, егда мы её не видимъ и не слышимъ. Ужели она не оттуда? Ужели она отъ міра сего, а не отъ міра горняго? Гляди: потекли сіянья звѣздъ…Сердце ввысь уносится – летитъ! И будь ты слабѣе, я бы воскликнулъ: страшись гнѣва природы. Всё, всё – подражаніе природѣ: ваза подражаетъ выемкамъ въ породѣ, куда стекаетъ влага, колесо – Солнцу и Лунѣ, и самое государство подражаетъ существу живому.