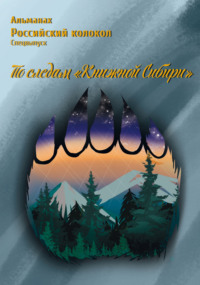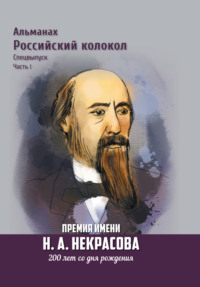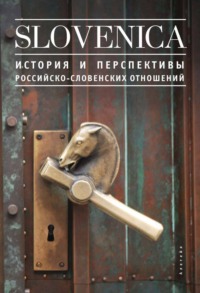полная версия
полная версияСеверный крест
82
"Мне близка мистика Блока, Данте – предельно образная и насыщенная. Не терплю мистики иссушенной. Не терплю, когда за мистику выдаётся ветхая символическая плоть. Именно когда символ не символ более, то есть не конкретное единство вещи и идеи, а лишь метафора или аллегория, то есть многозначительно указывает на некую мистическую реальность, но сам реальностью не является. Символизм мистический – это реализм, но именно реализм, не разлучающий человека с реальностью, противопоставляющий ему реальность как готовую форму, а реализм творческий – творящий реальность подлинную – посредством бракосочетания реального и идеального. Когда временное не указывает на вечное, но оплодотворяется вечным, – вот подлинный символизм, т. е. творчество реальности полноценной, не ограниченной неким ограждением бескровных скульптурно-холодных идей". (Поклонскій И. Изъ частныхъ бесѣдъ 2018-го).
83
«Поэтому не прикрѣпляйте меня вы, прикрепители, объяснители, популяризаторы, – всецѣло: къ Соловьеву, или къ Ницше, или къ кому бы то ни было; я не отказываюсь отъ нихъ въ томъ, въ чёмъ я учился у нихъ; но сливать «мой символизмъ» съ какой-нибудь метафизикой – верхъ глупости <…> самое мое міровоззрѣніе – проблема контрапункта, діалектики эннаго рода методическихъ оправъ въ кругѣ цѣлаго; каждая, какъ методъ плоскости, какъ проекціи пространства на плоскости, условно защищаема мною; и отрицаема тамъ, гдѣ она стабилизуема въ догматъ; догмата у меня не было, ибо я символистъ, а не догматикъ, то есть учившійся у музыки ритмическимъ жестамъ пляски мысли, а не склеротическому пыхтѣнію подъ бременемъ несенія скрижалей.
84
«Реалисты всегда являются простыми наблюдателями, символисты – всегда мыслители.
85
"Нельзя, например, быть христианкой и ходить с оголенными выше колен ногами и оголенными выше плеч руками, как это требуется по последней моде 1925–1928 гг. Я лично терпеть не могу женщин с непокрытыми головами. В этих последних есть некоторый тонкий блуд, – обычно мужчинам нравящийся. Также нельзя быть христианином и любить т. н. "изящную литературу", которая на 99 % состоит из нудной жвачки на тему о том, как он очень любил, а она не любила, или как он изменил, а она осталась верной, или как он, подлец, бросил ее, а она повесилась или повесилась не она, а кто-то еще третий и т. д. и т. д. Не только "изящная литература", но и все искусство, с Бетховенами и Вагнерами, есть ничто перед старознаменным догматиком "Всемирную славу" или Преображенским тропарем и кондаком; и никакая симфония не сравнится с красотой и значением колокольного звона".
(А. Ф. Лосев. Диалектика мифа).
86
«По Уайльду, романъ долженъ быть безсмысленно-очаровательнымъ, какъ персидскій коверъ» (Ивановъ Г. Борисъ Зайцевъ. «Золотой узоръ»). Или – онъ же, пророкъ, уже о стихахъ: «Мысль въ стихахъ – приправа полезная, но не необходимая. Еще менѣе обязательна новизна или оригинальность мысли. Всякая мысль «годится въ стихи», какъ пейзажисту годится всякій пейзажъ – и видъ Компаньи и задворки Охты. Глубокая или новая мысль можетъ даже повредить стихотворенію, какъ вредитъ вычурная метафора или слишкомъ звонкая риѳма <…> Пройдутъ годы, можетъ быть, десятилѣтія, пока это случится. Но я увѣренъ, что случится неизбѣжно.
87
И всё же далеко не во всёмъ. Въ критской поэмѣ воскрешается сѣдая древность скорѣе ужъ на его ладъ, на ладъ его трилогій и дилогій, а не на политизированный ладъ Сартра – ладъ, который есть не что иное, какъ безладье и разладъ.
88
«Ирония не просто сопутствует слову. Слово всего нового литературного процесса – ирония в широком смысле, косвенная речь, заранее настроенная на непрямоту. Пишущему субъекту нового времени таким образом опять же не удается своими силами создать полновесное событие. Настоящим событием осталось молчание первичного автора. Вся косвенная речь лишь посильное истолкование того молчания. (Бибихин. «Слово и событие»). – Только не истолкованіе, но игрованіе и пляски шумныя вокругъ Слова прежняго.
89
Примѣчателенъ языкъ не низовъ народа, а его верховъ: Иры, кормилицы, знахарки, Малого и пр. – Нѣкая помѣсь просторечій съ высокимъ стилемъ: суржикъ sui generis, языкъ искусственный, въ сущности; вызвано это тѣмъ, что верхушка народа подражаетъ тѣмъ, что выше него, но происхожденіе даетъ о себѣ знать; не перенимаютъ высокое, возгоняясь имъ, а ему подражаютъ, оставаясь низкими. Этимъ объясняется нѣкоторая неестественность языка ихъ и ихъ смѣхотворность, лишь усиливаемая языкомъ такого рода; славянизмы среди просторечій, какъ правило, смѣшны; но народъ такого рода смѣшонъ въ первую очередь не этимъ, а попросту всѣмъ. – «У тебя народ карикатурен на самом деле. Это, пожалуй, одно из самых уязвимых мест. Настолько народ может быть убог только в худшие моменты своего упадка. Например, как в нынешней РФ» (И.Поклонскiй). Отъ себя добавлю: линія народа, который намѣренно и вынуждено тоже – карикатуренъ, нужна въ первую очередь для приданія еще большаго объема инымъ лицамъ, которыя начинаютъ себя являть во II части. Съ т.з. романа, романнаго искусства мои герои (и само произведеніе) попросту дурны, потому что, возможно, и не живы вовсе, хотя и не такъ не живы, какъ въ «Послѣднемъ Кризисѣ».
Въ сущности, многіе тексты россійскіе временъ сѣдыхъ не всегда удачно соединяли въ себѣ два регистра языка – высокій и низкій штиль: церковнославянскій и русскій. Въ исторіи же остались тѣ, что соединяли оба регистра мастерски. Отмѣтимъ, что съ каждымъ вѣкомъ всё болѣе и болѣе преобладалъ именно русскій (живой и невысокій) пластъ славянорусскаго, славянское же умалялось, словно истаивая, что я связываю съ дѣятельностью Карамзина и особливо Пушкина; родилась національная литература, но полнота языка была до сего, теперь она навѣки потеряна; славянорусскій былъ побѣжденъ русскимъ, славянское въ цѣломъ было отброшено; отброшено и пониманіе словесности XVIII столѣтія, значимости языка ея, его величія и неизсякаемой мощи, его царственности и неподражаемой выразительности; какъ слѣдствіе, вся русская словесность понята невѣрно: XIX вѣкъ, занятый вопросами житейскими («что дѣлать?» и «кто виноватъ» въ ракурсѣ соціальнаго) переоцѣненъ, тѣмъ паче переоцѣненъ вѣкъ XX (единственно понятный современнымъ), а XVIII вѣкъ недооцѣненъ, или вѣрнѣе почти забытъ, будучи отброшеннымъ штемпелеванной культурой. Я и впрямь не считаю, что въ XIX вѣкѣ – вѣкѣ романовъ – было нѣчто достойное въ полной мѣрѣ; XIX вѣкъ – пропасть между Ломоносовымъ, Херасковымъ, Гнедичемъ, Державинымъ – съ одной стороны – и Бѣлымъ – со стороны иной. Положимъ, выходило у Толстого, аристократическаго опрощенца и пахаря, и у развенчателя и низвергателя героическаго Достоевскаго дѣлать персонажей трижды живыми, ну и что изъ того? Философіи мало, слогъ разслабленный, что и признаютъ ортодоксы, когда ихъ испрашиваютъ, можно ли использовать русскій языкъ какъ языкъ богослуженія. Куда національная литература пришла, мы можемъ наблюдать по заглавіямъ нонешнихъ книгъ: начали съ Бога, а кончили бытоописаніемъ офиціанта, проститутки, бизнесмена, политика, короче, тѣнями прямикомъ изъ царства Ничто… Посему любой выходъ изъ сей разслабленности, увеличившейся донельзя въ XX–XXI вв., благотворенъ, на какія бы авторъ издержки ни шелъ. Подробнѣе я говорю объ этомъ въ статьѣ «Rationes triplices I».
Великимъ и наиболѣе яркимъ исключеніемъ изъ сказаннаго является въ первую очередь творчество А.Бѣлаго. Онъ синтетически вбираетъ наилучшее изъ бывшаго, ибо желаетъ творить лучше кого бы то ни было; онъ созидаетъ небывшее и того болѣ: дотолѣ невозможное. Многіе геніи прошлаго оказываются фундаментомъ и стѣнами возводимаго имъ зданія.
90
Въ любомъ историческомъ романѣ что авторъ, что герои говорятъ довольно схоже. Скверно, когда какъ у Джованароли слогъ и XIX–XX вѣка переносится на рабовъ и не-рабовъ I вѣка до РХ – во всякомъ случаѣ такъ дѣло обстоитъ въ переводахъ на русскій языкъ. Спартакъ тамъ – романтическій герой временъ романтизма. Подлинное слово – слово синтетическое. Таково мое слово. Менѣе пестрые тексты я и впрямь ставлю не слишкомъ высоко, я ихъ всегда отношу къ тѣмъ, кто не прорвалъ время, – если не на уровнѣ головы отношу, то на уровнѣ чувствъ, впечатлѣній. – О томъ же на примѣрѣ "Саламбо" Флобера, а также и о переводахъ. -
Читалъ сіе произведенье въ совѣтскомъ переводѣ, который, несомнѣнно, точенъ и пр., но лишенъ изыска эстетическаго, совсѣмъ какъ та бумага, на которой онъ напечатанъ; лишенъ онъ и монументальности своего рода. Это проблема не данной книги и не Флобера какъ автора ея, а едва ли не любой переведенной послѣ 1917 г. зарубежной книги; и, конечно, сейчасъ въ цѣломъ переводятъ и издаютъ хуже, чѣмъ въ С.С.С.Р. (если говорить не о бумагѣ, которая ощутимо лучше совѣтской, но много хуже верже). – Что такое хорошо переведенная книга? Скажемъ, "Византія" Жана Ломбара, переведенная до революціи. Кромѣ того, отмѣчу неоправданную для романа и для реализма краткость иныхъ сюжетныхъ моментовъ: краткость, лишенную плотности, монументальности, едва ли не «жирности» слога. Особенно конецъ, когда умираетъ Саламбо, это описано въ 1–2 строкахъ.
Что я разумѣю, говоря "монументальность"? Вѣдь неотмирность, опредѣленная и немалая въ рамкахъ романа и реализма мощь стиля и едва ли не гомеровская эпичность (рѣдкая для реализма и 19 вѣка въ его цѣломъ) присутствуетъ и являетъ себя и въ совѣтскомъ переводѣ, ибо слово – лишь ткань между сердцемъ читателя и сердцемъ автора. – Но эпичность не строго равно монументальность. И въ данномъ случаѣ вовсе не равно. Я разумѣлъ подъ монументальностью предѣльную плотность слога, когда одна фраза, одно предложеніе стоитъ многихъ произведеній вмѣстѣ взятыхъ. Я разумѣлъ гравировку отдѣльныхъ фразъ – тѣхъ, что кратки и плотны, будучи лишены подробностей. Флоберъ далекъ отъ искусства афоризма (тѣмъ паче афоризма, вплетеннаго въ романъ), хотя ему то, быть можетъ, и не во вредъ какъ реалисту.
Если Флоберъ, который хотѣлъ реализма, гдѣ реализмъ маловозможенъ, желалъ плотности и монументальности, какъ въ ТГЗ Ницше или у меня въ П.К. или въ критской поэмѣ, гдѣ порою два-три слова стоятъ цѣлыхъ произведеній (такова тамъ плотность), то у него по крайней мѣрѣ въ совѣтскомъ переводѣ не вышло. Не вышло и въ любыхъ прочихъ переводахъ любыхъ прочихъ авторовъ. – Цѣлыя поколѣнія испорчены совѣтскими переводами, но всё это меркнетъ въ сравненіи съ дѣйствіемъ современности: только сильный можетъ использовать «цифру» себѣ во благо.
91
Не иронически архаика послѣ 18 вѣка либо не используется, либо используется иронически, и никто не рискуетъ использовать её всерьезъ. Архаика если и используется, то всуе, дабы вновь осмѣять её въ концѣ концовъ. Использовали, скажемъ, «яко» и «иже» въ духѣ небезызвѣстной комедіи объ Иванѣ Грозномъ; въ сущности, то совѣтскій смѣхъ надъ русской архаикой и шире надъ Россіей дореволюціонной, которая въ силу временной удаленности въ данномъ случаѣ (времена Ивана Грознаго) уже не страшна и опасна, какъ Россія временъ Николая II и ея послѣдніе всполохи въ видѣ бѣлой эмиграціи, а потому уже можетъ быть смѣшна.
92
Трагическое, съ котораго всё началось и коимъ всё окончится, – не то, отъ чего слѣдуетъ бѣжать, но то, къ чему стоило бы бѣжать. – «Если человек не обременен трагическим миросозерцанием, а бездумно плывет по жизни, ведомый черно-белой судьбой, сотканной из оптимизма в пессимизма, то рано или поздно он разочаруется в жизни, когда с возрастом краски её потускнеют, тело и ум ослабеют, иметь уже ничего не хочется, а бытийствовать не научился.
93
«Магiя была гносисомъ народа» (Посновъ М.Э. Гностицизмъ II вѣка и побѣда христіанской церкви надъ нимъ. Кiевъ, 1917. С.83).
94
Нельзя, однако, не добавить: хотя Александромъ Великимъ Западъ завоевалъ, казалось бы, Востокъ – на дѣлѣ (въ сферѣ не политики, но именно культуры) именно Востокъ завоевалъ Западъ; и Римъ (особливо поздній) въ немалой степени слѣдуетъ отнести къ Востоку. Великая идея Александра – въ объединеніи Востока и Запада; и если политическое сліяніе по волѣ судьбы было неудачнымъ, то сліяніе культурное плодоноситъ – въ итогѣ – и понынѣ.
95
Гансъ Йонасъ: «Если бы идеи гностиков одержали победу, наше искусство, литература и еще многое другое в нашем мире было бы иным».
96
Слободнюк С. «Дьяволы» «Серебряного» века (древний гностицизм и русская литература 1890–1930 гг.), Спб., 1998. С. 333.
97
Бердяевъ Н.А. Изъ этюдовъ о Я.Беме. Этюдъ I. Ученіе объ Ungrund. Журналъ «Путь» № 20. Тамъ же, въ сноскѣ: «Я считаю неправильнымъ называть старыхъ гностиковъ еретиками. Порожденные религіознымъ синкретизмомъ эллинистической эпохи – они не столько искажали христіанство языческой мудростью Востока и Греціи, сколько обогащали эту мудрость христіанствомъ».
98
Существуетъ много опредѣленій его, среди которыхъ: «одна изъ многочисленныхъ аномалій христіанства» (Хосроевъ А.Л.), «грандіозная увлекательная антисистема» (Гумилевъ Л.Н.), «синкретическое теченіе, охватившее античный міръ въ самыя послѣднія столѣтія передъ рождествомъ Христовымъ» (Посновъ М.Э.), «магическая форма христіанства, магическая концепція спасенія» (Трубецкой С.Н.), «дуалистическая трансцендентная религія спасенія» (Йонасъ Г.), «способъ міроощущенія», «религіозно-теософическое ученіе» (Атеистическій словарь), «религіозно-философское теченіе» (Философскій словарь), «религія» (Йонасъ Г.), «нѣкое умонастроеніе, внѣвременный настрой человѣческаго духа» (Торчиновъ Е.). Е.А.Торчиновъ въ предисловіи къ книгѣ Йонаса относитъ къ гностицизму луріанскую каббалу, философію Вл. Соловьева и С.Н.Булгакова, называетъ «Розу міра» Д.Андреева «великолѣпнымъ образцомъ современнаго гносиса».
99
«Чужеземцу суждено страдать тоской по утраченной родине. Не зная дорог чужой земли, он странствует по ней, как потерянный; освоив же их, он забывает, что он чужеземец, и теряет себя, поддаваясь соблазнам чужого мира и отчуждаясь от своих истоков. Потом он становится "приемным сыном". Это также уготовано ему судьбой. По мере отчуждения от себя страдание чужеземца проходит, но самое это отчуждение выступает кульминацией его трагедии.
100
Мережковскій Д. Трагедія цѣломудрія и сладострастія
101
Мережковскій Д. Трагедія цѣломудрія и сладострастія
102
«Гораздо лучше, – пишетъ Ириней, – если кто-либо, ничего не зная, не постигая ни одной причины, почему какая-либо изъ сотворенныхъ вещей создана, вѣруетъ въ Бога и пребываетъ въ любви къ Нему, чѣмъ, надмѣваясь такимъ знаніемъ (scientia), отпадаетъ отъ любви, которая животворитъ человѣка… чѣмъ черезъ хитрые вопросы (per quaestionum subtilitates) и тонкія рѣчи впадать въ нечестіе» (Haer. II, 26, 1). Ср. съ Тертулліаномъ: «Итакъ, свободно избранное невѣжество (ignorantia) можетъ стать признаніемъ исключительно божественнаго права на обладаніе истиной». Короче, спасаетъ вѣра, а не знаніе, и знаніе даже не помощникъ вѣрѣ, ибо оно имѣетъ фундаментомъ любознательность, но «пусть любознательность уступитъ вѣрѣ, пусть слово уступитъ спасенію…ничего не знать противъ правила вѣры – значитъ всё знать» («Adversus haereses omnes, C. XIV»). Проф. М.Э. Посновъ признаетъ, что борьба Тертулліана съ гносисомъ «расширялась и переходила въ борьбу противъ человѣческой мысли вообще <…> Слова «философъ» и «еретикъ» для Тертулліана болѣе или менѣе однозначащи» (Посновъ М.Э. Указ. соч. С. 750), вѣдь онъ разумѣетъ философовъ за патріарховъ всѣхъ ересей и потому часто иронизируетъ надъ ними, вѣрнѣе, попросту ихъ осмѣиваетъ: таковы плоды примата вѣры; дѣйствительно между Аѳинами и Іерусалимомъ ничего общаго, равно какъ и между Академіей и Церковью, если судить по рѣчамъ такого рода святыхъ отцовъ.
103
Изложеніе преимущественно по: Посновъ М.Э. Гностицизмъ II вѣка и побѣда христіанской церкви надъ нимъ. Кіевъ, 1917.
104
Посновъ М.Э. Указ. соч. С 226.
105
Тамъ же. С. 559.
106
Тамъ же. С. 561.
107
Тамъ же. С. 681
108
Тамъ же. С 712.
109
Тамъ же. С 746.
110
Множество «ересей» зародилось и расцвѣло въ Малой Азіи – «ереси» Керинфа, елксанитовъ, николаитовъ, евіонитовъ, валаамитовъ и пр. – Не потому ли авторъ «Откровенія» обращается къ церквамъ малоазійскимъ? Важнѣе иное. – Подобно тому, какъ іудеи поначалу называли самихъ христіанъ представителями «назорейской ереси», очень вскорѣ ортодоксія узурпируетъ сіе понятіе и будетъ ставить клеймо на всё, кромѣ самой себя. Ересь означаетъ «выборъ», «избраніе»; ортодоксіи только что и остается, какъ продолжать отбрыкиваться отъ гносиса, используя понятіе «ересь» въ неисконномъ значеніи. Но ортодоксія еще съ самаго начала называла гностицизмъ не только «ересью», но и «лжеименнымъ знаніемъ» и прочими «гностическими бреднями».
111
Тамъ же. С 527.
112
За исключеніемъ иного пониманія огня, огненнаго въ поэмѣ по сравненію съ гностицизмомъ и введенія Аримана и Люцифера, въ гностицизмѣ отсутствующихъ.
113
Слободнюк С. Указ. соч. С. 104.
114
Здѣсь и далѣе изложеніе темы гностицизма въ русской литературѣ преимущественно по: Слободнюк С. «Дьяволы» «Серебряного» века (древний гностицизм и русская литература 1890–1930 гг.), Спб., 1998.
115
Случевскiй К.К. Элоа
116
Брюсов В. Дневники 1891–1910. М. 1927
117
Мережковскiй Д. Двойная бездна
118
Мережковскiй Д. Гоголь и чортъ.
119
Брюсовъ В. 3. Н. Гиппиусъ (1901).
120
Слободнюк С. Указ. соч. С.239
121
Panarion XXIV 5, 2.
122
У Иринея (Adv. haer. I 24, 6).
123
К.Свасьянъ «…но еще ночь».
124
Ср. у Д. Грина: «You yourself need Forethought to extricate yourself trom this contrivance» (Aeschylus. The Complete Greek Tragedies. Edited by David Grene and Richmond Lattimore. Chicago, 1953. P. 314).
125
Watkins C. How to Kill a Dragon. Aspects of Indo-European Poetics. New York – Oxford, 1995. P. 73.
126
Ср. у Бекеса: «Музы связаны с памятью и воспоминанием, в чем и заключается значение индоевропейского корня *men-» (Beekes R. Etymological Dictionary of Greek. Leiden – Boston, 2010. P. 972–973).
127
Ср. из гимна к Афродите: αὐτὰρ ἐγὼ καὶ σεῖο καὶ ἄλλης μνήσομ' ἀοιδῆς «Сейчас же, тебя вспомнив, я припомню и другую песню».
128
Aion буквально переводится как «полнота времени», а К.Г. Юнг, как известно, связывал это понятие с образом Христа, который и является выразителем истинно, одухотворенно-душевного начала в человеке.
129
Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука, примечание 53.
130
См. Хайдеггер М. Тождество и Различие.
131
О круговом движении пишет Прокл: «Все выступающее от чего-нибудь и возвращающееся имеет энергию круговую. Именно, если оно от чего выступает, в то и возвращается, то оно связывает конец с началом, так что получается единое и непрерывное движение одной энергии». (Цит. По Лосев А.Ф. Античный космос и современная наука).
132
Ницше Ф. Так говорил Заратустра
133
«Эмуна» на древнееврейском означает «вера как преданность, доверие». Это необычное для христиан понимание веры описывает М. Бубер в своем труде «Два образа веры».
134
Руах – еврейское понятие, переводимое в Ветхом Завете как «Святой дух». Однако Руах – женского рода, а потому является женской ипостасью мирового Духа – мировой Душой.
135
«Фиалка» (лат.)