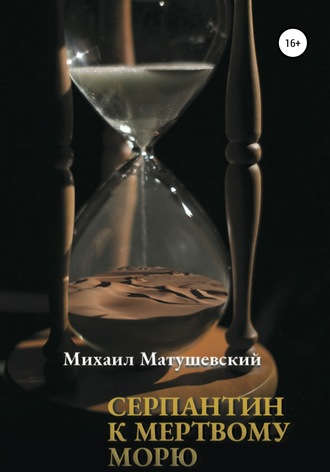 полная версия
полная версияСерпантин к Мертвому морю

Внутривенное счастье. Внутривенная печаль
Предварительные итоги, или узкая лента дороги вглубь сердца, – так можно уместить в одной дробящейся фразе, в одной свободной строке то щемящее впечатление, настоянное на прошлом и обитающее на зыбких берегах настоящего, которое остаётся от книги Михаила Матушевского «Серпантин к Мёртвому морю».
Книга эта наполнена, заполнена до краёв не только живым гулом сердца, но и гулом русской литературы, русской словесности, от ясного золота Пушкина – через напевные есенинские интонации «не жалею, не зову, не плачу», через избыток энергии акмеистического Мандельштама, через эмигрантскую волну позднего, времён «Портрета без сходства» Георгия Иванова, когда разреженный воздух поэзии сгущается до безысходной (адской) плотности будней. И вот уже где-то совсем рядом, совсем близко вибрирует напряжённая речь – горечь Бродского.
В музыкальном строе Матушевского, вбирающем в себя русскую и европейскую культуру, но остающемся глубоко личным, подлинным, звучат отголоском прошлого и интонации советских песен (блуждающие, как вирус в крови), и нежное шуршание осеннего вальса, и тёплое монотонное позвякивание ложечек в стакане, и тягучий мёд дневных и ночных разговоров.
Эта книга похожа на нить, врученную Тесею, но лабиринт (или серпантин), куда уходит в своих воспоминаниях автор, – это лабиринт прошлого. Время – минотавр, его убить невозможно, оно дышит в затылок в каждой строке этой книги, открывая скрипучие двери в пустые сейчас, а когда-то шумные дачные комнаты, где спелый гранат раскалывается на горячие тёмно-алые зёрна любви, где выпивают, делают ремонт, живут, просто живут, трудно и счастливо.
А прошлое подступает к сердцу горячей волной – и мы остро чувствуем сырой зеленовато-влажный воздух Венеции, её густую обречённую воду, печально сияющую, как муранское стекло, и солоноватый свет одесских лиманов, и светящийся жар распахнутого в вечность Иерусалима. Время в этой книге можно разделить на «внешнее» и «внутреннее» – внутривенное – как определяет его поэт Матушевский.
Циферблат ли небо кружит,или время – внутривенно.Эти времена иногда совпадают, иногда они отделены друг от друга молчаливым, потемневшим от дождей покосившимся штакетником. Сквозь прорези штакетника мучительно сияет тёплый космос кухни (ускользающую красоту которого – ранящие своей беспощадной тленностью мельчайшие детали жизни – тщательно фиксирует слово поэта), в то время как чайник высвистывает «нот вишнёвую разметку». Но иногда в плотном (здешнем) свете вдруг:
…набирает горечь грусти плод —безликое, бесформенное тело.Растёт и зреет, зреет и растёт,и этому отсчёту нет предела.На этом незримом балансе «внешнего» и «внутреннего» и построена, как мне думается, вся книга, три её части – «Обратный путь возможен», «Взглянув за календарь», «Хватило бы даров» – графически образуют как бы три нисходящие ступени. Однако интонационный и смысловой строй книги, полный драматизма, печали и сияющей глубины – восходящий. Сокровенный голос человека, его боль, его страхи, его смута, тепло и тишина – всё уместилось на этом лёгком серпантине, всё становится драгоценными дарами для нас, читателей.
Татьяна ГраузОбратный путь возможен
«Обратный путь возможен. На досуге…»
Обратный путь возможен. На досугеместа и даты перебрав сто раз,не повторить лишь запахи и звукиводы весенней и осенних астр,не повторить начал наивных строчек,которым измеренья – век и миг.Обратный путь и легче, и короче,но опыт – невесёлый проводник.Он запускает вновь по глади моряс размаха плоский камушек и вслухпрыжки его считает, с чем-то споря.(В который раз не вышло больше двух).Пускай не вечная! Да и к чему иная?В ней до колен закатаны штаны,и платье моря бриз приподнимаетиграючи, за пенный край волны.«В конце ли, в начале? Скорей в промежутке…»
В конце ли, в начале? Скорей в промежуткенаслоенных лет золотые минутки.И вспомнишь, и только узнаешь свой следв знакомом пространстве, а времени – нет.Ремонт ещё свеж, но отклеился плинтус,шумит непогода, как в ухе тиннитус,принять бы любви, как от сердца лекарство, —рецепт дорогой, выпадает нечасто.Но вот ты свободен, как в юности дембель.И время, и место – декабрь, децембер,светильник рождественский, Ханука, ёлка.Всё связано светом. И только? И только.«Лошадки деревянной иго-го…»
Лошадки деревянной иго-го,малиной поцарапанное лето.Вчера мне не приснилось ничего,как будто я ещё не прожил это.Мне не приснилась ранняя весна,где нет вещей, а только мы в квартире,и след дыханья в сумерках окна,как от картошки, сваренной в мундире.Но постепенно наполнялся домзвучаньем, и болели дети корью,заботами он полнился, потомпривычками. Сказать ещё? – Любовью.Она переполняла наши сны,а после снова становилась явью…Там фотоплёнкой мы сохраненыи стихотворной рукописной вязью.В другом краю – другие небеса,другой азарт, и, по привычке, краяещё не ждёшь, счастливые глазарукой от блеска моря прикрывая.Но вот я к быту новому привыки моду отрицающим фасонам,и день за днём коробится язык,тот и другой, смешением неполным.Вдруг лиц родных приснится череда,а фона нет, предметов нет, и толькошьёт тахрихим без выкройки беда —безвыходно точна её иголка.Хранимое всё суше и мертвей,как детские в конверте тонком пряди,как тень живых, всегда учебных днейс оценкой «плохо» на полях тетради,а марш на перемене или вальсв соседней школе – уж не осудите…Под «Поле-полюшко» построили не нас,нарушив сон словами на иврите.«Берег, отмель, осока, за ней камыши…»
Берег, отмель, осока, за ней камыши,дальше – дымка и лес.В этот час никогда, никого, ни души,пульс слышнее, чем плескэтой длинной, прозрачной, прохладной волны,уходящей в песок.До отказа прижата пружинка вины,отбывающей срок.А вина, как вино, только входит во вкус,тянет свой метастаз.Не вернуть никого, да и я не вернусь,где до слёз – школьный вальс,там, где дочь выпускница, тревожен подъезд,и встречать по ночам…Бог не выдаст – но выдал, как вырубил свет,так что поздно к врачам.И на этой земле, что в пределе кругла,обнаружишь свой край.Ровно галька дробит блеск морского стекла,к пальме льнёт попугай,разглашая восточных базаров азы:«На глазок здесь цена!»И пружинно качают две чаши весы,на одной – имена.На другую что бросить и как удержатьнеживое – живым?Продолжай забывать, начинай вспоминатьбуквы, почерк, нажим…Замедляя словами теченье минут,где мы вечно близки,где они, закругляясь, к началу бегутв море впавшей реки.«В детстве по дворам ходил точильщик…»
В детстве по дворам ходил точильщик,от его кругов летели искры,ничего из этого не сыщешь,всё сгорело весело и быстро.А пластинок чёрными кругами,за иглой, срываясь на диезах,музыка блуждала вечерамипо открытым окнам и подъездам.Оказалось, возраст – это хворост,он, сгорая, светит, но не греет.Оказалось, память – это хворость,рваные носки на батарее…Снова майский дождь стучит по жести,быстро пересказывая, вкратце,повесть от рождения до смерти,с затяжной иллюзией – остаться…Камешком упасть и проявитьсяна воде, в кругах волнистой глади.Лес прощальный грустен, как больницас близкими, темнеющая сзади.Что ещё останется в помине,кем вернёшься, побывав отцом и сыном?Может быть, точильщиком в пустынес головой засыпанный хамсином.«Кружением ножниц навстречу бумаге…»
Кружением ножниц навстречу бумагехудожник проявит чернеющий профильв сверкании дня и синкопах сиртаки.Всё лишнее срезано. Час мой не пробил?На белой картонке расчёт подытожив —наив отпускной, след небрежного клея…Всё просто и плоско, но в целом похоже,и острым углом завершается шея.А чайки стригут синий воздух над морем,над музой уснувшей, укрытой загаром.К чему бы, к чему эти строки в миноре,как будто прожитое прожито даром?С собой не забрать, но и здесь не оставитьвсе с предохранителя снятые «завтра».Трава прорастает в камнях и в октавахступеней кружащего амфитеатра.В ознобе ожогов чего не припомнишь…Сметана густа, как любовные бредни, —холодная, нежная первая помощь,поскольку, вообще, не бывает последней.«Свет пронижет облака…»
Свет пронижет облака,самолёт сверкнёт, как спица,и летит, летит покагде-нибудь не приземлится.Март. Распахнуто пальто —рукава в разлётах вальса.… Знаешь, в воздухе никтодо сих пор не оставался!Только, где ни окажись,всюду поздно. Пух и перья —тянет в брешь размером с жизнь —и масштаб здесь, и потеря.А пока – считай до ста,начиная от мизинца…Пусть качают небеса,спи, пока не приземлимся!Мы отсюда и сюда,где давно был берег илист.Был же след, и – нет следа.Мы ещё не приземлились.«Не ищу и вдруг увижу прошлогодний снег…»
Не ищу и вдруг увижу прошлогодний снег,я его узнаю сразу, как ушедших всех.Нет, не сразу, но у камня, там, где холодок, —будто бомж, комочек серый продержаться смог.Нас несёт, и стонет евро (загнанный) экспресс,и сливаются платформы, куст, деревья, лес.Справа Гармиш-Партенкирхен, сетью снегопадоставлял на объективе хлопья в сто карат.Хвоя, домики, гирлянды – празднично, бело.Что древнее, чем простое это ремесло —драгоценные крупицы день за днём толочь?Зим пятнадцать миновало, а пейзаж точь-в-точь:слева тянется равнина, холмики-стога́.Возвращенье ли, вхожденье в те же берега,в ту же рамку, в то же фото, точно под обрез,с теми, счастлив я который, но которых без?Напоследок нет рецепта, нет заветных слов,ослепит на повороте золотистый сноп.Ты сидишь, глаза прищурив, будто снег идёти, похоже, повторяешь тот же самый год.«В который раз мы выше облаков…»
В который раз мы выше облаков.Открылся моря край и горы, и лощины,в них деревушки россыпью домов,в одном из них не смерть, так именины.Во взгляде, достающем до земли,и любопытства, и сочувствий мало.В линеечку летящие нули —наш самолёт, в котором тихо стало.Всё цело, но как будто вырван клоку времени, зацепленного взлётом.Оно потеряно, как с именем листок,где две последних цифры с давним годомнас помнят ночью вьюжной и пустой,с погасшей буквой «Г» на «ГАСТРОНОМЕ».Мы обнялись. А век уже другой,всё дальше от земли, всё невесомей.«Всё знакомо окрест, вплоть до пыли на зелени…»
Всё знакомо окрест, вплоть до пыли на зелени,с переменами мест убываешь из времени.Возвращаться не след, где веление щучье,ворох старых газет и киоск в захолустье,где стоят на окне в банке гриб и алоэ…Всё другое вовне, и во мне всё другое.Впрямь пора из гостей, задержался, неловок.Фейерверк этажей между трассами пробок.Потерял то, что мог. Остальное – раздарено.Всё возможней итог, подведённый неправильнои судьбой, и рукой. Но прощание – временно.Вечен свет боковой на картине Вермеерапо лицу, по письму, от решёток витражных.Кто писал и кому? Да не так уж и важно.Отжитого компост проницаем для времени,чем оно прорастёт, свет впитавши из темени,что напомнит, вернёт под музейные шёпоты?Объектив наведу – вот мгновенья и прожиты.Да и слово зане вслед им тает, как дельта…А что было в письме, знал художник из Дельфта.«Что стихи!.. Дыханья след…»
Что стихи!.. Дыханья след,вот он есть и сразу – нет.Но в глазу окалинастрок – незабываема.Лёжа в ягодной траве,вспомнишь строчку или две,жмуришься от блика…Хочешь? – Земляника!«Что было прожито…»
Что было прожито,о том – написанопером раздвоенным.Какая разница,раз плюсы кончились,а время минусаволной нахлынуло,в песке не гасится.Всё получается,да плохо дышится.И что-то помнитсяне то, обрывками…То вязь иврита вдруг,то буква «ижица»,а куст малиновыйсозрел оливками.За театром оперным(приснятся запросто)касанья дерзкиешестыми чувствами…Злой пограничник мнепоставит в паспортеотметку с грохотом!Проснусь. Не пусто ли?Как имя идола,или Вершителя,с его причудамидарить и зариться?Родное имя лишь —вот свет наития…А остальное – так…Какая разница!Удача – ветрена,несчастье – базово.За ними, выживший,летит вдогонкуклин слов затерянныхи всяко-разное,смывая прошлое,как хрип в воронку.«Забыта местность та и выцветшее лето…»
Забыта местность та и выцветшее лето,хоть живы адреса, где не живёшь,где вслед за двухкопеечной монетой,упавшей в пропасть гулко, сердце тожлетело, вырываясь за пределыему доступных в клетке скоростей.В лесу осыпавшихся дней, через пробелы,спокойнее всё видится, верней.В далёкой блажи запахов и звуков,ушедших голосов, где слышен твой,мы неуместней, чем мотив мазурокперед последней встречей с пустотой.Я забывал. Так тщательно, так долго,что прошлое пробилось впереди…Я помню, сколько раз моя футболканадорвана от ворота к груди.В который раз и письменно, и устнорастворено дыхание в словах.До лампочки, что свято место пусто,куда пустей раскаянье впотьмах.И вот июль горит разъятым георгиномнад формулой любви, что вновь темна,где врезаны в скамейку перочиннымножом теперь чужие имена.«Поехать зимою за Волгу…»
Поехать зимою за Волгу,приблизить чернеющий лес,как книги поставить на полкунеровно, с названьем и без.Вот только я реже и режетеперь откликаюсь на зовсвиданий и лыжных пробежек,случайных побед и призов.Мне чаще мерещиться сталов дождливых узорах стекла,как птица там дятел стучала,как рыба, плеснувши, плыла.Качели взлетали до хвои,в просветах – озёрная гладь,байдарки мелькают, а двоеразглядывают печатьна пне, что оставили годы,прошедшие как-то без них,колец волновые разводыи этот заверенный миг,не вечный (и в этом отрада),но вот подступивший опять.Я всё беззащитней. Не надоменя без меня вспоминать.«Время тикает, катится, мчится…»
Время тикает, катится, мчится,уходя, возвращается вспять,забывается, тянется, длится,чтобы в реку свою же нырять.Время рвётся, латает прорехи,тает струйкой песочной легко,нас к себе приручая навеки.Или мы приручаем его?Время судит, прощает и учит,знает цену безоблачных лет,под мелодию Besame muchoвсё меняет щелчком кастаньет,безучастно считает потери,сладко шепчет «не всё решено».Время лечит, отметив те двери,где потом убивает оно.«Этот римский распластанный синий…»
Этот римский распластанный синий,в ток кровей попадая и лимф,через кляксы зелёные пинийсовершенно не требует рифм.Всех империй живучей руиныих имён и великих минут,временные пройдя карантиныстанут равными Цезарь и Брут.Здесь, в траттории «Виа-Венета»,всё пьянит – и стихи, и вино.Искра божья летает по свету,оттого нам нигде не темно.Звякнут «чао!» и сдача на блюдцев затихающем танце монет.Что-то тянет всегда оглянуться, —горихвостки над крошками вьются.Новой рифмы к прощаниям нет.«Лишь то, что вспомнит и диктует Муза…»
Лишь то, что вспомнит и диктует Муза —«трави канат», «швартовы отдавай»…Вновь, набирая тьму и рокот шлюза,свой дальний берег ближним называй.«Не уходи», звучало там негорько,под три гудка коротких из трубы,вдали закладывала свой вираж моторка,не удаляясь сильно от судьбы.Тянула «молния» (слегка) аппендицита.Из тех же лет кого я обниму?..Сужалась, пеной тающей прошита,даль за кормой. Мне помнить одному,как после вахты, взвинчен дизелями,врывался в явь и, как на слайдах сна,рассвет июльский плыл перед глазами,и занавеска билась у окна.Хранила поммеханика каюта,из всех искусств – русалку (ар-деко),мою матроску с пятнами мазутаи тонкий штапель платья твоего.«Полно рубцов на теле…»
К. Г.
Полно рубцов на теле,а помнится иное —всю ночь мы песни пелии клеили обои.Моя жена в роддоме,твоя с детьми на даче.Цветы сменить на ромбы —как жизнь переиначитьи кистью клей размазать,пивка хлебнув из банки,пропев ещё два разао юной маркитантке.К утру успеть должны мы,развеяны сомненья.Все беды разрешимыбалконным откровеньем,где курим мы, не зная,что всё на свете – случай…Филёнка шла по краю.То лето было лучшим.«Над вечным покоем, где прежние мы…»
Над вечным покоем, где прежние мы, —напрасное эхо локаций.Дыханье заметней в пейзажах зимы,где живы и можем обняться.Следы бережёт не тропа, не стезя,а память без желчи зоила.Счастливое время стояло, скользя,и дочка по льдинкам скользила.А если, как тень, накрывала беда(чужая), инстинкта таможнянадежду искала (с успехом всегда).Казалось – своя невозможна.Лишь мутная дымка повисла вдали,а жизнь до конца не ослепла,хоть нет ничего тяжелее землии легче раздутого пепла.«Море пропитано запахом рыбы…»
Море пропитано запахом рыбы,рыба напоена свежестью моря.Мхом поросли облысевшие глыбы,берега кромка – волнистого кроя.Эта пробежка – забыть ненадолго,что невозвратно. При солнечном светеморе, поверхность слепив из осколков,шепчет: «И это возможно, поверьте».Не задохнувшись, не выровнять пульсадо шепотка разомлевшего штиля.Место болит там, где свято, но пусто.Не сберегли, то есть, недолюбили!Вот и безмолвствуют рыбьи витии…Части потерь сохранённые наши,может быть, памяти швы золотыесклеят подобьем расколотой чаши.«К чему лукавить до изгиба бровью…»
К чему лукавить до изгиба бровью,зачем в дороге слушать дробь колёс?Нужна ли правда, если есть здоровье?Для тех, кто в теме, даже не вопрос.Но заблудившись в смене пересадок,как морячок, прижав к груди компас,окажешься, как выпадешь в осадок,в конце дороги, что хранила нас.Она нас выбрала. И усыплён везеньем,звучащим, как заплаканная жесть,прочти «на свете нет чего-то» с выраженьем,и просто возрази: «но что-то – есть».Вот жизнь – изрешечённый ломтик сыра,вот всех времён заигранный вальсок.Весь шестьдесят шестой сонет Шекспиранаписан ради двух последних строк.«Старых стихов возвращаются первые строки…»
Старых стихов возвращаются первые строки,их не сменить, остальные – прижались наивно…Первым дождём переполнены вслух водостоки,но под навесом подъезда нас больше не видно.Круглых часов на углу не оставило время.Всё забирает оно, как безмолвный старьёвщик,но не меняет, похоже, себе же не веря,нас, погрузневших, на прежних – весёлых и тощих.Долгая жизнь предлагает свои продолженья,словно подзорной трубы выдвигая колена,блики неясного смысла и мыльного зреньяс золотом лунной дорожки мешая мгновенно.Влажная, душная ночь погружается в море,чёрной яичницей море шипит и, вскипая,берег покатый, как почерк с наклоном, накроетстрочка волны, всё ещё продолженья не зная.Взглянув за календарь
«Сентябрь. Июльская теплынь…»
Сентябрь. Июльская теплынь.На горизонте время годаводы переливает синьв лист голубого небосвода.Наполовину лес раздет,задев, навек царапнет ветка,слетает лист, и на просветвидна его грудная клетка.Я там, у осени в долгу(она всегда была любима),песок твердел на берегу,над ним курилась прядка дыма.Я был свободен в основном,другим не задолжав и малость,между причалом и бортомвода бурлила и сжималась…И это всё – и лес, и дым,и синь свободы – на пределе.Сентябрь, казалось, повторим,да что «казалось» – в самом деле!«От миланского плюс семнадцать…»
Э. Ш.
От миланского плюс семнадцатьдо московского октябряветви голые тянут к небубезнадёжные якоря.Бесконечности иероглиф,незабвенные имена…Души к небу, а небо – в воду.Почему же она черна?Декабрь
Летящий косо снег воспоминанийнад тихой улицей (Самарской, например),над двухэтажными домами, баней крайней,с нехваткой в лампочке мигающих ампер.Летящий снег. Следы мои и другаиз школы, вдоль сугробов насыпных,каток залит на площади, по кругунесутся тени – не догонишь их.В пассиве – запах рваной рукавицыс полуподвальной сыростью, враждой.Разбитый нос – тем снегом и умыться,глотая кровь, – а уж потом домой.Декабрь. В углу оттаивает ёлка,и невдомёк ещё, что хвойный этот духне раз вернётся, перебрав осколкии на любовь настраивая слух.И снег вернёт, и выстелит позёмкойпуть от ещё не прожитых начали пахнущую новой фотоплёнкойтаинственную темень одеял.Сомнений нет, и счастье шоколадно,и слышен хруст под грецкой скорлупой.В окне, на отражённую гирляндус углов нарост вползает ледяной.«Контуром белым деревья чернеют в саду…»
Контуром белым деревья чернеют в саду.Мёрзлая даль да пустыня меж мною и садом.Может быть, в райском неведомом новом годуты обернёшься, как в райском немыслимо старом.Льдами дома уплывали в туман декабря,жмурились окна, кружа в невесомости снега,и неподвижных, чугунных оград якорявыбраны были, не выполнив роль оберега.Что не вернёшь, неотступно пребудет с тобой.Где бы ни спрятаться, где бы нам ни оказаться —не разминуться с исхоженной этой листвой —целую жизнь не меняли в саду декораций.Но подступают однажды граница и край,шумом и плеском воды в переполненной ваннойили дождём золотым в ожиданьях данай,на берегу, там, где море граничит с нирваной.Дверь на балкон, и нацелен, искрясь, кипарисв небо указкой. Да что мне на звёздной орбите?Разве алмазы… На кой мне они там сдались?Здесь хоть сосед, говорящий со мной на иврите.«Равнодушно вернулась весна…»
Равнодушно вернулась весна,лёд апрельский на Волге вскрывая,за карнизом капель продлена —перевёрнутая запятая.Продолжений других не дано,перекошен зашарканный коврик,перед дверью закрытой давно,где бессилен «сезам», но не горек.Тут себя-то узнаешь с трудом,в этом жёлчном, небрежном, потухшем.Был бы девушкой, встал бы с весломи застыл, вспоминая о лучшем.Зелень лета и парк за спиной,потому так легко и бездумно…Поскользнёшься на корке земной,через глину дойдя до корунда.И поедешь, наклонно, как льды, —и растаешь. И вытеснит жалостьв море Мёртвом немного воды.Ровно столько её и осталось.Как по нотам
Там, вначале, было слово. Но, мне кажется, и до —безымянное звучало – то, что стало нотой «до».Двор тянулся до сараев, как и время на дворе,где, предательски картавя, пробегала нотка «ре».Два притопа, три прихлопа, далеко до слова СМИ…Знали твердо, но немного. Третьим пальцем брали «ми»и садились в дымный, длинный поезд «Куйбышев – Уфа»,дрожь бежала по составу, паровоз гнусавил «фа».А «Спартак» делил с «Динамо» безуспешно ноль на ноль,и в лихом свистке судейском дребезжала нотка «соль»,в хриплом радио вагонном, боевой ничьей руля,комментатор пел о главном, чтоб не слышалось «ля-ля»!Сколько звука пропадает бестолково на Руси,только палец безымянный попадает чисто в «си».Это знал последний школьник, самый младший офицери считал систему эту он системой новых мер.Путь пройдя от «Солнцедара» до медокского «Бордо»,добрались мы (кто б подумал!) и до верхней ноты «до».В метрономе нет дефекта, тем заметней этот сбой.Птичий вирус перелёта… А прививки – никакой!Но повсюду звук до-ре-ми, фа-соль-ля или си-дов проводах свивает нотных ключ скрипичный, как гнездо.«Ладони сведу под углом пирамид…»
Ладони сведу под углом пирамид,неясно зачем, но похоже на клин.Прижата локтями, поверхность лежитстола и бумаги и прочих пустынь.Разлука не вечна. Забвения нет.Не нов катехизис, но так же расхож.Сквозь жалюзи пальмы в полосочку светмою освещает дорогу. Ну, что ж,сыграем ещё, пусть опять перебор.Азарт затихает, а искренность словс тех давних, ещё не забившихся, порлюбви не вернёт под сирени дворови шёпот листвы под накрапом грибным,и берег с другим, на закатной цепи.Не дай умереть, но остаться живым,и знать, как во сне улыбалась ты. Спи.В пустыне и воздух другой, и отсчёт,от зноя дрожащий, тягучий, как мёд.А сколько песка просто так утечёти сколько останется – всё невдомёк.Не только в ногах, правды нет и в локтях,нет выше – где клином пробит небосвод.И только пустыня в песочных часахв одном направленьи беззвучно течёт.«Незаметно, как воздух…»
Е. Г.
Незаметно, как воздух,как счастье в каком-то году,где обычные дни растворялисьв наборе забот или связей привычных —заходили в подъезд,кнопку лифта нажав на ходу,в окруженьи щелчков и мелодий оборванно птичьих,поднимались в квартиру,забросив на вешалку плащ,проверяли взволнованно сбивчивый автоответчик.Приближался отъезд,отголосками прежних удачосвещая земные пути отражением млечных.Всё в пустеющих комнатах,всё по-другому звучит,прежний шёпот любовный,вернувшись, разносится громче.Пересадку сердец заменяет обычный транзитчерез ту, узловую,с прилипшим названием «Дольче».На любом направленьи,пропитанном запахом шпали весенней воды в разноцветных разводах мазута,прежней жизни не встретишь —не то, чтоб её потерял,но значение сжалось, и стала короче минута.Что осталось ещё?Пониманье на уровне глаз,обречённость волны и последних её привилегийобходиться без слов.Даже если слова без прикрасобжигают, как воздух,как финишный воздух в забеге.«Когда светло, но меркнет свет…»
Когда светло, но меркнет свет,и вглубь подземкиуводит разномастье бед,зачем оттенки?К чему отчаянье и крик,когда есть шёпоти дождевой направлен штрихпространство штопать?А дыры почерневших луж —небес напротив —напомнят отголоском душ,как звали плоть их…Жизнь, на подробности дробя,не свят (поди ж ты!),я жив ли, самого себясебе простивши?Зимой в Израиле ветратого регистра,которым пальмы веерасклоняет низко.Он проникает в щели рамс песком Синая,всё, кроме холода, губамне позволяя.Пора. Как память ни дразнив искусе дальнем,не заменить живые дниих осознаньем.В рассудке холодеет кровь,как и в «атасе».Всё шло от сердца до краёв,стал край опасен,как нежной цабры колкий бок,как вкус ранеток,который вяжет. Всё не впрок,а – напоследок.
