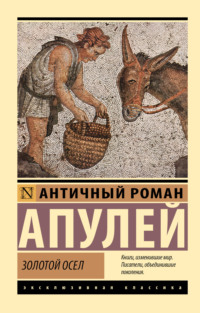полная версия
полная версияАпология
«Но, – говорят мне, – если не с коварным намерением, то для чего же разрезал ты рыбу, которую тебе принес раб Темисон?» Как будто я только что ни слова не сказал о том, что пишу о частях тел всех животных, об их расположении, количестве и взаимосвязи, что я тщательно изучаю книги Аристотеля по анатомии и дополняю их. И я до крайности изумлен тем, что вам известна только одна рыбешка, которую, по вашим сведениям, я изучал, между тем как я успел уже изучить очень большое количество рыб и делал это повсюду, где бы только они мне ни попадались, и к тому же не тайком, а совершенно открыто, так что кто угодно мог быть свидетелем моих занятий – даже человек посторонний. В этом я следую обычаям и правилам моих учителей, которые говорят, что у человека свободного и благородного, куда бы он ни направлялся, намерения должны быть написаны прямо на лбу. Ту самую рыбу, что вы называете морским зайцем, я показывал многим людям, которые были тогда со мной. Я даже не могу еще решить, как называется эта рыба. Тут нужны особенно тщательные исследования, потому что даже у древних философов я не нахожу описания ее характерной особенности, хотя встречается эта особенность крайне редко и, ей богу, достойна упоминания. Дело в том, что, насколько мне известно, только у этой рыбы, в остальном бескостной, есть в животе двенадцать связанных друг с другом и соединенных в цепочку косточек, напоминающих свиные бабки [195]. Отметить это в своих сочинениях, конечно, не преминул бы Аристотель, если уж он, как о чем-то чрезвычайно важном, упоминает о рыбе-осле [196], которая единственная из всех обладает сердцем, расположенным в центре брюшной полости.
41. «Ты, – говорят, – разрезал рыбу». Но допустимо ли вменять философу в вину то, что разрешается мяснику или повару? «Ты разрезал рыбу». Ты хочешь сказать: разрезал ее сырой? В этом меня обвиняешь? Если бы я сварил ее, взрезал живот и выковыривал оттуда печень, как учится у тебя обращаться со своей закуской этот мальчишка Сициний Пудент, то такой поступок не вызвал бы твоего осуждения. Но ведь для философа большее преступление поедать рыб, чем изучать их. Или прорицателям можно рассматривать печень, а философу, который считает себя гаруспиком [197] всех животных, жрецом всех богов, нельзя ее исследовать? Ты видишь мое преступление в том, чем я и Максим восхищаемся у Аристотеля? Нет, ты не сможешь обвинить меня до тех пор, пока не изгонишь из библиотек книг этого философа и не вырвешь их из рук ученых людей. Но довольно об этом – я и так сказал уже чересчур много.
Взгляни-ка [198] теперь, как они сами себя опровергают. Они утверждают, что с помощью магических средств и морских приманок я старался овладеть женщиной, но не отрицают, что как раз в то время я находился в горах, в глубине Гетулии, где рыб-то, пожалуй, можно найти разве только в случае девкалионова потопа [199]. Еще счастье для меня, что они не знают о том, что я читал «О животных, жалящих и кусающихся» Феофраста [200] и «О противоядиях при укусах животных» Никандра [201], – если б не это, они обвинили бы меня и в отвратительстве. Конечно! Ведь и к сегодняшним неприятностям привело меня изучение Аристотеля и желание подражать ему. Не меньше виноват и мой Платон, который заявляет, что человек, посвятивший себя этим исследованиям «Забавляется в жизни забавой, не заставляющей раскаиваться» [202].
42. Теперь, когда ты уже достаточно познакомился с их рыбами, послушай о другой выдумке, столь же глупой, но еще более беспочвенной и нелепо сочиненной. Они и сами знали, что «рыбная аргументация» будет ненадежна и ничтожна, а ее необычность, кроме всего прочего, вызовет смех. (И правда, слыханное ли дело – для магических церемоний соскребать с рыб чешую и вынимать хребет?) Нужно, решили они, придумать что-нибудь связанное с представлениями, более широко распространенными и уже пользующимися доверием. Так, вот, приноравливаясь к ходячим мнениям и верованиям, они прикинулись, будто им известно, что я заворожил заклинаниями какого-то мальчика в укромном и недоступном посторонним взорам месте, где свидетелями были лишь алтарик да светильник, да немногочисленные сообщники; что на том самом месте, где его заворожили, мальчик рухнул на землю, а потом, находясь в бессознательном состоянии, был поставлен на ноги [203]. Но пойти дальше в своей лжи они все же не посмели: действительно, чтобы басня приобрела законченный вид, следовало еще прибавить, будто тот же мальчик много чего напредсказал и напророчил. Да, потому что практическая польза от заклинаний в том и заключается, что мы получаем предсказания и прорицания, и не только предрассудок черни, но и авторитет ученых мужей подтверждает, что такие чудеса действительно совершаются с мальчиками. Мне помнится, что у философа Варрона [204], человека чрезвычайно ученого и образованного, среди других заметок того же рода я читал между прочим и следующую. В Траллах, – пишет он, – во время магического гадания об исходе Митридатовой войны [205] мальчик, созерцая в воде изображение Меркурия, в ста шестидесяти стихах возвестил вопрошавшим о том, что произойдет [206]. Тот же автор рассказывает, как Фабий [207], потеряв пятьсот денариев, пришел посоветоваться к Нигидию [208]. Мальчики-рабы, под влиянием заклинания Нигидия, указали, в каком месте был зарыт кошелек с частью денег и как разделены остальные. Один из этих денариев оказался даже у философа Марка Катона [209], причем Катон признал, что получил его от своего слуги, как пожертвование в казну Аполлона [210].
43. Вот, приблизительно, какие и сходные с этими рассказы о магических церемониях и о мальчиках читал я у многих писателей, но все же колеблюсь, считать мне их правдой или нет. Впрочем, я верю Платону, что существуют какие-то божественные силы, стоящие по своей природе и положению между богами и людьми, и что они управляют всеми прорицаниями и чудесами магов. Почему же невозможно, размышляю я, чтобы человеческая душа, а в особенности – простая душа ребенка, то ли в ответ на какие-то стихи [211], то ли под воздействием опьяняющих запахов, погрузилась в сон, испытала полное отчуждение от всего окружающего и забыла о нем; чтобы, утрачивая на короткое время память о собственном теле, она вновь обрела свою исконную природу, которая, разумеется, бессмертна и божественна, и в таком состоянии, как бы в некоем сне, предсказывала будущее… [212] Но как бы то ни было, если все это заслуживает хоть какого-то доверия, то сама суть дела требует, насколько мне известно, чтобы этот мальчик-прорицатель, которого выберут, был, кем бы он ни оказался, красив и непорочен, обладал живым умом и даром слова, так, чтобы божественная сила обитала в нем достойно, как в прекрасном храме, – если только она заключена в теле мальчика, – а также чтобы сама душа, как только наступит ее пробуждение, обращалась к своему божественному прозрению, которое покоится в ней еще в полной свежести, не ослаблено силой забвения и поэтому легко поддается передаче. Ведь не из всякого дерева, как говорил Пифагор, подобает вырезать Меркурия.
Если дело обстоит таким образом, то скажите, кто же был этот мальчик, здоровый, непорочный, одаренный, красивый, такой, какого я будто бы удостоил, с помощью заклинания, посвящения в таинства… Ведь Талл, которого вы назвали, больше нуждается во враче, чем в маге; ведь комициальная болезнь [213] довела этого несчастного до того, что часто он по три-четыре раза в день падает без всяких заклинаний, набивая себе синяки на всем теле; лицо у него покрыто язвами, лоб и затылок расшиблены, взор отупел, ноздри расширены, ноги подкашиваются. Самым великим из всех магов будет тот, в чьем присутствии Талл долго простоит на ногах: во власти болезни, он клонится почти все время к земле, подобно тому, как шатается человек, охваченный сном.
44. И все же вы утверждали, будто его заставляют падать мои заклинания, на том основании, что он как-то упал случайно у меня на глазах. Здесь присутствует много его товарищей-рабов, которых вы потребовали доставить сюда. Все они могут сказать, почему отплевываются [214] в присутствии Талла, почему никто не решается есть вместе с ним из одной миски, пить из одной чашки. Да и зачем мне говорить о рабах? Вы и сами не слепые. Посмейте-ка отрицать, что еще задолго до моего приезда в Зю Талл нередко падал на землю от этой болезни и что его часто показывали врачам. Станут ли отрицать это его товарищи-рабы? Станут ли отрицать те, что находятся в услужении у вас самих? Я признаю себя уличенным во всем, если только уже давно не был он отослан в деревню, в отдаленное поместье, чтобы не перепортил остальных рабов (да и сами они не могут отрицать, что именно так обстояло дело). Во почему мы не сумели сегодня доставить его сюда. Ведь все обвинение в целом необдуманно и случайно, поэтому только третьего дня Эмилиан потребовал у нас доставить к тебе [215] пятнадцать рабов [216]. Здесь находятся четырнадцать – те, что были в городе. Нет только Талла, потому что, как я уже сказал, он отделен от Эи расстоянием почти в сто миль [217]. Нет одного только Талла, но мы уже отправили за ним человека, который быстро привезет его сюда. Спроси, Максим, у тех четырнадцати рабов, которых мы сюда представили, где мальчик Талл и как он поживает, спроси также и у рабов, принадлежащих моим обвинителям. Они не станут отрицать, что это безобразнейший мальчишка с дряблым и больным телом, эпилептик, необразованный, грубый. Да, что и говорить, прекрасного мальчика вы избрали, чтобы допускать его к участию в жертвоприношениях, прикасаться к его голове [218], одевать в чистый плащ и ждать от него прорицаний. Ей-богу, хотелось бы мне, чтобы он был здесь; я предоставил бы его в твое распоряжение, Эмилиан, и поддерживал бы под руку, если б ты стал его допрашивать: еще посреди допроса, не сходя с этого места, перед трибуналом [219], он обратил бы к тебе свои отвратительные глаза, заплевал бы тебе лицо, свел конвульсивно руки, затряс головой и, наконец, упал бы к тебе на грудь.
45. Четырнадцать рабов, которых ты потребовал, я представляю. Почему ж ты никак не воспользуешься ими для допроса? Ты требуешь только одного мальчика, да и тот – эпилептик, которого, как тебе известно не хуже.чем мне, давно уже нет в городе… Был ли когда клеветнический навет более очевидным? Четырнадцать рабов, по твоему требованию, находится здесь – ими ты пренебрегаешь; нет одного мальчишки – на него-то и ссылаешься. Чего же ты, в конце концов, хочешь? Допустим, что Талл здесь. Ты хочешь доказать, что он упал в моем присутствии? Охотно признаюсь. Говоришь, что причиной этого были заклинания? Этого мальчик не знает, а я утверждаю, что это ложь. И ты не осмелишься отрицать, что мальчик – эпилептик, так почему же приписывать его падение скорее заклинаниям, чем болезни? Разве не могло получиться так, чтобы случайно в моем присутствии с ним произошло то, что уже неоднократно происходило в присутствии многих? А если бы я считал важным делом свалить с ног эпилептика, то к чему были заклинания, когда, как можно прочесть у естествоиспытателей, зажженный камень гагат [220] превосходно, без всякого труда обнаруживает эту болезнь, и, пользуясь его запахом, обыкновенно определяют на рабских рынках, здоровы или больны выставленные на продажу рабы. Даже диск, который крутит гончар, своим вращением вредно влияет на человека, страдающего этой болезнью: настолько вид вращающегося круга обессиливает его пораженный дух. И если нужно свалить с ног эпилептика, то гончар это сделает куда лучше, чем маг.
Ты так, попусту, потребовал от меня доставить сюда рабов, а я, напротив, с полным основанием требую, чтобы ты назвал очевидцев, присутствовавших при том искупительном таинстве, когда я толкнул падающего Талла [221]. Ты называешь только одного – этого мальчишку Сициния Пудента, от имени которого ты и обвиняешь меня: он утверждает, что был при этом. Но если бы даже его ребяческий возраст и не мешал ему принимать участие в обрядах, все же его роль обвинителя заставила бы отнестись с недоверием к этим показаниям. Было бы проще, Эмилиан, и куда убедительнее сказать, что ты сам был при этом таинстве и с тех пор начал сходить с ума, а не предоставлять всего дела мальчикам, как будто это детская игрушка. Мальчик упал, мальчик видел – уже не мальчик ли какой и заклинание произносил?
46. Тут Танноний Пудент, видя, что и эта ложь встречает холодный прием и что, судя по выражению лиц всех присутствующих и по их ропоту, она уже почти отвергнута, поступил довольно хитро. Чтобы удержать у некоторых хоть тень подозрения, он не скупится на обещания и заявляет, что приведет других мальчиков, которых я точно так же околдовал; а затем он перешел к другой группе доказательств. Хоть я мог бы не обращать внимания на эти слова, тем не менее и в этом случае, как и во всех остальных, я сам вызываю противника на бой. Я хочу, чтобы привели этих мальчиков, которых, как я слышал, убедили солгать, соблазнив их надеждой на освобождение… но – ни слова более: пусть их приведут! Итак, я настоятельно требую, Танноний Пудент, чтобы ты выполнил свое обещание. Подавай-ка сюда этих мальчиков, на которых ты уповаешь, приведи их, скажи, кто они. Можно воспользоваться для этого моей водой [222], я не против. Говори, повторяю тебе, Танноний! Что же ты молчишь, что медлишь, что оглядываешься?… А если он не знает своего урока или забыл имена, так хоть ты, Эмилиан, выйди сюда, скажи, что ты поручил своему адвокату, покажи мальчиков! Что же ты побледнел? Что молчишь? И это значит обвинять?! Это значит сообщать о таком страшном преступлении?! Или это значит издеваться над таким человеком, как Клавдий Максим, и преследовать меня клеветническими нападками? Так вот, если твой адвокат случайно оговорился и у тебя нет никаких мальчиков, которых ты мог бы привести, то, по крайней мере, найди какое-нибудь применение четырнадцати рабам, которых я предоставил в твое распоряжение.
47. А для чего ты вызывал в суд столько рабов? Обвиняя меня в магии, ты потребовал допросить 15 рабов. А что, если бы ты обвинял меня в насилии, сколько рабов тогда вызвал бы ты в суд? Итак, пятнадцать рабов знают о чем-то, и все же это – тайна. Или же это не тайна, но связано с магией? Одно из двух должен ты признать: либо в моем поступке не было ничего недозволенного, раз я не побоялся такого количества соучастников, либо, если он был недозволенным, не должно было быть такого количества соучастников, которые знали бы о нем. Эта самая магия, насколько мне известно, – занятие, порученное бдительности законов и уже издавна запрещенное XII таблицами из-за ее таинственной власти над урожаем. Стало быть, она не только отвратительна и ужасна, но и безусловно сохраняется в тайне; при занятиях ею обычно бодрствуют по ночам, прячут ее во мраке, она избегает свидетелей, а заклинания произносятся шепотом. Не только что рабы, но даже из свободных очень немногие допускаются к участию в ней. А ты хочешь, чтобы при этом присутствовало пятнадцать рабов? Свадьба это была, что ли, или какой-нибудь другой многолюдный праздник, или изобильный пир? Пятнадцать рабов принимают участие в магическом таинстве, наподобие пятнадцати.мужей, выбранных для устроения священных обрядов [223]. Да для чего мне нужно было столько рабов, если даже для соучастия в таинстве это число слишком велико? Пятнадцать свободных людей – это гражданское общество, столько же рабов – дворня, столько же скованных рабов – тюрьма… Или, может быть, потому помощь стольких рабов была необходима, что нужно было долго держать животных, назначенных для искупительного жертвоприношения? Но ты не упоминал ни о каких животных, кроме кур [224]. Или они были нужны, чтобы считать крупинки ладана, или чтобы сбить с ног Талла?
48. Вы сказали еще, что ко мне в дом приводили и свободную женщину, страдающую той же болезнью, что Талл; что я будто бы обещал вылечить ее и что после моих заклинаний она тоже упала. Как видно, вы пришли сюда обвинять борца, а не мага: ну да, ведь, по вашим словам, все, кто приближались ко мне, падали. Однако, Максим, врач Темисон, который приводил женщину ко мне на осмотр, сказал, в ответ на твой вопрос, что с ней не случилось ничего дурного и что я только спросил ее, звенит ли у нее в ушах и в каком из двух больше [225]. Она ответила, что ее чрезвычайно беспокоит правое ухо и немедленно после этого ушла.
Теперь, Максим, хоть при складывающихся обстоятельствах я умышленно воздерживаюсь от похвал тебе (ведь иначе может показаться, что я льщу в интересах собственного дела), я все же не могу удержаться и не похвалить твоего искусства вести допрос. Действительно, только что, когда об этом шла речь и они утверждали, что женщина была околдована, а врач, который был тогда с нею, возражал, ты, в высшей степени разумно, задал вопрос, что за выгода была мне от этого колдовства. Они ответили: «Чтобы женщина упала». «Что же дальше? Она умерла?» – спрашиваешь ты. «Нет», – говорят они. «Так к чему ж вы ведете речь? Что за польза для Апулея, если б даже ока упала?» Это было отлично сказано, и ты так настойчиво задал тот же вопрос в третий раз, как человек знающий, что во всех поступках нужно чрезвычайно тщательно изучать их мотивы; что очень часто стараются найти поводы, пренебрегая самыми поступками; что тех, кто выступает в защиту тяжущихся, потому и называют «causidici» [226], что они разъясняют причину каждого поступка. Впрочем, отрицать факт – дело легкое и не нуждающееся ни в каком адвокате; но доказать, что поступок был справедливым или наоборот, – это куда тяжелее и затруднительнее. Поэтому пустое занятие – вести расследование, действительно ли произошло то, что не имело в себе никакой преступной заинтересованности. Так, когда дело разбирается у хорошего судьи, обвиняемый освобождается от мелочного судебного следствия, если ему не было никакого расчета совершать тот проступок, в котором его обвиняют. Но так как в данном случае они не доказали ни того, что женщина была околдована, ни что ее свалили на землю, а я, со своей стороны, не отрицаю, что осмотрел ее по просьбе врача, то я объясню тебе, Максим, почему я задал этот вопрос о звоне в ушах. И цель моя – не столько оправдаться в поступке, который ты уже признал не имеющим ничего общего ни с виной, ни с преступлением, сколько не обойти молчанием ничего, достойного быть выслушанным тобой и соответствующего твоей учености. Я буду говорить как можно короче: ведь тебе нужно только мое напоминание, а не поучение.
49. Философ Платон в своем знаменитом «Тимее» с каким-то божественным красноречием создал целый мир. Изложив, помимо остального, чрезвычайно искусно вопрос о трех силах нашего духа [227] и показав чрезвычайно удачно, зачем создан божественным провидением каждый из наших членов [228], он рассматривает три группы причин всех болезней [229]. Первую из них он соединяет с первоначалами тел (если нарушена гармония между самими свойствами элементов – влажным и холодным и двумя противоположными; а это случается, когда какое-либо из них выходит из своих нормальных пределов или покидает свое место [230]). Следующая причина болезней коренится в изъянах соединений, складывающихся из простейших элементов, но имеющих свой особый характер. Такова кровь, внутренности, кости, костный мозг и, далее, то, что возникает в результате смещения отдельных из этих соединений [231]. Наконец, в-третьих: скопления в теле различных видов желчи [232], беспокойно двигающегося воздуха [233] и маслянистой влаги [234]служат возбудителями недугов.
50. Среди этих возбудителей особое место занимает тот, что лежит в основе комициальной болезни (о ней-то я и начал говорить). Когда, подвергаясь воздействию вредоносного огня, мясо разжижается в плотную пенящуюся жидкость, выделяя пузырьки пара, то под влиянием жара сжатого воздуха начинает течь беловатая вздувающаяся жижа. И если эта жижа прорвется наружу, она разливается, принося больше безобразия, чем вреда: ведь она разукрашивает лишаями поверхность кожи на груди и испещряет ее всевозможными пятнами. Но тот, с кем это приключится, никогда впоследствии не подвергнется комициальной болезни, откупаясь, таким образом, от чрезвычайно тяжелого душевного недуга незначительным телесным уродством. Напротив, если этот гибельный возбудитель, оставшись внутри и смешавшись с черной желчью, пройдет, неистовствуя, по всем жилам, а затем, проделав путь вплоть до макушки головы, смешает свое ужасное течение с мозгом, то немедленно парализует царственную часть души (которая, владея разумом, занимает темя человека, как крепость и царский дворец), закупоривая и приводя в расстройство ее божественные пути и проходы мудрости. Менее гибельным образом действует он во время крепкого сна, когда у людей, обильно нагрузившихся питьем и едой, предвестники комициальной болезни – судороги – проявляются в виде легкого удушья. Но если дело дойдет до того, что этот возбудитель разливается в голове больного, когда он бодрствует, тут уж разум внезапно окутывается облаком и человек падает с коченеющим телом и выходящей вон душой. Мы называем эту болезнь не только великой [235] и комициальной, но и божественной, подобно грекам, которые именуют ее Священная болезнь[236], очевидно потому, что она действительно поражает именно разумную часть души, которая свята в наивысшей степени.
51. Узнаешь, Максим, теорию Платона? (Я изложил ее настолько ясно, насколько было возможно при этих обстоятельствах). Вполне доверяя его мнению, что причиной божественной болезни служит приток этой заразы к голове, я, как мне казалось, расспрашивал вовсе не о пустяках, справляясь, испытывает ли эта женщина тяжесть в голове, цепенеет ли у нее шея, стучит ли в висках, звенит ли в ушах. А то что у нее, как она признала, особенно часто звенит в правом ухе, это – признак глубоко укоренившейся болезни. Действительно, органы, расположенные справа, особенно крепки, и тем меньше остается надежды на выздоровление, если и они сами становятся жертвой болезни. Аристотель даже записал в «Проблемах», что труднее лечить тех эпилептиков, у которых болезнь начинается с правой стороны [237]. Было бы долгим делом приводить мнение Феофраста [238] о той же болезни: да, и у него есть превосходное сочинение об эпилептиках. А лекарством для них, говорит он в другой книге, написанной о «животных – завистниках» [239], служат шкурки стеллионов [240], которые они, как и змеи, сбрасывают в определенное время наподобие старой одежды. И если эти шкурки тут же не унести, то животные, охваченные чувством злобы или во власти инстинктивного вожделения, немедленно оборачиваются и пожирают их.
Я умышленно ссылался на исследования великих философов и называл при этом заглавия их книг, не желая касаться никого из врачей или поэтов, и все это – для того, чтобы эти господа перестали изумляться, если философы в своих научных занятиях исследуют причины болезней и средства от них. Итак, раз больную женщину привели ко мне для осмотра в надежде, что я вылечу ее, и раз из показаний врача, который ее привел, и моих доводов следует, что все это было сделано как полагается, то пусть они либо установят, что лечение болезней – занятие мага и злодея, либо, если этого они сказать не осмеливаются, пусть признают, что, разглагольствуя о мальчике и женщине, больных падучей болезнью, они выступили с ничтожной и прямо-таки «падучей» клеветой.
52. Больше того, по правде говоря, Эмилиан, особенно предрасположен к падению ты, если уже столько раз ты, клевеща, оступался и падал. Конечно, ведь телу падать не так больно, как душе, ногам подломиться не страшнее, чем разуму, заплевать себе лицо в комнате не так позорно, как вызвать презрение этого блестящего собрания. Но ты, пожалуй, считаешь себя человеком здоровым, потому что тебя не держат дома взаперти и ты устремляешься вслед за своим безумием, куда бы оно тебя ни повело. Ну, что ж, сравни, если угодно, свое бешенство с бешенством Талла: ты обнаружишь, что разницы нет почти никакой, разве только что Талл беснуется во вред самому себе, а ты – и во вред другим. Кроме того, у Талла выворачиваются глаза, у тебя – истина, у Талла сведены руки, у тебя – адвокаты; Талл бьется на полу, ты – перед трибуналом [241]; наконец, что бы он ни вытворял, всему виной болезнь, он совершает оплошности, не сознавая этого, а ты, негодяй, безобразничаешь сознательно и в полном рассудке – вот какой силы болезнь владеет тобой. Ложь ты выдаешь за истину, в несовершенном обвиняешь, как в содеянном, человека, как тебе точно известно, ни в чем не повинного, обвиняешь, как виновного.
53. Да что там! – об этом я забыл сказать: есть такие вещи, в которых, по твоему собственному признанию, ты ничего не смыслишь и все же, на манер человека сведущего, заявляешь, будто в них-то как раз и таится преступление. Ведь ты говоришь, что я держал рядом с ларами Понтиана какие-то предметы, завернутые в платок. Что именно там было завернуто, какого рода эти предметы – ты признаешь, что не знаешь этого и что нет никого, кто бы видел их. Тем не менее ты настойчиво утверждаешь, что это были орудия магии. Ничего лестного о тебе, Эмилиан, не скажешь, ведь в твоем обвинении нет никакой ловкости, нет даже наглости – этого ты и не воображай!… Так что же есть в нем? Бесплодное бешенство озлобленной души и жалкое безумие упрямой старости. Ведь ты обратился к строгому и проницательному судье почти буквально со следующими словами: «Апулей держал рядом с ларами Понтиана что-то, завернутое в полотняный платок. Я не знаю, что это было такое, следовательно, там было что-нибудь магическое, и я настаиваю на этом. Итак, верь тому, что я говорю, потому что я говорю о том, что мне неизвестно». Какие превосходные аргументы, и как неопровержимо они доказывают мое преступление! «Это было потому, что я не знаю, что именно это было». Ты один такой только отыскался, Эмилиан, знающий даже то, чего сам не знаешь. Вот как вознесла тебя над всеми твоя тупость. И действительно, самые проницательные и искусные философы говорят, что не следует доверять даже тому, что мы видим, а ты смело рассуждаешь о том, чего никогда не видал и не слыхал. Если бы Понтиан был жив и ты спросил его, что там было завернуто, он ответил бы, что не знает. Вот вам вольноотпущенник, у которого до сегодняшнего дня находились ключи от этого помещения и который держит вашу сторону. По его словам, он никогда не разглядывал этого предмета, а между тем он, как хранитель книг, сложенных в той комнате, сам отпирал и запирал ее почти ежедневно, нередко входил туда со мной, а еще чаще – один и видел на столе полотняную покрышку, ничем не опечатанную и не обвязанную. Почему бы это, а? Ну конечно, – там были спрятаны орудия магии: оказывается, вот почему хранил я их так беспечно, легкомысленно выставляя на показ – чтобы было легко разглядеть и обследовать их, а если захотелось бы, то и унести; вот почему я поручил посторонним людям оберегать их, предоставил посторонним распоряжаться ими… Как же после всего этого ты хочешь, чтобы тебе верили? То, чего не знал Понтиан, с которым мы жили душа в душу, как самые близкие друзья, знаешь ты, хоть я встретил тебя перед этим трибуналом впервые? Или, может быть, то, чего не увидел не отлучавшийся никогда из дому вольноотпущенник, у которого была полная возможность все рассмотреть, то, чего этот вольноотпущенник не увидел, увидел ты, никогда и близко к тому месту не подходивший? Впрочем, ладно: пусть то, чего ты не видел, будет таким, как ты говоришь! И все же, глупец, если бы сегодня этот платок оказался у тебя в руках, то, что бы ты из него ни вынул, я заявил бы: между этой вещью и магией нет ничего общего.