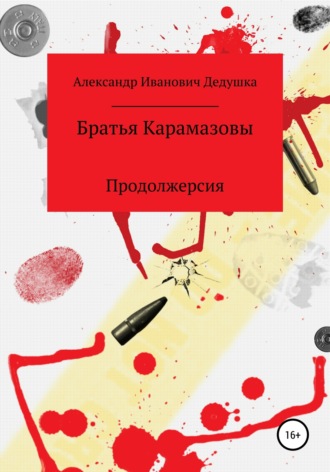 полная версия
полная версияБратья Карамазовы. Продолжерсия
– Он должен был сам себя умертвить. Если бы действительно был членом АДа, то в случае провала, если бы его не убили, должен был себя убить.
– Да-да, только это в теории. Ты же сам себя не умертвил. А?.. Что – тоже живучесть карамазовская помешала? Располнел даже на даровых тюремных харчах…
– У меня еще все впереди.
– Нет, у тебя, Алексей Федорыч, уже все позади. Ячейка ваша разгромлена. Скотов ваших революционных разметало как листья в ноябре. Кто в тюрьме, кто с ума сошел, кто в бегах.
– На наше место придут другие, чтобы убивать вас, скотов охранкиных… А если не убить, то хотя плюнуть в лицо…
И если деспот мощною рукою
Тебя за горло схватит наконец
И ты не в силах будешь кликнуть к бою,
То молча плюнь ему в лицо, боец!..
Голос Алеши прозвучал с какой-то непереносимой отчаянной ненавистью… И он начал подниматься со своего ложа. Подниматься стал и Иван:
– Ну, что ты остановился?.. Плюнь мне в лицо!.. Это будет хорошей точкой в наших с тобой отношениях… Ну!..
Алеша стоял, с ненавистью глядя в лицо брата, но все-таки отвел взгляд в сторону. Какое-то время они так и стояли напротив друг друга. Затем Иван медленно нагнулся к полу и подобрал с него полураздавленного таракана, что еще подавал признаки жизни слегка подрагивая усами и судорожно дергая одной из лап. Иван зачем-то дунул на него и положил на стол, затем, захватив лампу, направился к двери. Стукнув по ней и ожидая пока охранник отворит дверь, он наполовину обернулся к Алеше:
– А пока будем убивать тебя. Готовься…
Книга одиннадцатая
Р А С С Т Р Е Л
I
ПОКУШЕНИЕ НА РАКИТИНА, или об опасности арбузных корок
Сказав Алеше такие жесткие слова, Иван, скорее всего, и сам не предполагал, как быстро они станут сбываться. Он вышел от Алеши с чувством такого внутреннего ожесточения, которого даже подозревать в себе не мог раньше. В груди все клокотало и кипело. Как будто в его душе по отношению к брату произошел настоящий внутренний переворот, поставивший все с ног на голову. Поражала прежде всего непонятная внутренняя ярость, разом убившая все родственные чувства. Ивану и прежде приходилось иметь с «конченными революционерами», с их презрительными или злобными выпадами в свой адрес, но никогда он не переживал такой ответной внутренней ярости. Он даже поймал себя на ощущении, что это уже не Алеша, что в последний час он разговаривал не с ним, а с кем-то другим, и какое-то далекое и смутное ощущение чего-то нехорошего, что непременно еще произойдет в будущем, может быть, в первый раз и посетило его. Странное подозрение, чувство некоего «дежавю», непременно долженствующего случиться позже, но все это было так смутно, что не давалось к осознанию, и это только усиливало внутреннюю злобу Ивана. Впрочем, ему скоро стало не до анализа своих внутренних ощущений. Именно наутро ночи, когда он разговаривал с Алешей, произошло покушение на Ракитина, разом придавшее всему его «делу» новый оборот.
О Ракитине тоже нужно сказать несколько слов, все-таки он не совсем второстепенный персонаж нашего повествования. Он действительно хорошо развернулся в Петербурге по журналистской и издательской деятельности. Ему принадлежали две газеты «Рупор» и «Эхолот», которые имели хорошие тиражи и приносили неплохой доход. Целый штат столичных корреспондентов работал на эти газеты, имел он таковых и в провинции, правда, тем принципиально ничего не платил, и все-таки многие доставали ему бесплатные сведения без ропота, только из соображений престижа. Ужимал он и своих сотрудников по издательству – корректоров, вестовщиков, наборщиков, для большинства из них он создал практически невозможный режим со срочной ночной работой, но как-то странно и здесь его большей частию терпели, ничего не требуя и не возмущаясь. Что касается направления Ракитинских газет, что его вполне сознательной позицией было – не иметь никакого направления. Он мог опубликовать и верноподданническую статью, а мог и огорошить цензурирующие органы какой-то явно провокационной заметкой или корреспонденцией. Но эта его «нейтральность» его и спасала. С невинным видом он недоуменно разводил руками – мол, никакой политики, только приносящее прибыль дело. Если настаивали, мог тут же опубликовать опровержение, но проходил месяц-другой и снова появлялось что-нибудь, как говаривали в соответствующих кругах, «невозможное» и все повторялось по новому кругу. Ракитину, казалось, доставляло удовольствие это балансирование «и нашим», «и вашим», он даже разыгрывал настоящие журнальные битвы на политические темы, при ближайшем рассмотрении явно постановочные, может, потому и сходившие ему с рук. Так он явно раздул один случай, который в его изложении получило известность как «бунт в Апраксином переулке». В переулке, узком и тесном, где жило много чернорабочих, кормящихся при Гостином дворе, произошла массовая драка рабочих с дворниками-татарами. Драка длилась несколько часов, то затухая, то разгораясь вновь, на помощь татарам пришли жандармы, но одного дворника все-таки скинули с шестого этажа и он разбился насмерть. Ракитин мигом взялся за дело, дав указания своим редакторам. И пошло-поехало. Между двумя ракитинскими газетами началась чуть не война, с яростными нападениями, обличениями, опровержениями, война, которая длилась почти три месяца. «Рупор» стал отстаивать «национальный вопрос», а «Эхолот» – «социальный». «Рупор» утверждал, что татары открыто презирали русских, что они специально создали свой клан из дворников, смеялись над христианской верой, открыто резали баранов в рамадан и даже не заботились об утилизации кровавых отходов и вообще, подспудно проводил мысль, мол, «понаехали тут»… «Эхолот» же обрушивая обвинения на «Рупор» в «русском шовинизме» отстаивал позицию, что бунт чернорабочих был вызван их отчаянным положением, которым дворники просто воспользовались, притесняя их, не пуская домой после полуночи, а то и грабя и избивая, если кто бывал выпивши. Подспудно намекалось и на связи с полицией и жандармами. И так эта война между газетами продолжалась, пока не грянуло «дело Засулич».
О, это дело стало чуть не звездным часом в журналистской деятельности Ракитина! Вера Засулич, сделав покушение на градоначальника Трепова, получила почетное в известных кругах наименование «первой террористки». Громом среди ясного неба стал оправдательный вердикт суда присяжных над ней. Но, разумеется, ни о каком свободном освещении суда над ней и речи быть не могло. Правительство строго за этим следило. Один издатель, опубликовавший письмо скрывшейся после освобождения прямо в зале суда Засулич, поплатился немедленным закрытием своей газеты. И однако Ракитин сумел извернуться и тут. Он тайно выпустил листочки, начинающиеся со строки: «Читатель, Вера Засулич оправдана!» Листочки были разбросаны во всех людных местах и произвели много шума, а полиции так и не удалось выйти на их издателя – Ракитин действовал умело и осторожно. А в его газетах вскоре вышли статьи, начинающиеся со строк: «Читатель, Кауров оправдан!» Кауров – это был братоубийца, убивший родного брата на почве ревности и тоже оправданный вердиктом присяжных. И дальше следовали статьи почти с теми же периодами и оборотами, что и в нелегальных листках, только с заменой имени Засулич на Каурова. Внимательным читателям, следившим за политическими событиями в столице в столь грозовое и напряженное время, все было понятно.
Вскоре был убит шеф жандармов Мезенцев, и правительство ответило нелегальным террористам вполне заслуженной реакцией. Начались аресты. По механизму так называемого «административного порядка» из столицы сотнями высылались все подозрительные и «неблагонадежные элементы». Правда, на поверку все это оказалось не очень эффективным и походило на стрельбу из пушек по воробьям. Бороться приходилось с самим общественным мнением, с незримым нигилистическим отношением, которое как ядовитые пары пропитывало все общественные круги. Вы только подумайте, насколько все было отравлено, если нижеследующие слова известного народника Лаврова стали чуть ни «евангельскими изречениями» (по выражению одного современника) для «русского культурного общества». Этими словами в своем нелегальном журнале «Вперед» он обращался непосредственно к государю-императору Александру Второму: «Ваше величество, Вы ходите иногда по улицам. Если навстречу вам попадется образованный молодой человек с умным лицом и открытым взглядом, знайте: это ваш враг…»
И Ракитин добавлял своих ядовитых испарений в эту отравленную напрочь атмосферу. В его газетах печатались и перепечатывались такие «невинные» диалоги:
« – Вы как назвали своего сына Орестом или Пиладом?
– Пиладом?
– Ой, зря – Оресты нынче в гораздо большей моде.
– Да ну, что вы? Я думаю, что сейчас в каждом городе есть свой Пилад. На каждого Ореста точно. И ни один Орест не может без них обойтись…»
Но видно и ракитинскому бычку однажды пришлось оказаться на веревочке… Нашла коса на камень, да и наверно обиднее всего для Ракитина, что на тот же террористический камушек… Ракитин приехал в город вместе с Иваном на вечернем поезде, а уже утром на него было совершено покушение на нашем городском рынке, что расположен в углу Соборной площади. И совершил это покушение никто другой как Муссялович. Ракитин шел между рядами, когда из-за спин торговок выступил одетый таким же торговцем (в овчинный полушубок и передник) Муссялович и выстрелил из револьвера. Выстрел прозвучал ужасно громко в морозном воздухе, напугав ворон, рассевшихся на голых ветвях лип и разом с громким карканьем поднявшихся воздух. И следом – визг и крики разбегающихся торговок. А Муссялович все стоял и жал на курок своего револьвера, из которого больше ничего не звучало. Что-то заело в переводном механизме, который только кряхтел металлическим звуком, не в силах провернуть барабан револьвера. Наконец Муссялович понял, что больше из него ничего не добьешься, отбросил револьвер в сторону и бросился бежать в переулок, уходящий от Соборной площади в сторону монастыря, кладбища, железной дороги и леса. Последней в ряду торговок была баба, торговавшая моченым арбузом. Рядом с нею была стоящая на санях бочка и прилавок, на котором красовалась в качестве рекламы половина головы арбуза и пара уже подмерзших ломтей, а на выметенном ею же булыжнике мостовой (торговок обязывали самим убирать снег) валялись несколько арбузных корок. Одна из таких корок и стала роковой для Муссяловича. Пробегая мимо, он одним из своих знаменито-скрипучих сапог (а сапоги были те же) наступил на такую корку, лежавшую мякотью вниз и поскользнулся. Поскользнулся самым роковым образом, неотвратимо теряя равновесие и заваливаясь на бок. Падая он опрокинул бочку с арбузами, многие из которых полопались тут же, вываливая наружу свое красно-сизое нутро, но самое главное – еще одна роковая случайность! – угодил головой в одну из каменных тумб. Эти невысокие тумбы, сложенные из камня и скрепленные раствором, когда-то, еще по мысли предыдущего градоначальника, должны были служить подставками под цветочные клумбы, коими предлагалось украсить эту часть соборной площади. Но в результате упорной борьбы торговок уже при нынешнем Коновницыне они были облюбованы в качестве весьма удобных подставок под прилавки и торговые ящики. В такую тумбу и угодила голова Муссяловича, и шансов остаться целой к ужасу всех тех же торговок у нее после этого не было. Правда сейчас нам придется опираться на их показания, кои могут быть сильно преувеличены, но других у нас нет. По их словам, голова Муссяловича расселась на части как те же валяющиеся рядом разбитые арбузы, и в этом зрелище – можно себе представить! – было все «страшно-ужасное». Дескать, не только по форме, но и по цвету все было «сильно похоже». В самом деле, если представить себе разбитый на части арбуз и разбитую человеческую голову, то даже при недостатке воображения можно увидеть определенное сходство. Правда, дальше кажется, уже совсем нечто фантастическое. Получив такое «разбитие» Муссялович не только не умер на месте, но сам же стал складывать свою голову обратно. Видимо, все-таки она не до конца расселась у него на части. Но, как божились потом торговки, он действительно, не только совместил рассевшиеся части черепа руками, но еще и пытался подняться, чтобы, видимо, продолжить попытку бегства. Все это невыносимое зрелище продолжалось несколько минут, ибо встать он все-таки не смог – так как рассевшаяся голова это не сломанный пальчик. И эта фантасмагория продолжалась до тех пор, пока какой-то мужик, решившийся подойти поближе из глубины ряда, не завопил:
– Ленту, ленту давай! Небось!..
Что за лента – как можно было понять? Но удивительным образом поняли – уже бабы доставили длинное белое полотенце, которыми у нас мещане любят украшать притолоки и которые торговались тут же неподалеку, и тот же мужик этой «лентой» перевязал голову Муссяловича, на которой сразу же проступили пропитавшие мутной кровью полосы, похожие на темные полосы тех же арбузов. Удивительно, что все это время – и вплоть до прибытия полицейского урядника, а потом и жандармов, Муссялович не терял сознание и все порывался встать. Его так и увезли на санях в полном сознании, с двумя жандармами по бокам, ибо его судорожные дерганья никак не давали уверенности в его неспособности к какому бы то ни было побегу.
Но мы как-то совсем забыли о Ракитине. И действительно, о нем не сразу вспомнили во всей этой суматохе, начавшейся после выстрела Муссяловича. Впрочем, он сам этому способствовал. Пуля, пробив дорогое кашемировое пальто, попала ему куда-то в верхнюю часть живота. Он не упал, и даже какое-то время чуть повернув голову по направлению стрелка, просто стоял столбом, словно в каком-то недоумении, наблюдая за тем же Муссяловичем, как тот судорожно нажимает на крючок револьвера, пытаясь продолжить расстреливание. Толпа сначала отхлынула от места неожиданного нападения, а потом привлеченная невиданным зрелищем разбитой головы стала собираться вокруг Муссяловича, практически не обращая внимания на продолжавшего стоять Ракитина. Тот наконец зашевелился, засунул себе руку под пальто, вытащил обратно и с какой-то даже досадой стал смотреть на размазанную по ней кровь. Как будто он просто порезался и теперь с досадой недоумевает, как же он был так неосторожен. Наконец, когда уже вокруг Муссяловича началась новая турбулентность, связанная с «летной», Ракитин сделал несколько шагов до ближайшего прилавка, сооруженного на еще одной тумбе, такой же, как и та, об которую разбил голову Муссялович. Ракитин оперся на прилавок одной рукой, а второй, измазанной в крови, как-то гадливо поводил по сторонам, словно ища, обо что ее можно вытереть. Наконец, силы и сознание оставили его, и он навалился на прилавок, обрушивая его назад вместе со всеми навешанными сверху на нитях бубликами и пряниками. Только после этого народ, наконец, обратил внимание и на него, дав знать жандармам, позаботившимся о доставлении Ракитина в больничную часть.
II
приветы из прошлого
Иван проснулся от очередного кошмарного сна. В последнее время он чувствовал себя неважно, ощущал, что заболевает все сильнее и ничего не мог поделать. И самым неприятным симптомом приступающей к нему болезни были участившиеся кошмары, в которых вроде бы и не было ничего особо страшного, но они давили каким-то непонятным неподдающимся осознанию подтекстом, вызывая в душе гнетущее мрачное и опять же непостижимое предчувствие чего-то нехорошего, что еще должно произойти в будущем. Причем, сны эти никогда не повторялись, хотя были наполнены вполне реальными лицами.
На этот раз Ивану снилось, что он стоит на новом воксале, но почему-то берет лошадей и громко говорит кучеру: «Смотри, не в Чермашню, а на Воловью». И его сильно беспокоит, что кучер повеления не понял и сейчас решит действовать по своему разумению. Уже во время езды он снова наклоняется к кучеру и хочет ему напомнить о Воловьей станции, но в то же время как что-то и останавливает его. В душе нарастает беспокойство – чувство, что он попал в непонятную ловушку, из которой ему будет очень трудно выбраться. Он начинает вглядываться с спину кучера, словно там должна проявиться некая разгадка. Но разгадки нет, а новое острое подозрение все сильнее пронизывает Ивана; он глядит на подергивающую спину кучера, и эти подергивания как-то отвратительно ясно убеждают его, что кучер на самом деле везет его в Чермашню. Ивана захлестывает ярость, он подымает трость, чтобы ударить кучера, но тот внезапно сам поворачивается к нему. И ярость сменяется волной страха. Ибо видит, что повернувшийся к нему сидящий на козлах кучер – это Смердяков. Ивану видна только половина его лица с хитрым прищуром глаза и этим ненавистным выражением сознания какой-то связывающих их обоих тайны. А Смердяков словно наслаждается его раздерганной беспомощностью и вдруг произносит:
– А и правду говорят, что с умным человеком и говорить разлюбезно
И это «разлюбезно» невыносимо режет сознание Ивана своей опять же непонятной несообразностью. Во-первых, от совершенно нестерпимой фамильярности – такой, что даже дух захватывает от этой наглости, так решительно переступившей все границы. А во-вторых, от опять же от почти не осознаваемого, но все-таки чувствуемого признания, что Смердяков имеет право так говорить. Имеет, но не должен был это делать, словно не должен был так явно выдавать некую их совместную тайну. И в то же время Иван чувствует несообразность в самих словах Смердякова, словно что-то в них неправильно. «Нет, не так! Врешь, не так!.. Неправильно!..» – думает про себя Иван, но в то же время, почти холодея от ужаса чувствует, что не может вспомнить, как должно быть правильно, как должен был сказать Смердяков. А именно в этом и есть спасение, и есть выход из этой подстроенной Смердяковым ловушки. Иван напрягается, но не может вспомнить, как должно быть правильно, и более того, чувствует, что и это Смердяков тоже подстроил, чтобы посмеяться над ним и еще больше его унизить и увеличить свою власть над ним. Беспомощно, словно ища поддержки, Иван начинает озираться по сторонам и вдруг видит, что справа и слева от него сидят Катерина Ивановна и Lise. И опять ощущение, что это уже где-то было, но где и когда он не может вспомнить. Иван снова мучительно пытается вспомнить и тут замечает, что пара лошадей уже не просто скачет впереди, а они словно несутся со все убыстряющейся скоростью чуть уже не по воздуху. Страшно становится Ивану, он инстинктивно хватается за руку сидящей справа от него Lise.
– А раньше были смелыми… – говорит та, смеряя его холодным, презрительным и даже каким-то «размазывающим» взглядом.
И опять Иван пронзается чувством, что это когда-то было, что просто смертельно необходимо вспомнить, где и когда, что в этом будет спасение, но он не может этого сделать… И тут просыпается с колотящимся сердцем и стоном, который слышит сам в первую секунду пробуждения.
Иван приподнялся на диване, с простынею, сброшенною на пол его беспрерывными ворочаниями, как и шубой, служившим ему вместо одеяла. В последние дни он ночевал в тюрьме, в кабинете смотрителя тюрьмы, что был расположен на втором этаже «административного корпуса». Спал он, полностью не раздеваясь, сняв только обувь и верхнюю часть своего обычного костюма – черной в едва заметную елочку тройки. Кабинет выглядел довольно скромно: раза в полтора шире, чем обычная одиночная камера, пенал пространства упирался в торцовую стену с двумя окнами, между которыми висел портрет государя-императора. Под ним массивный стол, в которому был приставлен еще деревянный, служащий для допросов арестованных, пара стульев. Да в углу – потертый кожаный диван, служивший Ивану постелью. Еще в противоположном углу у двери – медный умывальник с начищенной вставной емкостью для воды, блестевшей как золотая. Это был предмет соревнования между различными сменами дежурных солдат, каждая из которых, сдавая смену, по какому-то неписанному правилу должна была до блеска начистить этот «медное черево», как называл эту деталь умывальника начальствующий над солдатами фельдфебель Прокопьич. По совместительству оно служило еще и зеркалом.
Иван подошел к умывальнику и неторопливо умылся, щурясь на блестящую поверхность «черева». Изображение его лица сильно искажалось, растягиваясь в ширину, так что голова походила на какую-то невиданную тыкву. Иногда это забавляло Ивана, но сейчас только раздражало и вызывало желанию плюнуть. Глубоко в душу засел и никак из нее не шел только что пережитый во сне сюжет. Ему только сейчас осозналось, что он так мучительно пытался понять во сне – его герои говорили словами Смердякова, и появление этого персонажа именно в этот день не могло не угнетать его и как-то по-злому раздражать еще сильнее. Кроме того в кабинете было немилосердно жарко и душно. Вделанный в противоположном от умывальника углу дымоход буквально пылал жаром. Это старались дежурные. Как ни ругался Иван, пытаясь умерить их «пыл», каждый раз все происходило по-старому. Приходила новая смена и первым делом старалась как следует раскочегарить печное отопление до отупляющей одури. Оно, впрочем, было понятно, солдаты сильно мерзли на своем первом этаже, где начальствующие «экономы» экономили дрова в первую очередь на обогреве казарменных помещений. За дверью послушалась возня и шушуканье. Иван знал, что это означает. Стоящий на посту перед его дверью солдат должен был определить, что хозяин кабинета встал и дать сигнал к приношению завтрака.
Одеваясь Иван стал у дивана и повернулся к портрету. Это уже выработалось у него в какой-то ритуал – одеваться, глядя на государя-императора. Что-то в портрете сильно привлекало Ивана, но опять-таки не давалось к точному определению. Не сказать, что изображение было сильно талантливым. Видно, что художник компенсирует отсутствие подлинного мастерства тщательным выписыванием деталей. Портрету было больше десяти лет, написан каким-то «командировочным» художником по «государственной надобности», ибо у начальников подобных учреждений должен висеть портрет государя, а сам государь был изображен еще относительно молодым. И хотя полного сходства с оригиналом не было, однако остался этот пристальный взгляд слегка настороженных глаз, которые почему-то больше всего и влекли Ивана. Чем больше он всматривался в эти глаза, тем постепенно все явственнее начинал испытывать непонятное чувство тревоги и даже вины, которые странным образом мотивировали его, как он сам определял, на «не вполне однозначную деятельность».
Наконец после стука и окрика Ивана дверь отворилась и за нею появился солдат с железным подносом, на котором дымились чашки с нехитрым казенным завтраком, сделанным на тюремной кухне «для господ офицеров». Иван кивнул и хотел было отвернуться, но его привлекло улыбающееся широкой улыбкой лицо солдата, невольно обращающее на себя внимание своей свежестью и радушием. Это был еще совсем молодой солдатик, с круглым лицом и курносым носом, не более двадцати трех-пяти лет, к тому же маленький и тщедушный, – ремень на его поясе, несмотря на все старания соблюсти форму все-таки болтался на худосочном тельце, и ладони, в которых тот держал поднос, казались совсем еще детскими.
– Что, голубчик, вы там опять распалили на всю Ивановскую? Видишь, как жарко, скажи, чтобы дров больше не подкладывали, – распорядился Иван слегка дребезжащим голоском, не столько потому, чтобы это было исполнено – ситуация повторялось изо дня в день – а чтобы что-то сказать и услышать в ответ слова этого непонятно приветливого солдатика.
– Да мы уж и так помале, ваше высоко…благородие… Да боимся, как бы не похолодело. А то на улице ужесь мороз как ни есть… – ответил солдат по-прежнему улыбаясь и словно не принимая всерьез слова Ивана. Видимо в его сознании тепло – это было всегда высшее и первейшее благо, жаловаться на которое можно только в шутку.
– Ну, ставь, ставь поднос свой, – беззлобно, но все-таки мрачно ответил Иван. Ему и хотелось рассердиться, и почему-то сбивало с толку ненаигранное добродушие этого солдатика.
– Мне бы еще прибраться, ваше высокоблагородие…
– Что черево начистить?
– Да и еще по мусору и пыли подтереть.
– Ну валяй, валяй…
В другой раз, даже зная, что этим задерживает смену состава дежурных, он мог бы и выгнать таких «чистильщиков», но сейчас разрешил – загадка улыбающегося солдатика не давала ему покоя.
Иван уселся за приставленный к основному дубовый стол и принялся за завтрак, исподтишка наблюдая за нехитрыми действиями солдата, который выйдя на минуту, вернулся с ведром и тряпкою и действительно начал с зачистки пресловутого «черева», навести на котором еще больший блеск, казалось, было уже невозможным. Уже к концу завтрака, когда и солдат заканчивал свою уборку, Иван снова поймал на себе улыбающийся взгляд солдатика.
– Что, голубчик, ты так разулыбался с меня?
Тот как бы смутился и озадачился:
– Я это… виноват…ваше высоко…благородие…

