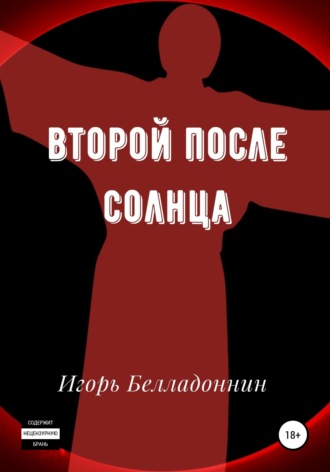
Полная версия
Второй после Солнца
Тут и Пристипома залилась – но не слюной, а слезами.
«Однако, фиговая же ты демократка», – думал я, сочувственно кивая головою.
Конкурс проходил в два этапа. На первом претенденткам предоставлялось три месяца для написания сочинения на тему: «Как глубоко и сильно я люблю Аркашу» с приложением фотографий «максимально полно передающих богатство внутреннего мира и своеобразие внешних данных претендентки».
Ганга не ошиблась в своих прогнозах: за три месяца Аркаша получил более миллиона посланий. Ему предстояла трудная, но увлекательная работа. Соискательниц из стран развитого мира он отбраковывал как потенциальных феминисток, соискательниц из большинства развивающихся стран – ввиду несходства менталитетов. Таким образом было отсеяно более половины претенденток. Дальше Аркаша работал с фотографиями. Обладательницы строгих костюмов отвергались Аркашей по причине неуместной в данном случае строгости нравов, соискательницы без костюмов вообще – по причине не более уместного легкомыслия. Эротизм в одежде, интеллект в глазах, таинственность в улыбке, наоборот, приветствовались.
С каждой из отобранных претенденток Аркаша уединялся на три-пять минут в своём рабочем кабинете, производившем на непосвящённых шоковое впечатление: это было место, где Аркаша творил! Для каждой у Аркаши находилось ласковое слово и пара советов. Однако, Аркаша всегда любил диалог и потому требовал встречных вопросов, когда же вопросы оказывались откровенно дурацкими, типа: «Когда мы сможем, наконец, заняться любовью, милый?», сильно раздражался и даже сердился – но, главным образом, на себя – за то, что не сумел распознать некондицию стадией раньше.
– Вас миллионы, – говорил Аркаша неудачницам на прощание, – а я один. Какой смысл мне брать сейчас заведомо бракованное изделие, которое откажет через энное количество лет или даже месяцев, когда, продолжив поиск, я смогу найти спутницу заведомо более совершенную?
И вот этот увлекательный процесс был остановлен по одному мановению изящной и невинной Гангиной ручки.
Увидев Гангу, Аркаша смутился. Ещё больше он смутился, оставшись с ней вдвоём в кабинете: ему стало неловко за своё разгильдяйство, хотя некие элементы творческого беспорядка, безусловно, имели право на жизнь в кабинете гения. Аркаша попытался заслонить их своим могучим телом. Попытка не удалась, но Ганга всё равно смотрела на Аркашу сияющими глазами.
– Какой-то я вдруг стал с вами мягкий, добрый, хороший, – тихим голосом произнёс Аркаша, – как будто меня кастрировали.
Ганга ничего не отвечала на Аркашино признание, но продолжала смотреть на него сияющими глазами. Аркаша тяжело вздохнул и вышел к народу.
– Конкурс окончен, – объявил он, глядя в народ сияющими глазами Ганги.
Пристипома продолжила, отрыдавшись.
– Так оказалась я в услужении у пожилой супружеской пары. Они рекомендовали мне ялик как средство, позволяющее заработать на жизнь. Я поблагодарила их, но для себя уже решила, что физический труд, этот спутник вечной нужды – не для меня.
– Где же теперь твоя сестра? – спросил я, уловив намёк Пристипомы.
– Она во мне – и не во мне, – отвечала Пристипома загадкой, – она в тебе – и не в тебе.
– А не превосходила ли она тебя красотою? – осведомился я, чувствуя, как возбуждение нарастает во мне с каждым выдыхаемым звуком.
– Да, она на голову превосходила меня и красотою, и ростом, и дородностью. Но внутренне – внутренне я была красивше! Мой мозг был более студенистым и извилистым, моё сердце – менее шершавым и потным, мои почки набухали быстрее, чем у сестры, а мужчины всегда это ценят.
Появление Ганги окрасило в новые, красно-оранжево-жёлто-зелёно-сине-фиолетовые цвета взаимную любовь Аркаши и народа.
– Аркаша, сколько ног у кошки? – любовно спрашивал народ.
– Четыре, знайте же, – с любовью к истине и народу отвечал Аркаша.
– Так спой нам про неё, Аркаша! – требовал народ.
– А споём вместе! – задорно отвечал Аркаша.
С Гангой или без Ганги – Аркаша не мыслил себя вне народа. Аркаша жил для народа. Он также жил народом, в народе и посреди народа, в самой его сердцевине.
Народ, как мог, любил своего Аркашу. Аркаша же любил свой народ, в оптимальной пропорции сочетая интернациональное с патриотичным.
– Если есть Индокитай, – учил Аркаша, – то должна быть и Индокорея. Ищите.
– Но где искать? – растерянно спрашивал народ.
– Ищите, ищите, – повторял Аркаша. – Хорошо ищите, между Индокитаем и Индояпонией. Кто первым найдёт – тому приз.
– Какой приз? Какой приз? – возбуждённо спрашивал народ.
– Путёвка в эту самую Индокорею на десять дней с моим собственноручным автографом!
Вдохновляемый Гангой, Аркаша продолжал и свои феноменальные исследования в области человечествоведения.
– Если древняя столица Японии именовалась Киото, а новая – Токио, то как должна называться новая столица новой России, если старая называлась Москва? – спрашивал у народа Аркаша.
И народ дружно отвечал: «Квамос! Мы хотим жить в Квамосе, жить в новом Квамосе с нашим Аркашей!»
Не в силах противостоять охватившей меня воистину животной страсти к той, которую не мог заполучить, я почёл за благо заснуть. Мне снились дивные, но страшные сны: мы безостановочно совокуплялись с сестрой Пристипомы, Пристипоной, в глубоком жерле вулкана. Исторгнутая из недр его лава не смогла раскалить нашу любовь сильнее, чем она была раскалена уже в доплейстоценовую эру зарождения между нами всего живого. С потоком лавы низвергаемые в океан, мы неслись по склону вулкана, словно два слипшихся скарабеевых шара, попеременно оказываясь сверху и оглашая окрестности звонким восторженным карканьем. Ни холод океанских вод, ни мрак его пучины не смогли охладить или замутить нашу страсть. Мы любили друг друга, как дельфины, скользя по волнам, пока Пристипона не довела меня до полного истощения. Обессиленный, я камнем пошёл ко дну. Тёмный силуэт Пристипоны, махнув мне на прощанье хвостом, бурунно развернулся и заскользил к мелководью с целью икрометания. Мысль о том, что в каждой из икринок будет спрятано по маленькому Глюкову, утешала меня в моём скорбном погружении.
Жители Квамоса, столь ласковые с Аркашей, были вообще-то не менее агрессивны, чем мультисезонная снежно-соле-грязевая каша на квамосских улицах.
И так же по привычке агрессивно демонстрировалась простыми квамосцами возлюбленность ими Великого хана Квамосского – квамосского властителя.
Город заполняли плакаты: «Великий хан – выбор квамосцев!», «Квамос выбирает Великого хана – Великий хан выбирает Квамос!», «Великого хана – в Великие ханы!».
«И впрямь, кто мог бы быть лучшим Великим ханом, нежели сам Великий хан?» – задавался вопросом Аркаша.
Но не все в Квамосе были проникнуты подобным умилением: порою попадались на улицах образчики совсем иного жанра, переиначивающие душеизъявления настоящих, подлинных квамосцев, в непристойности типа: «Великого хама – в Великие хамы» и «Хан хамов» – это были творения рук или даже не рук, а щупалец и клешней всякого рода пресловутых засланных казачков и, что самое обидное, – некоторых квамосцев-отщепенцев, выродков из числа тех, очевидно, что бывали неласковы и с Аркашей.
И обнаглели они до того, что попытались даже как-то раз вообще свергнуть Великого хана. Весело рассмеялся тогда им навстречу Великий хан, кривым ятаганом сверкнули его раскосые очи.
– Не вы меня выбирали, – бросил он казачкам сермяжную правду, – не вам меня и свергать!
И на этом горе-переворот закончился. Воспрянувшие духом квамосцы в тот день трогательно демонстрировали своё единение с Великим ханом. Они братались в едином порыве, и в приливе чувств коммунист-квамосец рыдал на груди квамосца из числа демократов, а квамосец-либерал ласкал колено квамосца-патриота.
А Аркаша считал так: «Хочешь ханить – хань, не хочешь – не хань» – и был, как всегда, прав.
Эту свою глубокую мысль Аркаша решил лично донести до Великого хана.
Великий хан Квамосский, кстати, одним из первых поздравивший Аркашу с женитьбой, ожидал его в своём Центральном шатре. Был хан дороден, узкоглаз и остронос. Тюбетейка на его голове, расписанная лучшими квамосскими мастерами, служила отличительным признаком высшей власти. В одной руке Великий хан привычно держал отбойный молоток, в другой – баллон ацетилена37. Как и тюбетейка, эти священные предметы передавались от Великих ханов преемникам с целью соблюдения ритуала престолонаследия.
Вокруг Великого хана толпились князья и бояре, такие же тучные, как Великий хан, и в такого же фасона тюбетейках, но расписанных попроще, мастерами чуть менее известными. Был тут князь Резиновый: сколько ни пытались оттеснить его от Великого хана другие князья – а князь всё пребывал в почёте и достатке и в милости Великого хана. Был тут и дофин Паулин, князь Юго-Западный – по-хорошему энергичен был дофин и взгляды имел прогрессивные, за что и ценил его Великий хан. Был тут и юный князь Уго Босс, статностью, приветливостью и приятными манерами затмевавший едва ли не самого Великого хана. Но ближе всех к нему всё же стоял князь Коршун – молод, горяч был князь Коршун, и охотник прекрасный – служил он главным сокольничим у Великого хана. Вот как собирался Великий хан на охоту – а был он Великий гуманист, религии придерживался джайнистской и запрещал убивать всякую тварь животную на потеху – и летел тогда князь Коршун, и пикировал камнем, и приносил хозяину добычу самую что ни на есть вегетарианскую: то травинку, то былинку, а то и целый желудо́к на веточке. По другую руку Великого хана стоял князь Тифлисский, которого придворные живописцы изображали шестируким, как Шиву38: одной рукой князь ваял, другой – лепил, третьей – живописал, четвёртой – строил, пятой – чертил, шестой – поддерживал Великого хана во всех его начинаниях.
Обрадовался Великий хан Аркашиному приходу и стал его угощать айраном да кумысом: не потреблял Великий хан спиртного. И вслед за Великим ханом все князья заулыбались Аркаше и потянулись за угощением: что Великий хан любил, то и князьям было по сердцу. И все князья старались попасть в объектив телекамер как можно ближе к Великому хану, ибо считалось, что чем ближе князь окажется к Великому хану на телекартинке, тем преданнее он служит Великому хану, и тем больше ценит его Великий хан.
И Аркаша обрадовался Великому хану: у Великого хана всегда было припасено для великого Аркаши что-нибудь вкусненькое.
– Квамос Россией прирастать будет, – задумчиво сообщил Великий хан Аркаше.
Аркаша, обпившийся айрана, в ответ задумчиво икнул. А задуматься ему было от чего: поздравленный с женитьбой самим народом во всём его многообразии, он более всего был покороблен тем, что его поздравили далеко не все слуги этого самого народа. «Почему же, – нахмурившись, думал Аркаша, – народ нашёл время меня поздравить, а его слуги не нашли? Или их перегрузили работой по дому?»
– Ладно, – сказал Аркаша Великому хану, донеся до него, наконец, свою глубокую мысль и получив в ответ благодарный взгляд, который значил больше, чем любые слова, – пойду я. Может меня там, дома, уже президент какой-нибудь с подарком дожидается, а я здесь сижу, прохлаждаюсь.
– Здравствуйте, киска, – сказал я, проснувшись.
Пристипома ответила на приветствие и приготовилась продолжать свою грустную сагу, я же приготовился со вниманием слушать.
– Двоюродный муж мой был майором иностранных дел, – нараспев произнесла Пристипома.
Я вздрогнул. Какая-то гадина зашевелилась в моей памяти. Я рыгнул. Гадина затихла.
– Майорство давалось ему не без труда, – продолжила Пристипома, – дела же иностранцев служили ему единственною отрадой.
Дрожь пробежала по моему телу – от белых свадебных тапочек до бантика на макушке. Я больше не слушал Пристипому. Я знал, что она скажет дальше. Пусть врёт – я мог только восхищаться её подлостью и низостью её тлетворной морали, густыми разнузданными пучками вылезавшей у неё из-под мышек. «В кого? В кого она такая?!» – мысленно восклицал я.
Из слуг народа успели отметиться с поздравлениями Аркаши и Ганги, в частности, генерал Птичка и маршал Маркашов.
– Поздравляю женитьбой, – сказал шёпотом генерал Птичка, войдя к молодожёнам строевым шагом.
Ганга грохнулась в обморок, но, к счастью, Аркаша успел подхватить её аппетитное тело.
– Блин! – возмутился Аркаша, у которого заложило уши от генеральского шёпота. – Я ведь тоже умею так шептать!
Ганга пришла в себя и приготовилась оценить Аркашино мастерство.
– Чашки, смирно! – рявкнул Аркаша так, что задребезжали чешские фарфоровые чашки, подаренные кем-то на свадьбу.
Птичка довольно рассмеялся:
– Аркаша, в ротные я бы вас взял.
– А я б завхозом к вам пошёл! – гаркнул Аркаша. – Пусть меня научат!
– Ах, Аркаша, разве есть на свете такое, чего вы ещё не знаете или не умеете? – повторил Птичка чей-то давно уже растиражированный прессой банальный вопрос.
Аркаша грустно вздохнул: Птичка, не целясь, попал в яблочко.
Маршал Маркашов имел нетрадиционную, патриотическую ориентацию, за что подвергался нечеловеческим гонениям, как иудей во времена Филиппа Второго39. Но и его принял Аркаша с поздравлениями, и его подёргал кокетливо за усы, и ему позволил пощупать Гангину коленку.
Оба военачальника подарили молодожёнам по бутылке водки и Уставу внутренней службы вооружённых сил РФ.
К остальным слугам народа Аркаша собирался было отправиться за поздравлениями и подарками сам, прихватив с собой Гангу, но передумал: чтобы поздравить молодожёнов, просто поговорить по душам, посоветоваться с Аркашей, в Квамос засобирался сам президент Книлтон.
«Чем не слуга народа, хоть и не нашего? Вот и поздравит за всех разом, и нечего дёргаться», – решил Аркаша.
Накануне исторического визита публике было явлено полотно известного квамосского живописца, или живопийцы, как называл его Аркаша, под названием «Аркаша предупреждает Блина Книлтона о недопустимости дальнейших бомбардировок Сокова». Аркаша отдал живопийце должное: тот обладал недюжинным художественно-политическим чутьём.
Да, моё майорство не доставляло мне тогда особых радостей, хотя и не причиняло излишних хлопот.
«Господи, а не помог бы ты Глюковке дослужиться до президента?» – мечтал я тогда.
Президент встретил меня вопросом: «Майором каких дел вы хотели бы стать?»
– Можно спросить и по-другому, – добавил Президент, заметив, что я не особо расположен к беседе. – Кем иностранных дел вы хотели бы быть?
– Ваше Высокоблагопревосходительство товарищ президент! – отвечал ему тогда я. – Всё, чего я хочу – это быть президентом.
Президент ласково потрепал меня за бантик, маскировавший Глюковкину лысину.
– Успеешь, дочка, – сказала эта зануда, – всему своё время. Каждый станет президентом в прописанный ему доктором срок.
«Убью тебя сейчас и займу твоё место – и будешь знать», – подумал я, но сказал другое:
– Но мне невтерпёж! Промедление невыносимо! Я хочу сегодня же появиться в телевизорах на фоне государственного флага.
– Сиё не можно – Богородица не велит! – прогнусавил Президент.
– Тьфу, – харкнул я, но промахнулся и согласился на майора иностранных дел.
Майорство моё было недолгим. Вскоре я был переведён в старшие майоры, затем в надмайоры, затем – в старшие надмайоры. Изредка в речах моих теперь проскальзывала иностранность.
Дела же иностранцев служили мне чуть ли не единственною отрадой в моей одинокой жизни. Я отвечал за отношения с Басутостаном. Отношения были хорошими, но я всё равно продолжал неустанно крепить их. При мне отношения из относительных сделались абсолютными. Благодарные басутостанцы присылали мне мёд, сурьму и роскошных коричневых женщин. Я надкусывал подарки и в таком надпробованном виде передавал басутостанскому послу.
– Товарищ майор (надмайор, старший надмайор)! – взволнованно и торжественно докладывал посол, прикладывая руку к моему бантику. – Посол Басутостана по вашему приказанию прибыл!
– Вольно! – командовал я.
Посол тут же расслаблялся и, поминутно кланяясь, принимал мои угощения к докусыванию и долизыванию.
Этим, собственно, мой вклад в иностранные дела и ограничивался.
Но самой пронзительной радостью всё это тревожное время были для меня сношения с двоюродной женой. Двоюродная жена в отличие от родной, которой у меня никогда не было, служила для исполнения магических обрядов, сохранившихся в нашем племени с идолопоклоннических ещё времён.
Звалась она тогда Постипримой – именем, широко распространённым в те годы на просторах от Босфора до Дарданелл. В свободное от майорства время я подрабатывал знатным бахчеводом, а Постиприма – знатным свекловодом, и тоже в свободное – от написания на меня кляуз – время. Языческая сила наших обрядов позволяла нам обоим претендовать на звание Героя сельскохозяйственного труда, но присвоить его могли лишь одному из нас.
Ночами мы раздевались до сапог и выбегали в поле. Я схватывал Постиприму за вымя, она же меня – за рог; в таком вот интересном положении боковым галопом в ужасающем молчании мы обскакивали сельхозугодья, оплодотворяя их моим семенем, и пыль из-под наших сапог розовой пеленой заслоняла нас от луны, а луну – от нашего блуда.
Чета Книлтонов была принята Аркашей в его загородном именьице. Пока Книлтонов вводили и показывали им, где оставлять подарки, Аркаша пел, Ганга плясала под его пение.
Аркаша отпел запланированное и стал жалобно кричать и засовывать пальцы в рот.
– Это он так есть просит, – пояснила Книлтонам Ганга.
Подали обед. Аркаша молча поел. Его кальсоны были безупречны.
– Ну, здравствуй, Блин, – сказал, наконец, Аркаша сурово, но не без приветливости. – Знакомься: это жена моя, Ганга. И ты, Хайлари, можешь здравствовать и знакомиться.
Ганга сделала реверанс.
– Здравствуйте, Аркаша и Ганга! – хором прокричали Байл и жена его Хайлари.
– Уайлька, ты это не того, не балуй! – строго сказал Аркаша, погрозив Байлу пальцем.
Байл пристыженно поковырялся в носу: в мире была широко известна и не менее широко популярна позиция Аркаши по Соковскому вопросу. «Вы позабыли глюковское слово! – грозно писал Аркаша как по этому поводу, так и по любому другому, мало-мальски похожему. – Вы разучились Глюкова читать!»
Выговорив Байлу за Соково, Аркаша успокоился: он выполнил долг перед Родиной. Долго гневаться на Байла он не мог: Байл ему нравился – и как слуга (народа), и как мужчина.
– Если бы у меня был сын, я бы хотел, чтобы он походил на вас, Байл, – поведал Аркаша, смахнув скупую слезу.
– У меня тоже нет сына, – поведал, в свою очередь, Байл, едва сдерживая рыдания, – но у меня есть народ, и я хочу, чтоб он был хоть немного похож на вас, о, Аркаша!
Аркаша лишь тяжело вздохнул.
– Ах, Хайлари, Хайлари! – перевёл Аркаша разговор с детей на женщин. – Почему же, когда проводился конкурс на право стать моей невестой, вы в нём не участвовали?
– Я хотела, но … я была уже замужем, – с грустным смешком отвечала Хайлари.
– Но ведь конкурс был открыт и для замужних женщин, – напомнил Аркаша.
– Мы всерьёз размышляли на семейном Совете, – вступился за жену Байл. – Я был за участие Хайлари, я предлагал ей таким образом испытать себя в претендентской гонке. Селчи, наша дочь, тоже предлагала рискнуть. Но Хайлари сочла себя недостаточно совершенной.
– Вот страна советов, – проворчал Аркаша, незаметно погладив Гангу по коленке. – А жалко, ведь другого конкурса уже не будет.
Байл и Хайлари обменялись сокрушёнными взглядами. Аркаша назидательно покачал головой.
– Впрочем, я знаю, как вас утешить! – после недолгого размышления радостно объявил он. – Мы проведём ещё один конкурс – на должность моей любовницы. И в этом конкурсе ограничений уже точно не будет. Участвуют все!
– Ура! – закричали хором Хайлари, Байл и Аркаша.
Только Ганга не закричала «Ура!»
… сквозь розово-лунную пелену воспоминаний ко мне пробился голос Пристипомы:
– … в ужасающем молчании мы обскакивали сельхозугодья, оплодотворяя их его семенем, и пыль из-под наших копыт розовой пеленой заслоняла нас от луны, а луну – от нашего блуда.
– Довольно! – крикнул я. – Узнала ль ты меня, неверная моя подруга?
– Ну как вас не узнать! – криво усмехнулась Пристипома. – Я ведь неотрывно следила за тобой все эти годы, и ни одно твоё движенье, ни одно твоё словцо, ни одна твоя так называемая мысль не посмели бы от меня укрыться.
– Довольно! – крикнул я. – Я раскусил тебя! Все твои басни про Самогрызбаши – всего лишь басни, исполненные без выражения. Так на кого ты работаешь?
– Ты угадал, я – резидент альфа-центаврской разведки. Моя задача – завербовать тебя в ханты-пермяцкую кавалерию, и-го-го! Завербовать – или уничтожить. С первым не получилось, зато удалось второе. Ты вдоль и поперёк отравлен медленнодействующим ядом и растворишься через две тысячи сто сорок восемь часов.
– Ах ты, подлая! – вскричал я. – Умри ж, предательница! – и я выхватил своё ужасное орудие – могучий член (спасибо, Господи, что одарил такой вот дубиной!), квинтэссенцию моего гнева – с тем, чтобы парой ударов покончить с гадиной навсегда.
Но Пристипома не только не испугалась, но даже обрадовалась уготовленной ей экзекуции.
– Руби меня! – воскликнула она, склоняя преступную главу на плаху своих колен. – Я имею страховой полис компании «Каско да Гамма»!
– Я вас любил, как Гвельф любил Ромео, а Гибеллин40 Офелию любил, – сказал я молча и вышел вон.
Зато когда Книлтоны, наконец, откланялись, Ганга буквально налетела на мужа.
– Ганга, ты ли это? – едва успел прохрипеть Аркаша. – Ладно, давай, подлей-ка масла в огонёк моих забродивших страстей.
– О, милый, как ты велик и прекрасен, – стенала Ганга, загнав Аркашу прямо на его рабочий стол. – Член твой – словно башня Останкинская, обращённая к звёздам. Грудь твоя – как сад, густой и тенистый, есть в этом саду и цветы, и травы, и кусты, и древа плодоносящие. Ноги твои крепки и стройны, словно мост между прошлым и будущим. Ягодицы твои упруги и гладки как нектарин и так же сочатся нектаром.
– Ещё, ещё говори! – требовал Аркаша.
– Скажи же и ты мне что-нибудь, милый, – попросила, наконец, Ганга. – Скажи мне обо мне – пусть неприятную, пусть страшную – но правду.
– Ганга, моя навек, моё, моё, всё это моё, всё это буйство плоти, пиршество для рук и глаза – моё! – высказал Аркаша всю правду, как он её понимал. – Ну как, тебе понравилось?
– Да, мне понравилось, – ответила Ганга, – потому что это – правда.
И в самом деле всё, что говорил или писал когда-либо Аркаша, было правдой, только правдой и ничем, кроме правды.
Так и жили они, и жили красиво.
Пошлёт ли нам Господь нечаянную встречу?
4. Сентябрьские иды
Аркаша гордился своими стройными ножками, которые свешивались из гамака, который был натянут меж дубов, которые росли на берегу, который омывал Альбис41, к которому приближалось войско, которое возглавлял Тиберий Клавдий Нерон42.
Шёл 746-й год от основания Рима43, год встречи на Альбисе.
– Тпру-у, стой, служивые! – весело крикнул Аркаша из своего гамака.
– Аркаша, ты уже здесь? Ты что, крылат? – от удивления немногословный Тиберий разразился целой тирадой.
«Нелёгкое это дело – быть вундеркиндом земли римской, – подумал Аркаша. – Тут нужно быть не столько крылатым, сколько очень и очень зубастым».
– Наоборот! – крикнул Аркаша. – Вовсе бескрыл, аки гад ползучий.
Подумав одно и крикнув другое, Аркаша соскочил на землю и пополз к Тиберию, по-черепашьи втянув голову в воротник и потешно загребая конечностями, как гад ползучий. Переползая через недопотухшее кострище, он не смог отказать себе в удовольствии посыпать голову ещё дымящимся пеплом.
По-звериному остро почуяв исполинский масштаб ползущего к ней Аркаши, белая кобыла Тиберия взбрыкнула и попятилась, ломая походный строй римского войска.
– Клавдий, куда ты? Нерон, подожди говнюка, не заставляй меня ползти на брюхе до Рима! – воззвал Аркаша, в отчаянии всплеснув пепельно-серыми ручонками.
– Аркадий, брат, поднимись, не вынуждай меня ползти рядом с тобой! – крикнул Тиберий, предпенсионного вида крупный папик с толстыми хомячьими щеками и остреньким подбородком.
– О, дозволь, дозволь, дозволь облобызать твою сиятельную ногу! – завывал Аркаша, которому всё-таки удалось подползти почти под копыта гарцующей лошади.



