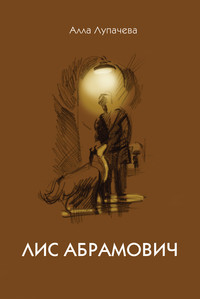Полная версия
Закон парных случаев
Маша, действительно, звонила каждый день. Голосок у нее был какой-то невеселый, даже растерянный, и никакой радости в нем Анна Савельевна не уловила. Вначале она списывала это на усталость, плохой сон, просто на испуг от постоянного присутствия рядом мужчины и отсутствия рядом мамы (это было понятно). Но уже через неделю она почувствовала, что Маша по горло сыта своей самостоятельной жизнью в чужой квартире.
Во-первых, соседи по квартире сразу продемонстрировали ей явное недовольство, что вместо одинокой старушки, появилась, пусть временно, молодая пара, которая вдруг еще надумает завести ребенка. Что им ответить, как с ними вести себя, Маша не знала. Чувствуя нерасположение соседей, она пыталась понять причину, не понимая – расстраивалась, но научиться игнорировать их недоброжелательные взгляды и ворчание у нее не получалось. Так что большей частью, когда не надо было бежать в институт, она сидела в чужой неуютной комнате и пыталась читать. Потом оказывалось, что не хватает какой-то книжки, нет под рукой какого-то словаря.
Во-вторых, как в любой коммуналке, молодым сразу в жестких тонах был предложен один день, чтобы помыться в ванной, одна конфорка для приготовления еды, определенный день и число недель для уборки «мест общественного пользования». С этим Маша смирилась бы. В их квартире были такие же порядки. Но здесь все было чужое. Ступить в пожелтевшую от времени ванну с разбитым, полуобвалившимся кафелем на стенах, чтобы принять душ, Маша брезговала. Кстати, воды горячей не было, колонки она боялась, так что мыться приходилось холодной водой и «частями».
В-третьих, ни к новому району, ни к его магазинам быстро приспособиться Маша не могла. Большого гастронома, чтобы сэкономить время, заняв сразу две-три очереди в разные отделы, поблизости не было. Так что хождение по магазинам отнимало часы. Нормального холодильника тоже не было. Вернее, был полутруп старого холодильника «Газоаппарат», но держать его включенным все время было просто опасно. Чтобы охладить свое нутро, он начинал грохотать как трактор, издавая запах горелой изоляции. Это было похоже на агонию умирающего железного существа. Если бы это было только днем! А каково просыпаться десять раз за ночь от звука тяжелого удара по металлу – ну заработай же, развалина чертова, или уж сдохни! Одно это могло довести до сумасшествия. Но жаловаться маме на все эти «мелочи быта» Маше не хотелось – кое-кому из ее подружек и такие условия могли показаться райскими.
Но самое главное, никакой страсти в ней не проснулось, любовь не состоялась, а спать вдвоем на чужой кровати оказалось и неудобно, и неуютно. И самое неприятное, еще не вполне осознанное, что никакого желания быть даже просто женой она тоже не испытывала. Про любовь они, конечно, знали. Но все больше про романтическую – Беатриче, Ассоль, графиня Шеина. Ну, была еще Песнь песней… Но что-то, возможно самое важное для создания семьи, она так и не поняла. Да и все они из Толстого запомнили только, что все счастливые семьи счастливы одинаково, а несчастные – каждая по-своему, что «запретная любовь» может довести до самоубийства. Что бывает любовь-самоотречение, любовь-страдание, и страсть, которая может свести с ума. Но в целом, никакой честной информации, никаких подсказок-рецептов, как стать счастливым, не было, и никаких гарантий тоже! Совсем по Козьме Пруткову – «Хочешь быть счастливым – будь им!» У более везучих перед глазами был пример их родителей, но и тут секреты семейной жизни оставались, по большей части, секретами. Маше, конечно, говорили о взаимном уважении между супругами, немного – об обязанностях, вернее, о распределении домашних дел. «Каким бы ты хотела видеть своего мужа – стоящим в переднике на кухне у плиты или занимающимся наукой? Но если ты не дашь ему возможности поработать дома… Или он будет постоянно вмешиваться в твои кухонные дела – тоже плохо. Вот и выбирай!»
Маша выбрала «науку». Но все же оставалось еще что-то очень важное, но недосказанное, тайное, что было для нее «наукой за семью замками», до чего ей придется доходить самой и дорогой ценой.
Уже через две недели Маше больше всего хотелось обратно к маме, и она запросилась домой.
А тут еще и свекровь на Анну Савельевну надавила – зачем дочь от себя гонишь? Есть две прекрасные комнаты, обстановка знакомая, все магазины рядом, зачем же тратить деньги попусту? Анна Савельевна сдалась. Ладно, решила она, попробуем вместе, а там – увидим. Пусть еще недельку потерпят, может, притрутся, а там через неделю свадьба, после нее на неделю-две съездят в гости к родителям Андрея. Благо, те живут где-то у моря, будет у ребят возможность позагорать, покупаться, приладиться друг у другу на воле. А там снова вернемся к идее самостоятельной жизни.
Поэтому от снятой комнаты Анна Савельевна решила пока не отказываться. Хотя ей и жалко было дочь, она продолжала настаивать, что молодые должны жить отдельно. Своего опыта было достаточно.
Погружать Машу «до поры» в сложности домашней дипломатии она тоже не хотела. Все думала, что рановато. Вот и попала в собственный капкан.
Планировать жизнь, по существу, никто из молодых не умел. Ни в школе, ни дома этому не учили. В семье Андрея, как во всех бедных семьях, где всегда еле-еле дотягивали до получки, «копеечку на черный день» все же откладывали. По настоянию мужа Анна Савельевна неоднократно пыталась завести домашнюю бухгалтерию. Но к концу месяца всегда оказывалось, что записывай – не записывай, непредвиденных, но обязательных, по ее мнению, расходов было чуть больше, чем даже предполагалось.
Кроме регулярной помощи двум бабушкам, появлялись совершенно неожиданные внеплановые расходы. То надо было послать деньги в Ригу, какой-то дальней родственнице на остродефицитное лекарство. «Мой папа (Машин дедушка) очень любил свою троюродную сестру». То тете Мане: «Она же подбрасывала тебе (то есть Машиному папе) по пятерке, когда ты был голодным студентом?». То ее подруге, Верочке – зимнего пальто у нее не было, а тут вдруг подвернулась кроличья шубка, не новая, но симпатичная и вовсе недорого. А денег все равно не хватает. «Она сможет вернуть через месяц-полтора. Но мы же с голоду не умираем!». В конце концов, вести бухгалтерскую тетрадь Анне Савельевне надоело. «Как видишь, ни одной копейки из зарплаты на себя я не потратила», – сказала она, предложив мужу самому делать эту работу. На этом разговоры о необходимости экономить, откладывать хоть что-то на сберкнижку, на «черный день», закончились. «Будет черный день – пойду убирать подъезд. Во всяком случае, на лестнице чисто будет».
Времени на бухгалтерию у Лёни тоже никогда не было. Корочки сберкнижки так и остались только «корочками».
Иногда Анна Савельевна думала о преимуществах воспитания детей в деревне. Вся жизнь там на виду, все просто и понятно, по Бернсу – «жена, корова и доход». Хотя там сейчас не «доход», а нищета пьяная, беспробудная. Но зато молодые всему учились с детства. Что-то с родительских рук, что-то «вприглядку», что было иногда излишне грубо, но зато – естественно и проще. Как в семье жениха принято, так и жить будут. А вот идти в дом тестя с тещей, в народе всегда было позором. На это были обречены совсем бедные или «пришлые», из чужой деревни парни, которым некуда было деться. Вероятно, именно поэтому Андрей, не будучи ни в коей мере деревенским парнем, выглядеть таким «примаком» в чужих глазах категорически не хотел.
Маясь в чужой квартире и возвращаясь мыслями к своей семье, Андрей пытался набраться мужества и рассказать Маше всю правду, но, видя ее настроение, не решался даже рот открыть. Не собираясь ничего скрывать, он сам терзался этой недоговоренностью, но все же, как мог, старался оттянуть разговор. Он не хотел, вернее, безумно боялся отпугнуть Машу. Уж если ей так плохо здесь, в этой, такой приличной комнате со столом под скатертью и цветами на окне? Теперь он уже мучился сомнениями, стоит ли ему «тащить» Машу в свою семью, в их дом. Да, он не хотел пугать, хотя был искренне уверен, что никто не может помешать их счастью. А вдруг? Ему хотелось встать перед Машей на колени: «Верь мне Маша, я молю тебя!» Но отказаться от своей семьи он не мог, не имел права. Он отвечал за них.
И зачем он не рассказал Маше всю правду с самого начала? А если бы Маша все-таки испугалась? Или хуже – ее отговорили бы родители? Начали бы объяснять, что «яблочко от яблони…» А он – другой, другой, совсем другой, «выродок» из своей семьи! Пусть только Маша верит в него! Он же чужой в собственной семье! Маша любит его, она должна понять! Ему без нее не жить – он однолюб! Он и линии на руках своих показывал – у него на обеих ладонях только буква Л. Он сравнивал – у всех или Мили Ж. Но такой, как у него, ни у кого не видел.
Наверное, это был бы не самый сильный аргумент. Маша только посмеется… Но как еще доказать ей, что это правда?
Мысли его топтались на месте. Больше ни о чем он думать не мог. Он начал понимать, как они поторопились. Хотя бы еще годочек. Если бы вернуться на две недели назад! Он готов ждать Машу всю жизнь, но будет ли ждать она?
Голова его шла кругом. Иногда хотелось изо-всех сил стукнуться головой об стенку, чтобы как-то остановить этот поток мучительных терзаний. Надо подождать. Осталось совсем немного, он скоро закончит институт. Он будет работать хоть на трех работах. Тогда он сможет помогать и своим несчастным.
Однако, представить себе дату, «когда же», наконец, придет это желанное «тогда», он не мог.
Глава 6
Белые парусиновые туфельки
Анна Савельевна посмотрела на календарь – до свадьбы оставалась всего неделя, а платье для Маши было еще не готово. Хотела в ателье платье заказать, но за такой срок никто шить не берется. А если возьмутся, а потом испортят, как с Машиным зимним пальто? Новый материал не сразу достанешь, и выхода не будет… Значит, надо шить самой. Решено. Она достанет батистовую прошву. Свекровь потихоньку сострочит, у нее машинка «оверлок» есть. Это, конечно, секрет. Держать дома такие машинки не разрешается, даже если ей сто лет в обед. Держать можно, а вот шить на ней нельзя. Ведь на ней деньги можно зарабатывать – швы обметывать, кружева сшивать! Значит, машина – «коммерческая», а всякая подработка – подпольный бизнес. Как минимум, штраф. И машинку конфискуют. А что им? Жалко, чтобы старухи с их нищенской пенсией лишнюю копейку себе заработали? Бред, но что поделаешь.
Итак, с платьем решено. Туфли, туфли…туфли.
Если не наткнуться случайно… За такой короткий срок купить что-то приличное невозможно. Да еще размер ноги – как у Золушки. Где достать? Если бегать по магазинам, ничего другого не успеть. Ведь и на работу являться надо. Хоть у неба проси. У кого из наших в обувном есть знакомства? Надо бы поспрашивать.
Что еще? Продукты она еще докупит, поговорит с заведующим, событие все-таки. А в овощном ей уже пообещали оставить ящик клубники. Сверху она положит белые тюльпаны – получится замечательное украшение стола. Но как с туфельками?
Неожиданно для себя, на какой-то окраине, Анна Савельевна умудрилась найти туфельки. Как раз такие, как она хотела. Не кожаные, те тяжелее, а легчайшие белые парусиновые, как раньше говорили, «прюнелевые» лодочки. Именно такие туфельки как нельзя лучше подходили к задуманному платью. Кружевное батистовое платье и эти беленькие невесомые лодочки – все точно совпадало с ее представлением о Машином свадебном наряде! Никаких бус, никаких украшений. Именно так должна выглядеть ее дочь в день свадьбы – легкое, воздушное существо, эльф, приземлившийся на цветке прекрасный мотылек.
Как только платье было готово, Анна Савельевна составила свой список гостей и предложила Маше составить их собственный. Маша смутилась.
– Мам, я же говорила, что Андрей не хочет никакой свадьбы! – Но Анна Савельевна настаивала.
– А ты? Разве тебе не хотелось бы пригласить кого-нибудь из твоих друзей?
По лицу Маши пробежала легкая тень раздражения.
– Ну, мам! У нас с Андреем вообще разные друзья. И мешать их сейчас не время, тем более с родными. Или все они, или родные. Вам с папой важнее родные. Но вы ведь не спрашивали у меня, кого из ваших друзей пригласить? Приглашайте, кого хотите, а я позову только одну подружку. Нам вообще эта свадьба ни к чему.
Анна Савельевна расстроилась. Нет, она вовсе не считала свою дочь «неблагодарным человеком», просто было в ее ответе что-то настораживающее. Только ли девичья скромность, нежелающая выставлять напоказ свои чувства, или что-то другое, подспудное? Тревога, что ли.
В день свадьбы в большой полупустой квартире сестры Анны Савельевны были расставлены столы, накрытые белоснежными льняными скатертями, подаренными свекровью. Их, наверное, уже сто лет, никто не доставал из своих сундуков. Свекровь напекла множество своих необыкновенных фирменных пирогов и пирожков, для которых за два дня начинала готовить «венское тесто» по особому рецепту.
Принаряженные гости прибывали засветло, нагруженные не столько подарками, сколько любопытными взглядами. Они почему-то все внимательно смотрели на Машино лицо, будто за месяц, прошедший с последней семейной встречи у бабушкиного брата в Покровском-Стрешневе, она могла сильно измениться. Маше это было неприятно и даже противно. Ей казалось, что по-стариковски любопытные тетушки и бабушки искали следы – уж не беременна ли невеста. Иначе – почему все неожиданно? Машу это смущало, даже оскорбляло, и ей очень хотелось, чтобы вся эта дурацкая свадьба поскорее закончилась.
Как и принято на свадьбе, выпив положенные тосты за жениха и невесту, за родителей, за «погоду», уже притомившиеся от еды и питья гости стали обмениваться своими личными новостями и впечатлениями. И тут Андрей, не столько, чтобы привлечь к себе внимание, сколько, вероятно, от обиды, что посвященное им торжество начинает превращаться в обыкновенный праздничный обед, попросил разрешения произнести тост. Все одновременно радостно закричали в знак одобрения. Тогда он присел, снял с Машиной ноги туфельку, налил в нее шампанского и, произнеся всего четыре слова – «За мою прекрасную жену!», выпил стоя. Маша не ожидала такого «экспромта» и очень смутилась. Все стали кричать: «Горько, горько», и Андрей неловко поцеловал ее. А вслед за этим тостом вдруг раздался глубокий, бархатный бас папиного лучшего друга, немногословного дипломата высокого ранга. Отец почему-то называл его Жозя или просто Джо.
– Браво! С удовольствием присоединяюсь! Превосходный гусарский тост! Честно говоря, давно не слышал ничего подобного. Но хорошо бы, чтобы в конце застолья не последовало стрельбы из пистолетов!
Ничего не поняв из его слов, Маша окончательно расстроилась. Зачем это дурацкое добавление к тосту? Но ни в тот день, ни потом она так и не решится спросить этого хмурого, много знающего и всегда молчаливого аристократа, что же он хотел сказать в тот вечер. Маше этот человек всегда казался каким-то загадочным. Высокий, интересный мужчина, «с положением», достигший, казалось бы, почти недосягаемой высоты в дипломатической карьере, всегда выглядел очень усталым, даже обремененным какой-то страшной тайной. Это очень старило его. Доброе, интеллигентное лицо его было всегда иронично-грустно, а в больших бархатных глазах пряталась какая-то неизбывная тоска и сознание какой-то обреченности. Такое лицо, как потом узнала Маша, бывает у больных раком людей, смирившихся с неизбежным. Но он был совершенно здоров.
Казалось, что Джо сам бы непрочь избавиться от какой-то тяжести на душе, но ни мама, ни отец, всегда старавшийся его растормошить, развлечь, сделать этого не могли. Когда Маша была маленькая, ей всегда хотелось залезть к нему на колени, прижаться к нему и пальчиком разгладить глубокие морщины. При всей его замкнутости, от него шло какое-то тепло и доброта. Джо ей улыбался, но Маша не помнила его ни хохочущим, ни просто беспечно смеющимся. Было впечатление, что его постоянно беспокоит какая-то мысль. Точит как мигрень или зубная боль.
Когда отец, постоянно погруженный в вопросы политики, которая была его любимой и болезненной темой, задавал другу серьезный вопрос, тот обычно как-то кисло улыбался и часто отвечал: «Не спрашивай, Лёнечка. Тебе не стоит этого знать». Маша очень обижалась на него за папу. «Папа для него «маленький», что ли? Ведь они же близкие друзья со школы и хорошо знают друг друга. Неужели он не доверяет даже такому близкому человеку? Или Джо знает что-то такое, секретное и опасное, что опасается любой «утечки» информации, которая, подобно радиации, может угрожать жизни окружающих.
Разгадку этой тайны Маша найдет лишь полсотни лет спустя в интернете, когда многое из тех знаний потеряло остроту, и уже никого не могло убить ни в буквальном, ни в переносном смысле. Но поделиться своими открытиями с отцом уже тоже не могла. Он умер двадцатью годами раньше. Хотя кто знает, может быть, и отец был в курсе, но молчал. В любом случае «многия знания – лишния скорби».
После свадьбы на душе у Маши стало еще тоскливее. Прав был Андрей. Ни к чему это было. Утешала мысль, что через пару дней они отправятся в «свадебное путешествие», знакомиться с его родителями. Конечно, Маша тоже нервничала. Разумней было бы познакомиться с семьей Андрея заранее, но раз уж так случилось… Почему-то она была глубоко уверена, что готова и сможет принять любую семью, бедную, несчастную – тем более, подружиться с его сестрой, почти ровесницей.
Конечно, она боялась этой поездки, вернее, чувствовала непонятную внутреннюю скованность. Может быть, это был страх встречи с неизвестным, но подумать, что она может не понравиться, не могла. Хорошая девочка! До этого дня все вокруг любили ее, и в семье, и в школе, и в институте, и родители ее подружек. Врагов у нее не было и нет. Неудачливые поклонники быстро найдут ей замену. А друзья не бросят. Не надо волноваться. Она должна «им» понравиться.
Через пару дней с двумя чемоданами, один из которых был отдан небольшим подаркам для семьи Андрея, они сели в поезд, который вовсе не «мчал», а скорее тащил их навстречу новой жизни, притормаживая по дороге у «каждого дорожного столба».
Когда поезд, наконец, остановился, к двери их вагона подошел немолодой мужчина среднего роста, в черной морской форме, только более новой, чем у Андрея.
– Ну, здравствуй, сын. И вам здравствуйте. Познакомимся. Добро пожаловать в гости.
Маша опешила и с удивлением посмотрела на Андрея. Сын? Он же сказал, что у него «нет отца»! Или она ослышалась? Может быть, это его неродной отец? Но спрашивать не решилась.
От вокзала они ехали на автобусе, пока со стороны гор за высоченными платанами не показались красивые желтые корпуса.
– Приехали, – сказал отец и первым спустился по ступенькам.
Маше показалось, что мужчина собирается идти в сторону домов, но Андрей осторожно взял ее за руку: «Не туда. Сюда», и потянул на другую сторону улицы, к какому-то обшарпанному двухэтажному бараку неподалеку от остановки. Маша спокойно пошла за мужчинами, ожидая, наконец, увидеть дом, где ей предстоит прожить лучшую неделю «медового месяца».
Если раньше ей казалось, что она готова следовать за Андреем куда угодно, то все происшедшее с момента приезда покачнуло ее уверенность. События развивались так стремительно, что Маша почувствовала себя героиней жутковатого фильма. Но даже в дурном сне она не могла представить ничего подобного. По прошествии стольких лет она все еще не понимает, как пережила, вытерпела кошмарные восемь дней. Вроде бы так давно все было, что должно бы и «быльем порасти», из головы выветриться, но до сих пор так пугающе живо.
Маша рефлекторно передернула плечами, озноб пробежал по всему телу. Ей снова стало страшно. Вероятно, у каждого человека бывают в жизни моменты, которые врастают, въедаются в память, в душу, как металл в руки токаря, как угольная пыль в легкие шахтера, как само ожидание боли в кресле дантиста, когда-то задевшего живой нерв. Так застрявшее в теле инородное тело, вовремя не отторгнутое организмом, постоянно напоминает о себе болью или физическим неудобством.
О событиях тех дней Маша, конечно же, никогда никому не рассказывала, даже матери. Она понимала, что для нее это может оказаться смертельным ударом и что родители сделают все, чтобы немедленно увезти ее хоть на край земли, спрятать, оградить от малейшей возможности контакта с семьей Андрея.
Из полутемного подъезда деревянная лестница вела на второй этаж. Пройдя примерно половину коридора, освещенного тусклой лампочкой, все трое вошли в комнату. На небе еще сияло предзакатное солнце, но из-за деревьев, растущих вдоль дороги и гор за ними, в комнате было совсем темно. Полуслепые от яркого южного солнца глаза еще не вполне привыкли к темноте, и Маша не сразу поняла, где она.
Спустя минуту она увидела, что стоит в почти пустой комнате, всю мебель которой составляли простой деревянный стол со стульями, солдатская железная кровать и небольшой двухстворчатый шкаф с покосившейся дверцей. Стиранная-перестиранная тысячу раз скатерть в клетку, простое, тоже солдатское, одеяло на кровати – вот и все убранство комнаты. Дощатый пол скрипел и «ходил» под ногами. Краска на стенах потрескалась вместе со штукатуркой, местами вздулась и осыпалась. Ветхозаветный желтый абажур над столом чуть покачивался от легкого ветерка. Она слышала, что в курортных городах «дикарям» сдают каждый угол. Но они же – не «дикари».
Подошла мать Андрея, худая смугловатая женщина с темными любопытными глазами и растерянной улыбкой. Потом появилась сестра Оксана, очень похожая на Андрея, и его младший брат Павлик. Выделялся только Павлик – светловолосый, голубоглазый, белокожий и уже обгоревший на июньском солнце.
– Здравствуй, Маша. Меня зовут Лизавета Андреевна, я – мама Андрея. Милости просим в наш дом. – Первую букву в имени она опустила.
– Ну, привет, «жена», – с какой-то иронией, но вполне доброжелательно проговорила Оксана. – Дай-ка я тебя рассмотрю, – и бесцеремонно потащила ее за руку к окну. – Ничего. Симпатичная. И волосы – красотища. Годится. – И видя Машино смущение, засмеялась.
Маша замерла в недоумении. Оксана ей пока еще не подружка, родственные отношения еще слишком неопределенны, одни «должности». Фамильярность обращения, и то, как ее рассматривали «на свету», Машу смутило. А самое главное – неужели это и есть их дом? А где же спят родители?
Когда глаза совсем привыкли к полутьме, Маша увидела еще одну дверь, на узкий застекленный балкон-лоджию. Так вот почему в комнате было совсем темно. На балконе помещалась еще одна кровать и две табуретки.
– Это для вас, располагайтесь, – пригласила Машу Елизавета Андреевна.
По правде сказать, Маша не ожидала увидеть барские хоромы, но представить себе такую убогую, беспросветную нищету все-таки не могла. Она вдруг испытала неведомый до того стыд, что в Москве у них пусть не отдельная квартира, но две хорошие светлые комнаты и приличная мебель. Свое благополучие вдруг встало в ее горле невольным упреком. Но за что? Родители, тоже когда-то нищие студенты, добились всего только своим трудом, преодолев такие препятствия! И в бедности этой семьи не было никакой вины ее или ее родителей! Тут крылось что-то другое, трагическое и непоправимое.
Больше всего ее испугала вовсе не бедность, а безразличная запущенность комнаты. Словно люди, жившие здесь, вовсе здесь не жили, а пережидали время, когда с ними что-то случится – либо хорошее, либо очень плохое.
В послевоенном Машином классе было много девочек из очень бедных семей. Подружка Верочка жила с приемными родителями в служебной полуподвальной квартирке зубной поликлиники, в которой, совмещая обязанности дворника, истопника и завхоза, работал ее крестный. Но какой чистотой сверкали две полутемные узкие комнатушки метров по восемь каждая, и какое сияние исходило от накрахмаленной скатерти и выбеленных простым мелом стен!
Не забыла Маша и комнату-пенал в бывшем «доме для прислуги» какого-то купца, в которой жила ее другая близкая подружка, Эля. Пять человек – три сестры и их родители, бывшие детдомовцы, на четырнадцати квадратных метрах! В светлой половине жили сестры, а в «темной», за простыней, служившей «перегородкой», обитали родители, «Иван да Марья». У них и кроватей было только три. Но была вокруг такая «благодать», что даже старая русская печка поперек пенала казалась специально задуманной «деталью интерьера». И ничего там не давило на Машину совесть. Мало ли бедных или даже нищих было в конце сороковых и начале пятидесятых? И не у всех были отцы, как у нее или у Андрея.
Когда все представились, и первая неловкость улеглась, Маша с Андреем отнесли свои вещи в отведенную им лоджию и сели за стол. Мать Андрея суетливо расставила на столе тарелки с вилками и небольшие граненые стопки для водки. Перед отцом стоял стакан. Стояла стопка и рядом с тарелкой Павлика, или как его звал Андрей, Павло. Посреди стола королем расположился двухлитровый жбан с какой-то мутнобеловатой жидкостью, вероятно – самогоном. На водку или приличное вино в доме явно не было денег. Была еще бутылка красного вина с незнакомой наклейкой, приготовленная, по-видимому, специально для Маши.