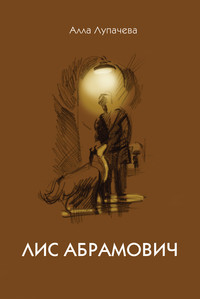Полная версия
Закон парных случаев
Герман долго молчал.
– Я буду тебя ждать. Только скажи честно, сколько лет ждать твоего ответа. Год, два, три? До тридцати? До сорока?
Маша удивилась такому удивительному вопросу…
– Ладно. До тридцати с хвостиком, – игриво выговорила она.
– А сколько это, «с хвостиком»? – голос его погрустнел.
– Надо подумать. (А это уже кокетство!) За вечер огромное спасибо. А то настроение у меня и, правда, отвратительное. Совсем как погода в ноябре. Вообще, мне нужно отдохнуть, о многом передумать, себя понять.
Герман слушал ее молча, не перебивая, не задавая вопросов, казалось, что там, на другом конце телефонного провода никого нет. Означало ли это – «Только не молчи, скажи еще что-нибудь. Только не молчи», Маша не понимала и терпеливо ждала хоть какой-нибудь реакции. Ей самой было в этот момент страшно, и ее молчание означало: «Не обижайся, не клади трубку, просто живи, будь где-то рядом, думай обо мне как старший брат, звони… И мне будет хорошо, что я могу с тобой поговорить».
Сколько минут они молчали?
Маша действительно боялась нечаянно оттолкнуть Германа. Его поддержка была так нужна ей. Поэтому ее тон, ее слова звучали как оправдание, как немая просьба – останься. Поэтому она снова заговорила.
– Я так безумно устала за все эти годы, что, кажется, прошло двадцать лет, а не семь. Да и мама тоже. Надо куда-то поехать, сменить обстановку. Может быть, в Прибалтику или в Крым. Но мы еще не решили. А пока я занята по горло. Буду брать вторые смены, чтобы отгулов побольше накопить. Но звонкам твоим буду рада, а придешь в гости – мы все будем только рады. Тоже что-нибудь испеку, я у бабушки многому научилась. Кстати, если пригласишь в консерваторию – обязательно выберусь.
Все, что она произнесла, было чистой правдой. Ее раны были слишком свежи и болезненны. А потерять Германа-друга ей вовсе не хотелось. Это было бы чересчур.
Узнав о разговоре, Анна Савельевна тоже слегка удивилась. Если сама «будущая свекровь» вызвалась быть свахой, значит, Машу она определенно любит. Да и Маша признавалась, что мама Германа ей нравится. Жаль только, если больше, чем сам Герман.
Она и раньше не могла понять, почему дочь так упрямо говорит «нет», если она спрашивала ее о Германе как о «женихе». Такой славный, порядочный парень и, кажется, любит ее. Какого принца она ждет?
Теперь, после развода, Анна Савельевна будто бы пыталась подсказать Маше, что брак это не только сумасшедшая любовь, что должна быть хоть крупинка разума, рассудка… Что жизнь – это не бассейн о двадцати пяти или даже пятидесяти метрах… И что нужна надежная лодка, чтобы переплыть этот океан тревог, забот, невзгод, потерь… Ей так хотелось, чтобы дочь была по-настоящему счастлива. И почему дети так упрямы? Боже, сколько правильных слов можно произнести вслух, а жизнь все поворачивает по-своему…
И все-таки, первым, кто снова заставил Машу улыбнуться, был Герман. Он вернул ее к жизни. Его внимание было ей дорого и приятно, вроде первых лучей весеннего солнца. Ее глаза отвыкли от яркого света, было необходимо, чтобы кто-то постоянно напоминал ей – скоро будет весна и все будет хорошо.
Герман словно почувствовал это и не отступал. Поняв ее состояние, он продолжал звонить, приглашал то на выставку, то в зал Чайковского, но ей никуда не хотелось идти, ничего не хотелось ни видеть, ни слышать. С тех пор, как она ушла с той несуразной вечеринки, ничего, вроде бы, не изменилось, но Герман, то ли в шутку, то ли всерьез, время от времени продолжал напоминать о названном ею же сроке – «тридцать с хвостиком» и при этом улыбался! Сердце Маши медленно, но все же освобождалось от оцепенения.
Боже, как давно это было. И было ли вообще? Как только она доберется до дома, надо будет обязательно позвонить Герману. Может быть, удастся еще хоть разок увидеться в Москве? К ней он точно не выберется. Заслуженный деятель науки, профессор, бывший проректор по науке, а денег на поездку вдвоем с женой – нет. Профессор! Не Киркоров ведь, не Басков. И не академик. Предлагала – давай, закажу билеты отсюда, категорически отказался. Гордость. И понятно. Маша тоже отказалась бы – не родственник все-таки. Успеть бы увидеться. А то «в мире ином…»
Маша все смотрит на волны и думает, что в эту минуту тысячи кораблей бороздят океаны, и за каждым тянутся клубы дыма, и также далеко разбегаются волны, и кто-то обязательно не спит в такую ночь и тоже вспоминает, вспоминает, вспоминает…
Может быть, не следовало бы всем так торопить события? А вдруг все сложилось бы само собой? Случись тот разговор через полгода-год, после смерти машиной мамы, кто знает, может быть и не отвергла бы она предложение мамы Германа. С отчаяния ли, из страха ли остаться навсегда одинокой, «безмужней». Хотя… Если честно, то Герман никогда и не был «героем ее романа».
Маша снова нашла свой «Южный крест» и попыталась отыскать хотя бы Центавра. Но почему-то не могла найти нужную звезду. Она даже подумала, что хорошо бы завтра спросить у капитана или его помощника – эти наверняка должны знать. Только бы не забыть. Она глубоко вздохнула и снова погрузилась в свои воспоминания. Вот так, наверное, и мама в августе шестьдесят пятого смотрела на безлунное южное небо, что-то вспоминала и думала о случайности встреч и необъяснимых расставаний, о тайне любви, о несбыточности ожиданий и напрасных надежд, о нелепости любой, безвременной или естественной смерти, одинаково неотвратимой для всех живущих.
Если бы они тогда с мамой не поехали в Крым… Если бы не поехали… Или сразу вернулись бы из той проклятой Богом гостиницы. Если бы Герман… Вот если бы все эти «если бы» не спрессовались в один короткий промежуток времени! Безразличный ко всему на свете, ненавистный «союз, соединяющий части сложно-подчиненного предложения», а на деле – разъединяющий и ломающий судьбы. Если бы… Назойливые шесть букв, за которыми оборванная жизнь и несостоявшаяся судьба.
Пересиливая наваливающийся сон, Маша открыла глаза и снова стала вглядываться в сторону горизонта. Медленно проплыл вдалеке еще один невидимый лайнер, подмигивая своими желтыми бисерными огоньками. Она вздохнула, подняла глаза небу, и непрошеное воспоминание рассеялось. Величие небесной красоты приводило в трепет. Кто мы на этой Земле? Зачем нам дано видеть, восторгаться, если потом все это чудо неизбежно и безжалостно будет отнято, как любимая игрушка у расшалившегося ребенка?
Маше вдруг показалось – где-то совсем близко стоит мама и, касаясь ее плеча рукой, говорит: «Иди, доченька, поспи. Я за тебя здесь подежурю». Машу почему-то не смущает ни присутствие мамы, ни ее слова. Она хочет «покараулить» ее звезды? Наверное, ей тоже хочется постоять у воды, потому что звезды все равно скоро растают, как только первые лучи солнца…
Ей так хочется обнять маму, сказать, как она ее любит, как она нужна ей, и как хорошо, когда она тут рядом, и ей ничего не надо бояться.
Слезы катятся по ее щекам. Но мама слегка подталкивает ее. «Иди, иди, доченька. Надо поспать. Сон – это очень важно». А Маша стоит у перил, и нет у нее сил двинуть ни рукой, ни ногой. Она не в состоянии оторвать глаз от этой картины, знакомого зрелища. Все та же бурлящая под кормой вода, те же убегающие от бортов волны и тающие пенные гребешки… Картина гипнотизирует. Надо что-то ей сказать. «Вот если бы мы, если бы мы…»
Мама смотрит удивленно. «Ничего бы не изменилось. Рано или поздно, было бы то же самое». «Что именно – то же самое»? – недоумевает Маша.
Убегают кружевные волны, спешат, торопятся. А куда? Все тот же океан, все та же вода и то же небо. И никуда не убежать. Только разбегутся они, слабея и умирая вдали, чтобы когда-нибудь вновь стать хищной пастью могучего девятого вала. Успокоится, разгладится на время спина океана, чтобы вновь подставить ее ласковым или беспощадным ветрам. Пройдет лайнер, пройдут сотни, тысячи, и ни один не повторит абсолютно точно этот маршрут, лишь приблизительно, но точно так же затянутся на поверхности океана новые шрамы и морщины. Не в состоянии ни заснуть, ни прогнать сон, сомнамбулой Маша идет в каюту, ложится и, закрыв глаза, продолжает диалог сама с собой.
Глава 4
Мистер х
Ну, хорошо. Теперь-то она может себе признаться, зачем ей понадобилось на третьем курсе, сломя голову, выскакивать замуж? Были же чудесные друзья, ни на что не претендующие, хорошие приятели, явные и давние поклонники, подруги, хорошая компания… Она не жаждала вырваться из дома, в котором ей было так хорошо и уютно, и не была обуреваема страстью, которая сокрушает все препятствия на своем пути. Так что же произошло?
Андрей. А может, его настоящее имя было вовсе не Андрей? Может быть, не стоит сейчас бередить свое сердце, а может быть, и его, Андрея, вечный покой? Но боль, как заноза в ступне, сопровождала каждый его или ее шаг и не отступала почти никогда. Никто из них не мог себе представить, как они смогут продолжать жить после всего, что произошло… Собственно, ничего не произошло. Просто расстались два человека, очень нуждавшихся друг в друге, а может быть, и созданных друг для друга, но так и не сумевших побороть обстоятельства.
Был ли он необыкновенным человеком или просто необычным? Любая оценка человека всегда субъективна и привязана ко времени. Для нее тогда он был необыкновенным. Возможно, таким и остался. Ни она не была той, что должна была бы быть рядом, ни обстоятельства не позволили, чтобы «неотшлифованный алмаз», как назвала его Машина ближайшая подруга, превратится в бриллиант. Но при всех своих восторгах его способностями, самобытностью и многогранностью талантов Маша ровно ничего не могла дать ему, кроме своей почти детской любви, нежности, неумелой заботы и внимания. Она не была готова к жертвенной любви.
Вы скажете – это очень много! Вероятно. Но, как часто бывает, даже огромных богатств не всегда достаточно, чтобы осчастливить одного бедного. Или хоть что-то изменить в жизни человека, обремененного проблемами и бедами нескольких жизней, а то и нескольких поколений. Исправить непоправимые ошибки истории.
Где было найти тот «невесомый» довесок духа, облаченного в материальную сущность, который помог бы перевесить тяжесть житейских проблем, не поддающихся простому решению?
Если бы все это она понимала с самого начала, решилась бы она связать свою единственную жизнь с этим человеком? Не знает… Видно, недаром существовал в старину обычай сватовства, когда выбирали не просто жениха или невесту, а семью. Как у Машиного дедушки.
Тогда зачем же?..
А может, она побоялась (в свои-то двадцать лет) остаться старой девой? Но это ей вовсе не грозило. Хотя и не «писаная красавица», а просто хорошенькая, очень милая девушка, разве что не очень уверенная в себе. А еще добрая, интеллигентная, начитанная. Друзей и поклонников достаточно. И все – отличные ребята, умные, воспитанные, хотя не все одного с ней круга.
Правда, в то время почти все женились рано, по первой любви, если посчастливилось встретить взаимность. Была ли это любовь или только внезапная вспышка страсти, увлечение? Никто это не исследовал и не взялся бы. А если бы и попытался, кто бы стал его слушать? Разве можно проанализировать запах цветов? Если только химия. А так – только эпитеты: свежий, нежный, душноватый, сладковатый… В основном, производные от имен существительных – сиреневый, ландышевый, гвоздичный, ванильный… Только ученый в состоянии расчленить красоту на составляющие, а запахи – на формулы и молекулы…
Вот и выбрала она Андрея, смутившего ее сердце обаянием своего интеллекта в сочетании с колдовством дивной музыки. И показалось, что другого такого, «особенного», на свете нет и не будет. В искренности его чувств она не сомневалась.
Когда он появился в Машиной жизни, Анна Савельевна немедленно почувствовала, что на сей раз это что-то серьезное. На осторожный ее вопрос, как зовут ее нового друга, какой он из себя, что за человек, Маша смущенно ответила, что «зовут его Андрей». Какой он? – «Серенький» и очень хороший.
Краткости информации Анна Савельевна не удивилась – вероятно, все еще только начинается, но эпитет «серенький» восприняла как шутку. Вот уж в чем она была уверена, так это в том, что ни с «серым», ни с «сереньким» Маша никогда не свяжется. Как потом скажет Андрей, в их семье царил «культ интеллекта».
Учился Андрей блестяще, выделяясь среди многих в группе, да и на курсе. Прекрасно рисовал, хотя денег у него хватало только на небольшой набор гуаши из трех-четырех цветов и альбом с дешевой бумагой. Можно было удивляться острому символизму его удивительных картин. Современные художники-профессионалы могли бы позавидовать – воображения ему было не занимать.
Музыкальный слух у Андрея был тоже великолепный, возможно – абсолютный. Провожая Машу после лекций домой, он пел ей замечательные романсы, арии из опер и нежные песни о любви. Прохожие на них смотрели, улыбались, оборачивались. Маша смущалась под этими взглядами, но Андрей не обращал никакого внимания. Будто в этот момент весь мир переставал для него существовать.
Больше всего волновала Машу его любимая ария Мистера Икс из «Принцессы цирка»:
Цветы роняютЛепестки на песок.Никто не знает,Как мой путь одинок.Сквозь снег и ветерМне идти суждено,Нигде не светитМне родное окно.Устал я гретьсяУ чужого огня.И где то сердце,Что полюбит меня?Живу без ласки,Боль свою затая.Всегда быть в маске —Судьба моя.Пел он с таким искренним чувством, что Маше казалось, он поет ей о себе, взывая к ее сердцу, и сердце ее дрогнуло. Никто из ее поклонников не осмеливался петь для нее на улице. Такого с Машей еще не было. Она была уверена, что слова обращены именно к ней, и только она в состоянии изменить к лучшему судьбу своего возлюбленного. Она нужна ему! Она спасет его!
Окончив школу с золотой медалью, Андрей твердо решил, что будет учиться дальше, а не прозябать в своей «курортной глубинке». Город, в котором он жил почти всю сознательную жизнь, был хорошо известным и желанным местом отдыха для всей страны. Со всего Союза народ рвался сюда «урвать» свою долю курортного счастья – покупаться, позагорать, подышать волшебным морским воздухом, насыщенным дурманящими ароматами тропических цветов, закрутить на 24 дня ни к чему не обязывающий роман.
Для образованного человека, если он не врач, не учитель, не инженер по санаторному оборудованию или специалист по обслуживанию морского порта, нормальной работы там почти не было. Вероятно, были на побережье несколько мало кому известных, закрытых НИИ, как Морская лаборатория, но попасть туда было весьма сложно. Требовалось хорошее профессиональное образование и, желательно – с рекомендацией или направлением на работу. «С улицы» в такие места брали редко. Поэтому, как часто бывает, средний интеллектуальный уровень жителей городка располагался где-то между столицей и глубокой провинцией.
Перед тем как уехать, Андрей последний раз навестил своего любимого учителя математики, прозванного учениками «Абама», с ударением на последнем слоге. Когда в классе начинали разговаривать, он обычно повторял: «На уроке не болтать надо, а слухать! Абама ухами слухать!» «Абама», в обычной жизни Петр Сергеевич Смоленский, интеллигент старой закваски, имел за плечами какой-то долгий грустный опыт и жил как-то в тени, но ребята его любили. Он сумел вложить много полезного в их еще почти пустые головы.
Узнав о планах Андрея, Петр Сергеевич похвалил его и сам порадовался – пусть хоть один талантливый самородок вылезет, наконец, из этого болота. В то же время ему стало грустно – еще одним хорошим парнем в городе станет меньше. Уезжают самые умные ребята, угасает последняя надежда, что город когда-нибудь станет интеллигентным, культурным центром. Ну, подрастет следующее поколение, лучшие опять уедут, чтобы не возвращаться… Он бы тоже на их месте… Но для себя он уже давно решил – никуда и никогда не уедет. Поздно. Да и здоровье не то. А пока его цель, его долг – дать этим ребятам лишний шанс вырваться отсюда.
Обняв Андрея на прощанье, он напутствовал: «Езжай-ка ты, Андрюша, прямо в Москву. Там много прекрасных институтов. Найдешь по душе и дерзай! А способностей и упрямства тебе не занимать. Хочешь, напишу тебе характеристику от своего имени? Кстати, помнишь Пересветову, из предыдущего выпуска? Пишет мне иногда. В прошлом году в университет поступила, на физфак, и снова отличница. Вот и у тебя все получится. Только учти, зимой в Москве холодно». Он знал, что ни собственного костюма, ни теплого зимнего пальто у Андрея не было – летом они были никому не нужны, а по-настоящему холодные зимы у них случались редко.
Получив на руки аттестат зрелости и медаль, с характеристикой «Абамы» в кармане Андрей немедленно побежал на вокзал. Часть денег на билет в Москву ему наскребли родители, часть он смог заработать сам, помогая Петру Сергеевичу натаскивать «середняков» к вступительным экзаменам в институт, а отстающих – к переэкзаменовке в конце лета. После покупки билетов от всех денег оставалось еще немного «на первое время».
Выделявшийся не только в школе, побеждавший на районных и городских олимпиадах, Андрей легко поступил в престижный московский вуз. На собеседование пришел в черной отцовской форме морского офицера, с кителя которого были сняты погоны и знаки различия, но пуговицы начищены до блеска. На брюках выделялась четкая «стрелка», а застиранная до ветхости белая рубашка была подсинена, накрахмалена и отглажена до хруста. Никакой другой одежды у него не было.
Первое время кое-кто из сокурсников считал это просто пижонством – форма Андрею явно шла, но отслужить три года на флоте парень никак не мог хотя бы по возрасту, тем более – дорасти до офицерского чина. Матросам же кителей не полагалось. Но со временем к его форме, как и к его неторопливой походке «праздного наблюдателя» с гордо посаженой головой все привыкли, и уже никого не волновало, почему он так одет. Большинство ребят было одето весьма «разноперо». Нормальных пиджаков видно почти не было, вместо них носили, в основном, перешитые из отцовских кителей и брюк курточки или вигоневые свитера, одинаково скучных серо-сине-коричневых тонов. А в сильные холода «наряжались» в неразличимо темные, тяжелые зимние пальто с дешевыми цигейковыми воротниками и шапки-ушанки. Обитатели общежития, по-студенчески – общежитейцы, часто прибегали на занятия без пальто. Спасало то, что почти все студенческие корпуса были в одном-двух кварталах ходьбы от учебных. В экстренных случаях пальто можно было попросить взаймы на время у заболевшего соседа по комнате.
Но после первых же холодов он почувствовал, что без пальто ему не выжить. Так что сразу после зимней сессии купил билет и отправился домой, чтобы привезти старую отцовскую шинель. Провожать девушку пешком, в одном костюме, когда на улице мороз минус пятнадцать и метет метель, было выше его сил.
Жить Андрею приходилось только на стипендию да на случайные заработки от разгрузки по ночам вагонов на Московской Сортировочной. Помимо этого, по вечерам и выходным он чертил кому-то эпюры, делал курсовые проекты, успевая раньше всех получать свои зачеты и досрочно, на пятерки сдавать сессию, чтобы успеть съездить домой на недельку-две, повидать мать, братишку и немного отогреться.
Но так «везло» не всем. Безумно худой парнишка из Машиной группы, Коля Нестеров, в круглых очках с веревочками на затылке, продержался два года. Пальто у него тоже не было, только одна курточка, явно перешитая из старого шевиотового пиджака с клетчатой кокеткой и такими же карманами. Работать по ночам на Сортировочной у него не было ни сил, ни подходящей одежды. Осенью и зимой он ходил постоянно простуженный, одно ухо у него было забинтовано из-за хронического отита. В группе его все жалели, хотели бы ему помочь, но как сделать это деликатно, никто не знал. Просить помощи в деканате тоже никто не сообразил. В стае шумных ребят-сокурсников Коля чувствовал какую-то свою «неполноценность», поэтому смущался, когда к нему обращались, избегал пустых разговоров и немного сторонился, чтобы «не навязывать» свое присутствие. Девочек он тоже обходил стороной, боясь пренебрежительного взгляда. Они, в свою очередь, не желая нечаянно обидеть каким-нибудь неловким словом или смешком, тоже «не замечали» его. Бедность и болезни не давали ему шансов встать на ноги.
Маша за него искренне переживала, но почему-то ей тоже ни разу не пришло в голову просто пригласить его к себе домой пообедать вместе, позаниматься – она тоже стеснялась. Если и мелькала у нее такая мысль, то была уверена – он не придет, подумает, что зовут из жалости. Теперь она думает, что могла и ошибаться. Он мог прийти и был бы хоть раз счастлив чьим-то вниманием к себе. Только однажды, заметив, что подошву единственных туфель-полуботинков он стал подвязывать тонким электрическим проводом, на переменке ребята из группы вдруг скинулись своими «обеденными» деньгами и купили ему ботинки. Покрасневший до ушей, смущенный Коля долго отказывался от подарка. В конце концов, общими усилиями его уговорили, и большая заслуга в этом была именно Германа. «А если ты мог бы кому-то помочь, разве… Ты должен быть здоров, чтобы дотянуть до диплома». Но спасти Колю им не удалось. Плохо одетый и всегда голодный, он продолжал мерзнуть, простуживаться и маяться с воспалением уха. Промучившись таким образом еще год или два, Коля вынужден был уехать домой, где вскоре умер от воспаления мозговых оболочек.
Откуда был сам Коля, из какого города, из какой семьи, Маша так и не узнала. Вспоминая о нем, Маша продолжала мучиться угрызениями совести, она не могла себе простить, что постеснялась вовремя протянуть ему руку помощи, принести ему папин старый свитер или папины ботинки. Папа бы понял и разрешил, а Колю она могла бы уговорить. Инфантильная дура или эгоистка? Теперь она нашла бы слова. Может быть, поэтому она так и не смогла забыть его лицо, его взгляд – глаза в глаза и его смущенную улыбку…
Кстати, а скольких она помнит из своего потока? Хорошо – только, пожалуй, два-три десятка. Герман (будущий проректор), стихоплет Саша (ушедший в научную информацию), три Жени (двое из них – ее поклонники и, как минимум, один профессор), талантливый Игорек (он был такой субтильный), супер серьезный Изъяслав (будущий директор), лукавый Слава (тоже профессор), теоретик Юлик, красавица Ирочка, умница Дима (крупный ученый, завкафедрой), неудачница Неля, а еще Таня и три Аллы в одной группе. Эх, ребята, ребята! Где вы сейчас? А ты, Андрей? Из какой галактики смотришь на нашу грешную землю, где все люди – грешники?
Андрей, как большинство столь одаренных людей, был человеком неординарным и очень сложным. Именно эта неординарность изначально приковала к нему Машино внимание.
А что, если в ней он просто нашел тогда благодарного, отзывчивого слушателя, и пением своим он признавался в любви не столько к ней, к Маше, сколько к самой музыке? Музыкой он пытался восполнить то, что требовала и не получала его душа, а Маше казалось, что он поет ей о себе, взывая к ее ответным чувствам… Зачем теперь искать разумные ответы и объяснения?
Кроме прочих особенностей, в Андрее жила удивительная честность и «камертонная» чувствительность к несправедливости жизни. Если и существовало в нем сознание собственной незаурядности, оно вовсе не помогало ему найти точку опоры в этом плохо устроенном, трехмерном мире и смириться с его противоречиями. Вероятно, ему нужно было свое, четвертое, «духовное» измерение, которого он не находил. Может быть, таким как он, не хватало утраченной веры в доброту людей и справедливость Бога? Но приземленная, подогнанная «к случаю» религия его тоже не устраивала.
Он был «блуждающей звездой» в отнюдь не солнечной системе человеческих отношений. Он считал, что основное население Земли, даже самые образованные – примитивные люди, которым зачем-то нужна вечная жизнь, но при этом они постоянно и яростно враждуют и безжалостно истребляют друг друга. Что никакого бессмертия тела и души нет. А любовь, секс, дети – это просто ловушка, защита от страха перед вечной тьмой, смертью. Иллюзия бессмертия.
Когда Андрей начинал утверждать, что существование людей сводится к животной жажде жить и «разумному эгоизму», Маша возмущалась и отчаянно выискивала аргументы, оспаривая каждый его тезис. Она соглашалась с очевидным – мир устроен на редкость плохо. Кто-то вынужден жить в жаркой пустыне, кто-то в вечном холоде. Разные природные условия, разные ресурсы, вот и получается «рента второго рода». (Уроки политэкономии еще были свежи в памяти.) Кому-то удается получить хорошее образование, кому-то нет. Кто-то беден, а кто-то богат – это уже социология. Кто-то здоров от рождения, а кто-то болен – это генетика. Это трудно исправить быстро, но со временем… Все человечество меняется… Социализм – разве это плохо? Каждому по труду… Жизнь становится другой, и когда-нибудь…