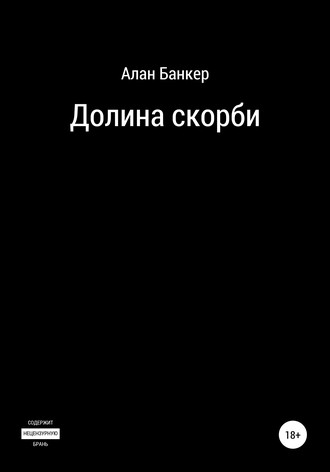
Полная версия
Долина скорби
– А я слышал, – пробурчал мужчина с залихватскими усами. – Что Ее Величеству собираются воздвигнуть памятник.
– Какой по счету? – спросил толстяк.
Улыбка, блуждающая на его лице, говорила о нем, как о человеке, не обремененном тяготами жизни. Не услышав ответа, толстяк прыснул смехом, обрызгав слюнями впереди стоящего мужчину.
– Эй, дурак, закрой глотку! – вскричал широкоплечий мужчина, обернувшись на смех.
Узрев сердитое лицо, перепаханное оспой, толстяк осекся, не рискуя связываться. Недовольство проявили и другие соседи толстяка, ибо его смех был неуместен – памятники Ее Величеству, возведение которых ложилось тяжелым бременем на Городскую казну, были, чуть ли не на каждом шагу.
– А вот и старина Кирби собственной персоной, – процедил усач, кивнув на повозку, подкатившей к входу в Таун-холл.
Окинув взглядом толпу, старейшина Кирби дождался помощи возницы и вывалился из повозки, точно какой-то мешок с дерьмом. Отдышавшись, он проплыл мимо зевак и исчез за дверями Таун-холла.
– Ух, какую морду отъел, – буркнул молочник.
– Посидишь с его, и ты такую морду отъешь! – подхватил толстяк, прыснув смехом.
– А я погляжу, тебе все смешно?
– А что, плакать прикажешь!?
Вздохнув, молочник промолчал и присоединился к прочим зевакам, с жадностью вслушивающимся в голоса, доносившимся сквозь высокие арочные окна Таун-холла. В нижней части окон были видны деревянные скамьи, расположенные в три яруса, и старейшины, восседающие на скамьях. О чем-то споря, они то и дело вскакивали с мест и махали руками, и снова возвращались на свои места. В верхней части окон были видны стеллажи Архива, обращенные к площади тыльной стороной. Если первый этаж бурлил, то на втором царила мертвая тишина.
– Приветствую вас, господа, – сказал мягким голосом старейшина Кирби, на лице которого, и без того страдальческом, лежала печать уныния.
– И мы, народ Миддланда, приветствуем тебя! – выкрикнули традиционное приветствие члены совета, при этом часть из слуг народа ограничилась взмахом руки.
Шум, до того стоявший в Зале заседаний, на мгновение стих, а затем снова возобновился. Как всегда бывало, все споры в стенах Таун-холла сводились к двум вопросам – как наполнить казну и на что потратиться. Одни призывали к введению соляного налога, ибо это была единственная возможность залатать дыру в казне. Другие призывали к отмене таможенной пошлины, дабы привлечь в столицу богатых купцов и искусных ремесленников из Хирама. Третьи, пребывающие в меньшинстве, ртов и вовсе не открывали, будто выказывая пренебрежение к бесконечным спорам. Что до того, на что тратить средства из казны, то и здесь споры были не менее горячими. Одни призывали к тому, что средства надобно тратить на улучшение дорог, дабы булыжник прилегал к булыжнику вплотную, ибо плохая дорога вредит ногам и копытам лошадей. Другие, что надобно взяться за ремонт домов, ибо негоже столице иметь прекрасный фасад и ужасный задний двор. Третьи же, обвиняя и тех, и других в пустословии, предлагали открывать больше рынков, ибо торговля всему голова. Раздавались голоса и в пользу того, чтобы установить очередной памятник королеве, как достойнейшей представительнице дома Бланчестеров, но, они были в жалком меньшинстве. В еще большем меньшинстве пребывали те, что избегали жарких споров, предпочитая сохранять рот на замке.
Проследовав к трибуне, старейшина Кирби с помощью писаря, невзрачного молодого человека, преодолел две ступеньки и уселся в кресло, издавшее под ним жалобный скрип. Сделанное из столетнего дуба, кожаное кресло имело икс-образную раму с длинной прямоугольной планкой для спины. Массивный стол, на котором стояли серебряный кубок и кувшин с элем, был сделан из того же дуба, что и кресло.
– Ты посмотри, как старик Кирби раздобрел, – прошептал Одар, коренастый мужчина с водянистым взглядом, восседавший на верхнем ярусе на правах старейшины Почетной компании каменщиков.
– Угу, – буркнул одноглазый Фарлан, старейшина лудильщиков.
– Все ли присутствуют? – обратился Кирби к писарю, чью принадлежность к столь сложному делу, как бумагомарательство, выдавали испачканные чернилами пальцы левой руки и полы рубахи.
– Все, господин старейшина, – ответил писарь, после чего передал старейшине свиток с печатью Ее Величества и воротился к своему месту.
Стол писаря, заставленный стопкой бумаг, городской печатью и чернильницей с гусиным пером, походил на своего хозяина один в один. Сколоченный из досок дикого ореха, стол одиноко стоял в дальнем углу зала, никем не замечаемый. Если бы не скрип гусиного пера, которым писарь без конца водил по бумаге, в спешке записывая словесные потуги слуг народа, то никто бы и не вспомнил о его существовании.
– Хочу сказать, господа…, – начал Кирби, и замолк, отпустив взгляд на прогулку.
– Он не только раздобрел, он еще и умом тронулся, – заметил
Одар, обнажив в улыбке гнилые зубы.
– Он не одинок, – ухмыльнулся Фарлан, обведя взглядом членов совета.
Зал заседаний напоминал рынок, на котором каждый стремился перекричать друг друга, зазывая людей к своему прилавку. И, только старейшины нижнего яруса находились в стороне от суеты, точно знали, что их товар бесподобен, а потому не стоит понапрасну рвать глотки. Изредка перебрасываясь словами, старейшины купцов, ростовщиков и суконщиков вели себя степенно, как и подобает людям, имеющим большой вес в обществе.
– Хочу сказать, господа, – продолжил Кирби, чьи руки нервно затеребили края свитка. – Что Ее Величество издало указ о сборе ополчения. Указ гласит, что не ранее, чем в срок десять дней народ должен поставить ополчение в десять тысяч голов.
Прослышав про указ, старейшины замолкли, переглядываясь друг с другом, ибо такой вести никто не ожидал. Затем стали раздаваться голоса, в которых смешались и страх, и растерянность и радость.
– Неужели война? – спросил упавшим голосом Гельвиг, старейшина бакалейщиков. Перестав поглаживать бороду, он смотрел на главу совета растерянным взглядом, ибо надеялся прожить остаток жизни в мире и покое.
– Просто так ополчение не созывают, – ответил за главу совета бритоголовый Ведран, сидевший рядом со стариком. Представляя Почетную компанию бронников, мужчина не скрывал радости, расточая улыбки по сторонам.
– Давно пора, – сказал бородач Азенур, старейшина оружейников, всегда и во всем поддерживающий Ведрана. – Война время от времени полезна, дабы люди не разучились держать меч в руках.
Переглянувшись, они ударили по рукам и расхохотались, не то от мысли о предстоящей наживе, не то от воспоминаний о тавернах и борделях, по которым они таскались по ночам.
– А за чей счет!? – заорал краснощекий толстяк Марлин, старейшина Почетной компании держателей таверн.
Вскочив с места под шум голосов, он устремил на старейшину Кирби недовольный взгляд, которым награждал его неоднократно. В стремлении пополнить казну, Городской совет шел настолько далеко, что вызывал головную боль у мясников, бакалейщиков, хлебопеков и держателей таверн, будто имел цель познать границы их терпения. Что до остальных, то в силу богатства или нищеты они не испытывали неудобств от сумасбродных налогов. Купцы и суконщики, как того не желал народ Миддланда, не несли бремени налогов, ограничиваясь торговой пошлиной, а ростовщики и иже с ними оружейники, бронники и врачеватели и вовсе были освобождены от налогов, находясь на особом положении. Что до остальных, то они были настолько бедны, что нагружать их дополнительными налогами, было сродни желанию подоить быка.
– Да, за чей счет!? – поддержал широкоплечий Эдарт, старейшина мясников, вскочив вслед за Марлином.
– Что, снова за наш счет!? – возопил Марлин во все горло, чье лицо от нахлынувших воспоминаний побагровело, а через мгновение другое он схватился за сердце и бухнулся на свое место, устремив взгляд в щербатый потолок. Окунувшись в прошлое с головой, он вспомнил, какие налоги Городской совет ввел за последний год.
Налог на перевозку эля по дорогам Миддланда, вот первое, что пришло к нему на ум, от которого год назад он испытал неприятное ощущение холодка. Довод старейшины Кирби, что «телеги с бочками эля приводят в негодность дороги», вызвал на его лице недоумение. Его слова, что «по дорогам столицы ездят не только телеги с бочками эля», пролетели мимо ушей большинства старейшин, посчитавших, что от держателей таверн не убудет.
Второе, что пришло на ум Марлина, так это налог за содержание таверны в торгово-ремесленных кварталах, принятый двумя месяцами позже. Если от первого налога он испытал ощущение холодка, то от второго разродился безудержным смехом. Довод, что «торгово-ремесленные кварталы в отличие от кварталов Задницы мира, это богоизбранное место, а потому, они, держатели таверн, должны благодарить Богов, что находятся на богоизбранной земле», не мог вызвать ничего, кроме смеха. Слова Марлина о том, что «это богоизбранное место ничем не отличается от бедных кварталов, такое же грязное и смердящее», никого не взволновали.
И, наконец, двойной налог, взимаемый за ввоз и продажу хирамского эля в столице, принятый совсем недавно, вызвал у Марлина приступ бешенства. Если в первых двух случаях старейшина Кирби приводил хоть какие-то доводы, то в этом случае он и вовсе промолчал, сославшись на пустую казну. Слова Марлина, что «на ввоз в королевство напитка Богов существует таможенная пошлина», потонули в шуме голосов. Большинство совета проголосовало за налог, утверждая, что налоги, взимаемые с держателей таверн, несравнимы с их баснословными доходами.
– А вы что же молчите!? – возмутился Эдарт, бросив взгляд на Гельвига и его соседа, Хайнриха, смуглого мужчины, представляющего компанию хлебопеков.
– А что я, я ничего, – ответил Хайнрих тихим голосом и опустил взгляд в пол, а старик Гельвиг и вовсе не удосужился ответить, продолжая пребывать в растерянности.
– А с кем война-то? – раздался еле слышный голос с верхнего яруса, принадлежащий дубильщику Фридану.
Обернувшись на голос, старейшины с удивлением посмотрели на задавшего вопрос, поняв, что в пылу споров они позабыли спросить имя врага.
– Да, против кого воюем!? – поддержал вопрос сосед по ярусу, бородач Айвин, представляющий компанию красильщиков.
– Всему свое время! – поспешил Кирби с ответом.
– Как же так, собираем ополчение, и не знаем врага в лицо?
Шум голосов, последовавший за этим вопросом, в мгновение ока охватил средний и верхний ярусы.
– Могу сказать в добавление ко всему – половину средств на ополчение выделит Его Светлость, лорд Аддерли.
Услышав эти слова, старейшины переглянулись, ибо на их памяти такого прежде не случалось: ремонт дорог, очистка мостовых, содержание ополчения и многое-многое другое ложилось исключительно на плечи народа Миддланда и прочих городов королевства. Королевская казна, находившаяся в ведении лорда-казначея, содержала только королевское семейство, Королевский замок и Королевскую гвардию, и ничего более.
– С чего это лорд-казначей так расщедрился? – поинтересовался Марлин, придя в себя от столь нежданной вести.
– Все просто, как божий день – лорд Аддерли понимает, что народ Миддланда не потянет всех расходов.
– Ты, наверное, хотел сказать, что это понимает Ее Величество?
– Да, я это и хотел сказать. Поскольку казна пуста, то мы, народ Миддланда, должны крепко подумать, откуда изыскать средства на ополчение.
– Сдается мне, – усмехнулся Марлин, обведя взглядом собрание старейшин. – Что дальше речь пойдет о новом налоге.
Беззаботность, гуляющая на лицах большинства старейшин, как уличная девка по ночному городу в поисках приключений на одно место, была знакома Марлину до боли.
– Посему, – продолжил Кирби, не обратив внимания на укол оппонента. – Прошу проголосовать за соляной налог, кто за, поднимите руки.
При этих словах Зал заседаний погрузился в тишину. То, о чем в стенах Таун-холла говорили не первый год, случилось – решение о введении соляного налога вынесли на голосование. Единственным, на кого не подействовали слова старейшины, оказался писарь. Отставив перо, он подцепил большим и указательным пальцами левой руки лист бумаги, лежащий поверх стопки бумаг, и деловито пробежался взглядом по тексту.
– Если проголосуем, – сказал Марлин, пробив стену оцепенения, словно топором. – То народ нас не поймет.
– Ты, как всегда, все преувеличиваешь, – проговорил Кирби. – Хотя, если хочешь, можем проголосовать и за что нибудь другое.
Сказав это, он вперил в Марлина усталый взгляд, под тяжестью которого тот сник и уронил голову на грудь.
– Ну, что ж, пусть будет так, – с обреченностью в голосе произнес Марлин, подняв руку первым из старейшин.
Вслед за ним потянули руки и его соседи по среднему ярусу, тогда как верхний ярус их примеру не последовал. Что до старейшин нижнего яруса, то они, по своему обыкновению голосующие против среднего яруса, единогласно проголосовали за налог, дав ему необходимое большинство голосов.
– Кто против? – спросил Кирби.
Десять рук, взметнувшихся на верхнем ярусе, изменить уже ничего не могли.
– Так против кого война? – повторился Фридан.
– Так кто же его знает! – воскликнул Айвин в раздражении.
– Шестнадцать голосов за, семь против, – огласил Кирби итоги голосования. – Посему объявляю, народ Миддланда большинством голосов за решение о введении соляного налога.
Взяв перо и печать из рук писаря, подсунувшего указ ему под нос, старейшина заверил его и встал из-за стола, опершись на руку писаря. Спустившись с трибуны, он посеменил к выходу, расточая старейшинам поклоны. Те же, отвечая главе совета взаимностью, потянулись следом.
– Нынче что-то быстро управились, – обронил молочник, завидев старейшину Кирби на пороге Таун-холла.
– Эй, Кирби! – раздался насмешливый голос из толпы. – Ну как, решили, где будете ставить памятник Ее Величеству?
Как и в прошлый раз, эта шутка, принадлежавшая весельчаку, не нашла отклика. Не сподобившись на ответ, старейшина забрался в повозку и покатил в сторону Задницы мира, в которой находилась большая часть из его сотни доходных домов. Уныние, в котором он пребывал последние полгода жизни, этим утром стало нестерпимым. Тому причиной были два десятка лудильщиков, проживающих в одном из переулков, примыкающих к суконному рынку. Скупив дома вокруг рынка, Кирби столкнулся с сопротивлением небольшой кучки горожан, не желающих ни продавать свои дома, ни обменивать их на дома в других кварталах. Если с одним можно было договориться, то вот договориться с толпой оказалось непосильной задачей. Этим утром Кирби услышал очередное «нет», и вдобавок ко всему был забросан камнями, как какой-то преступник. Оставалось одно – прибегнуть к помощи головорезов, коих можно было разыскать без особых усилий.
– Господам не до народа, – буркнул молочник.
– Так мы сами с усами! – усмехнулся толстяк.
– Усы, какие еще усы?
– Я хотел сказать – мы сами себе господа!
– С чего ты так решил?
– Мы их выбираем, разве мы не господа!?
– Скажи это кому ни будь другому, точно засмеет до смерти.
Тем временем, Таун-холл продолжал исторгать старейшин из собственного чрева одним за другим. Говоря в полголоса, они старались не задерживаться на месте и стремились убраться с площади как можно быстрее. Когда здание покинул последний из них, наступила тишина, продлившаяся совсем недолго, пока толпа не зашумела, ожидая оглашения решений совета. Однако писарь все не
появлялся, точно испытывал терпение толпы.
– Что, так никакого решения и не услышим? – вопросил молочник.
– А мы сейчас у писаря и спросим, что к чему, – ответил усач и двинулся к парадному входу, увлекая за собой толпу.
– Именем народа Миддланда, – будничным голосом сказал один из стражей Таун-холла. – Соблюдайте порядок и законность.
– Мы народ Миддланда! – крикнул усач, выбросив руку в сторону
толпы. – И мы вправе знать, что там слуги народа порешили!
– Подавайте писаря! – бросил молочник.
– Да-да, пускай огласит решение совета! – подхватил усач.
– Порядок и законность! – крикнули гвардейцы в один голос, скрестив алебарды и прижав к груди щиты.
Но, грозный вид стражей Таун-холла только раззадорил горожан. Подступая к дверям все ближе и ближе, они грозили кулаками и выкрикивали ругательства. Оставалось совсем немного, чтобы толпа ринулась на штурм здания, как тут послышался скрип дверей и народу явился писарь, сопровождаемый шестью гвардейцами.
– Народ… Миддланда, – неуверенно начал писарь, держа перед глазами указ Городского совета.
– Тихо! – заорал усач, обернувшись к толпе с поднятой рукой.
– Мы… члены Городского совета… верные слуги народа Миддланда, постановили, что не далее, чем в срок десять дней народ Миддланда, во исполнение Указа Ее Величества, должен поставить короне ополчение в десять тысяч голов…
– Война? – встревожился молочник.
– Похоже на то, – ответил усач.
– И поскольку, – продолжил писарь. – Городская казна не обладает средствами, столь необходимыми для выполнения указа Ее Величества в должный срок, то Городской совет постановил с сего дня ввести соляной налог, коим облагаются все горожане в возрасте от десяти до пятидесяти лет…
– Вот учудили, так учудили, – пробурчал усач под ропот толпы.
– А как же дороги? – спросил молочник, растерянно посмотрев по сторонам. – У меня от дороги молоко киснет.
– Со своей стороны корона обязуется, – добавил писарь, сворачивая указ в трубочку. – Что половину расходов на ополчение возьмет на себя Королевская казна.
Сказав это, писарь сглотнул слюну, развернулся на месте и растворился в дверях. Что до горожан, то они пошумели-пошумели, да
разошлись, неся в народ свежие вести.
КАЛУМ
– Ты там случаем не помер? – спросил Калум, посмотрев с улыбкой на королевское дитя.
С тех самых пор, как они покинули Миддланд, они сделали не одну остановку, давая отдых коню. К его радости, младенец, не издавший за весь путь ни звука, нисколько его не беспокоил. Вот и на этот раз, открыв глаза, тот посмотрел на Калума улыбающимся взглядом, а затем зевнул и снова заснул.
«Воистину Бланчестер, – подумал Калум. – С таким спутником он легко преодолеет путь до Гритривера30».
Подумав о реке, он помрачнел, ибо по ту сторону реки находились степняки – истинные хозяева южных земель Соутланда. Мотнув головой, словно отгоняя неприятные мысли, Калум подстегнул коня и понесся к таверне «Два пескаря», до которой оставалось не больше полумили. Правда, уже вскоре он услышал крики, донесшиеся со стороны пшеничного поля.
– Отец! Отец! Отец!.. – кричал мальчишка лет семи-восьми, бегая вокруг крестьянина, вооруженного палкой.
– Получай гад! Получай! А вот тебя! Вот тебя!.. – дико орал крестьянин, нанося удары по земле, отскакивая и снова бросаясь на землю.
– Отец – сзади!
– Ах-х-х же ты дрянь эдакая, – со злостью протянул крестьянин, обернувшись и нанеся несколько ударов по земле.
Завидев столь странную картину, Калум не удержался и съехал с тракта.
– О, Боги! – вскричал крестьянин, замахав руками на Калума. – Ни шагу вперед! Они… они повсюду.
– Эй, дурак, кто они!? – крикнул Калум в ответ, остановив коня.
– Они, – выдохнул крестьянин и уперся руками в колени.
Его дыхание было частым, с присвистом, будто он преодолел не близкий путь. Как Калум не старался, он не мог разглядеть на его теле ни единой царапины, хотя его рубаха была в крови.
– Эй, малой, может, ты скажешь!? – обратился Калум к крестьянскому сыну.
– Змеи, господин, – прошептал мальчик, исходя мелкой дрожью. – Они… они повсюду.
В последнее время Калум не раз слышал, что поля к югу от Миддланда заполонили змеи. Вести о том, что от змеиных укусов гибли десятки, а то и сотни крестьян, были столь неутешительные, что мало кто отваживался выходить за пределы Миддланда, если на то не было особой нужды. Одну из таких историй он услышал от Клодии, понесшей тяжелую утрату. Как не силился, Калум не мог понять, зачем она рассказала ему про гибель отца. Помнил только, как получая очередной приказ королевы, он впервые увидел Клодию, чей смущенный взгляд оказался красноречивее всяких слов. Про себя же он отметил, что служанка весьма недурна собой.
– Змеи? – улыбнулся Калум и подстегнул коня. – Не змей надо бояться…
Не договорив, он резко остановил коня, узрев настоящее побоище. Посередине истоптанного куска поля стоял крестьянин, вокруг которого лежала груда змеиных тел. В сторонке, в десяти-двенадцати шагах от места побоища виднелась узкая борозда, исчезающая в высокой пшенице.
– Господин, ступайте куда ехали, а мне не мешайте.
Всучив палку сыну, крестьянин выпрямился, посмотрел на него недобрым взглядом, подобрал мотыгу и прошел к борозде, продолжив ранее начатое дело.
– А ты дерзок, крестьянин.
– Если хотите наказать – наказывайте. Если хотите убить – убивайте… все равно мы не жильцы.
Сплюнув, Калум направил коня к крестьянину, мимоходом бросив взгляд на крестьянского сына.
– А сына, стало быть, сиротой оставишь?
Отставив мотыгу, крестьянин выпрямился и посмотрел на Калума взглядом, полным горечи.
– Если вам не все равно, угодно ли господину проявить милосердие к моему сыну?
– О каком милосердии ты просишь?
– Убейте сына вслед за мной – что одним, что двумя, от вас не убудет, господин.
– Дурак, это милосердие не по мне! Ответь-ка лучше, что ты задумал?
– Забор хочу поставить, а то от змей никакого спасу.
– Мой тебе совет – как увидишь в небе Западную звезду, ноги в руки и прочь из королевства!
– Господин, вы про нечисть из пророчества?
– Про нее самую.
– Эх, куда ж бежать-то!? – усмехнулся крестьянин, обведя рукой
бескрайние поля пшеницы.
– Куда бегут люди, туда и ты беги.
– Господин, здесь мой дом, и здесь могилы моих предков.
– Ну, что ж, тогда Боги тебе в помощь.
Бросив последний взгляд на крестьянского сына, судорожно сжимающего в руках палку, Калум повернул коня к тракту. Быстро преодолев расстояние в несколько сотен шагов, Калум добрался до таверны «Два пескаря», первого на его пути питейного заведения. Двухэтажная, с мастерской и небольшой конюшней, рассчитанной на пяток лошадей, она ничем особым не выделялась, разве что отменными карасями, да Рыжебородым стражем. Так прозывали глубокого старика, в любую погоду восседавшего на стуле перед входом в таверну. Высокий, с пожелтевшей от времени бородой до пят, с изможденным лицом и тусклым взглядом серых глаз, старик создавал гнетущее впечатление на любого, кто объявлялся на пороге таверны. И, каждого ждал один и тот же вопрос: «Живой или мертвый?» Люди суеверные, видя ничего не выражающий взгляд старика и устремленный в них узловатый палец, от такого вопроса содрогались. Кто бросал монетку, дабы умилостивить старика, кто прибавлял ходу, содрогаясь телом от одного вида старика. Были и такие, кто считал старика сумасшедшим, и потому не обращали на него никакого внимания. Калум, не раз пересекавший тракт, не относился ни к тем, ни к другим.
– Живой или мертвый? – спросил старик, завидев Калума у калитки.
– Живой, пока в пути, – ответил Калум, отворив калитку.
– Но что будет завтра?
– Дожить бы этот день, старик, а завтра будет видно.
Засунув руку в карман штанин, Калум выудил пенс и вложил его в руку старика.
– Если хочешь жить, сынок, держись тракта стороной, – сказал старик отстраненным голосом.
Ничего не ответив, Калум толкнул дверь и вошел в таверну, сразу же направившись к столу возле окна.
– Хозяин! – крикнул он, положив младенца на скамью.
– Да, господин! – подскочил хозяин. – Что изволите? Эль, конину, карасей… о, да, конечно же, карасей! Эк я дурак, коль такие вопросы задаю! Ведь моя таверна славится карасями, да столь отменными, что вы просто пальчики оближите и…
– Ты много говоришь, – оборвал Калум хозяина. – Там, откуда я родом, таких, как ты, в один раз лишают языка.
Услышав про язык, хозяин побледнел, став одного цвета с полотенцем, висящим на его руке.
– Господин! – взмолился хозяин, сложив ладони. – Не лишайте языка, Богами заклинаю!
– Дурак, мне твой язык ни к чему! Я только сказал, как в моих родных местах поступают с теми, кто слишком говорлив.
– Хвала Богам! – вскричал хозяин, воздев руки к потолку.
Отдав должное Богам, он вперил в клиента взгляд побитой собаки, напрочь позабыв о своих обязанностях.
– Ну, чего стоишь столбом!? Дай эля, хлеба и… этих, своих карасей, и более ни слова! И еще молока подай, коровьего, а лучше козьего.
– Да, мой господин, конечно господин, – услужливо закивал хозяин и кинулся выполнять приказ.
Покончив с трапезой, Калум напоил младенца молоком и неспешно покинул таверну, заметив на выходе двух женщин в серых одеяниях. Сидя за столом, они о чем-то шептались, то и дело, бросая взгляды на прочих гостей таверны. Та, что была черноволосой, сжимала руку старухе, которой на вид было то ли пятьдесят, то ли шестьдесят лет от роду. Проходя мимо Рыжебородого стража, Калум услышал в спину бормотанье про завтрашний день и про то, что следует сторониться тракта. Посмотрев на пегую лошадь, привязанную к забору, он оседлал коня и выехал на тракт, продолжив путь на юг.

