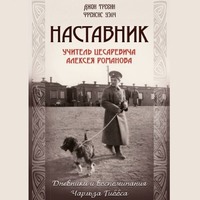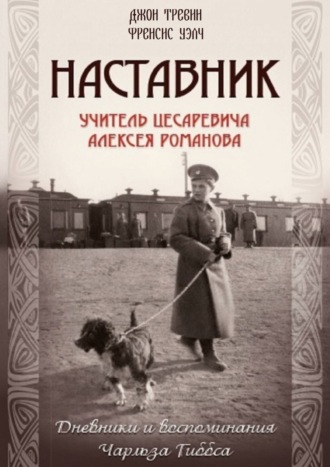
Полная версия
Наставник. Учитель Цесаревича Алексея Романова. Дневники и воспоминания Чарльза Гиббса
70
Речь идет о месте захоронения Г. Е. Распутина – «часовне», о которой пишут многие очевидцы. В действительности речь идет о храме преподобного Серафима Саровского при Свято-Серафимовском лазарете-убежище для инвалидов войны №79. Строился он в Царскосельском парке на земле, приобретенной А. А. Вырубовой на ее собственные средства. Убежище и храм находились на небольшой поляне в окружении высоких деревьев, на правом берегу 2-го Ламского пруда, как раз напротив Ламских конюшен. К ним вела красивая липовая аллея от Фермерского парка. Деревянный храм строился А. А. Вырубовой в 1916—1917 гг. по проекту архитекторов С. А. Данини (1867—1942) и С. Ю. Сидорчука (1862—1925) в память избавления ее от смерти при крушении поезда 2 января 1915 года. Строительные работы вел полковник Мальцев. «Закладка Аниной церкви, – сообщала Императрица Государю в письме 5 ноября 1916 г., – прошла хорошо, наш Друг был там, а также славный епископ Исидор, епископ Мельхиседек и наш Батюшка». «Через месяц с небольшим епископ Исидор (Колоколов, 1866—1918) отпоет Г. Е. Распутина в Чесменской богадельне. А „наш Батюшка“ – духовник Царской Семьи, протоиерей Александр Васильев (1867—1918) отслужит литию перед погребением старца на том же самом месте, где еще недавно он сослужил во время закладки храма. В честь этой самой закладки, после нее, в лазарете А. А. Вырубовой был прием. На нем сделали фотографию – последний прижизненный снимок Г. Е. Распутина. Это групповое фото за столом, попав в руки одного из убийц старца В. М. Пуришкевича, было размножено им в количестве 9 тысяч экземпляров и распространялось в остававшиеся до преступления дни с соответствующими, извращающими смысл запечатленного на снимке, комментариями» (// Русский вестник. 30.05.2002). Фомин С. В. Как они его жгли
71
(1865—1918), лейб-медик Высочайшего Двора. Действительный статский советник. После окончания гимназии поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, а затем перешел на подготовительный курс Военно-медицинской академии, которую закончил в 1889 г., получив звание лекаря с отличием. Начал работать в Мариинской больнице для бедных. В 1893 г. защитил докторскую диссертацию. В мае 1897 г. стал приват-доцентом Военно-медицинской академии. С началом Русско-японской войны отправился на фронт, на Дальний Восток. Назначен заведующим медицинской частью Красного Креста в маньчжурской армии. Был награжден офицерским боевым орденом Св. Владимира 4-й и 3-й степени с мечами. Осенью 1905 г. возвратился в Петербург. Продолжил преподавание в Военно-медицинской академии. С 6 мая 1905 г. – лейб-медик Высочайшего Двора, фактически домашний врач Царской Семьи. С апреля 1908 г. получает официальное назначение. С этого времени становится близким другом Августейшей Семьи и сопровождает ее в различных поездках и мероприятиях. С 1890 г. был женат на Ольге Владимировне. Их дети: первенец Сергей (умер полугодовалым; 1892), Дмитрий (1894—1914), Георгий (1896— 1941), Татьяна (1899—1986), Глеб (1900—1969). Супруги развелись в 1911 г. Трое детей остались с отцом: Глеб, Татьяна и Дмитрий. Георгий женился и жил самостоятельно. После февральской революции добровольно разделил участь Царской Семьи, вначале под арестом в Александровском дворце, а потом в ссылке и заключении. Сопровождал Царскую Семью в Тобольск и Екатеринбург. Расстрелян вместе с Царственными мучениками в подвале Ипатьевского дома в ночь с 16 на 17 июля (н. ст.) 1918 г. В комнате Боткина нашли последнее неоконченное его письмо брату от 26 июня / 9 июля 1918 г.: «…мое добровольное заточение здесь настолько же временем не ограничено, насколько ограничено мое земное существование. В сущности, я умер, – умер для своих детей, для друзей, для дела… Я умер, но еще не похоронен, или заживо погребен. […] Я духом бодр, несмотря на испытанные страдания. […] Меня поддерживает убеждение, что „претерпевший до конца, тот и спасется“. […] Я не поколебался покинуть своих детей круглыми сиротами, чтобы исполнить свой врачебный долг до конца, как Авраам не поколебался по требованию Бога принести Ему в жертву своего сына. И я твердо верю, что, так же, как Бог спас тогда Исаака, Он спасет теперь и моих детей и Сам будет им Отцом. […] Иов больше терпел. […] Видимо, я все могу выдержать, что Господу Богу угодно будет мне ниспослать» ( М., 2004. С. 148—155). В 1981 году решением Архиерейского Собора Русской Православной Церкви Заграницей канонизирован вместе с Царской Семьей. 3 февраля 2016 года Архиерейским собором Русской Православной Церкви было принято решение об общецерковном прославлении страстотерпца праведного Евгения врача. Боткин Евгений Сергеевич Мельник-Боткина Т. Воспоминания о Царской Семье.
72
(1867—1934), доктор медицины, профессор, с 1907 г. – почетный лейб-медик, был приглашен наблюдать за здоровьем Августейших детей. Член Военно-медицинского ученого комитета. Руководил детской клиникой Рождественских курсов. Товарищ председателя Общества детских врачей в Санкт-Петербурге. В 1916—1919 гг. – директор Петербургских курсов им. П. Ф. Лесгафта. С 1919 г. – директор института физического образования. Позже в эмиграции в Праге. С 1923 г. возглавлял Русский педагогический институт им. Я. А. Коменского. Был первым председателем (1923—1927) Общества русских врачей в Праге. Скончался в Праге. Острогорский Сергей Алексеевич
73
(1907—1990), сын боцмана А. Е. Деревенько. Один из немногих друзей Цесаревича по играм. По словам П. Жильяра, был значительно моложе Алексея Николаевича и не был достаточно образован и развит. Проживал до самой своей кончины в Ленинграде. Деревенько Сергей Андреевич
74
– «Шура» – (1884—1955), потомственная дворянка, состояла няней при всех Августейших детях с 1902 г. Добровольно поехала за Царской Семьей в ссылку в Тобольск. Затем с детьми переехала в Екатеринбург, но в Ипатьевский дом не была допущена: восемнадцати слугам было объявлено, что «в них не нуждаются». Всем велено было уезжать обратно в Тобольск. На их счастье, когда они добрались до Тюмени, город взяли чехи. Таким образом, бывшие узники оказались у адмирала Колчака. 17 июля 1919 г. давала показания в качестве свидетеля следователю Н. А. Соколову по делу об убийстве Царской Семьи. Проживала вместе с Жильяром в Тюмени, сначала в вагоне заброшенного поезда, а потом, заболев, у одного торговца, приютившего их. Затем они перебрались в Омск и находились там до тех пор, пока Александра не переехала в Верхнеудинск, контролируемый японскими войсками. Там она находилась вместе с женой генерала Дитерихса. Обе они руководили сиротским приютом. В Верхнеудинске Жильяр встретился с Теглевой, и в конце января 1920 г. на личном поезде генерала Жанена они отправились во Владивосток, куда добрались в апреле 1920 г. Эмигрировала в Европу. Жила вместе с семьей Н. А. Соколова и капитаном П. Булыгиным в гостинице в Париже в 1920 г. 3 октября 1922 г. в Женеве обвенчалась с преподавателем царских детей Пьером Жильяром. Проживала вместе с мужем в Швейцарии, где скончалась 25 марта 1955 г. в возрасте 71 года. Теглева Александра Александровна
75
Книга «Дети Хелен» принадлежит американскому писателю Джону Хаббертону (1842—1921), который двадцать лет работал в качестве литературного критика в «Нью-Йорк Геральд». Она была издана в 1876 г. в Бостоне, а затем в Лондоне. Юмористическая книга появилась в серии «Ruby Books» для девочек и мальчиков и была написана для взрослой аудитории. Однако веселая новелла почти сразу же стала популярна среди юношества и заняла достойное место рядом с «Томом Сойером», «Ветром в ивах», «Винни-Пухом» и др. – Прим. ред.
76
Имеется в виду Николай Павлович Саблин, флигель адъютант Свиты Императора Николая II, личный друг Царской Семьи. Генерал А. И. Спиридович писал в своих воспоминаниях: «19 февраля […] Вечером Императрица, узнав, что у Вырубовой собрались несколько офицеров прибывшего для охраны Гвардейского Экипажа, пригласила Анну Александровну со всеми гостями в свои апартаменты. Собралась вся Царская Семья, кроме больных. В числе приглашенных были госпожа Ден, Саблин, командир прибывшего батальона Мясоедов-Иванов и офицеры Родионов и Кублицкий» ( Мн., 2004. С. 487). Спиридович А. И. Великая война и февральская революция. 1914—1917. Воспоминания. Мемуары.
77
«Совет рабочих депутатов» возник самочинно 27 февраля. Инициаторами его явились освобожденные толпой из предварительного заключения лидеры «рабочей группы». Этот самочинный Совет, совместно с некоторыми представителями крайних левых партий той же Государственной Думы, образовал «Исполнительный Комитет Совета Рабочих Депутатов». Впоследствии в название «Совета Рабочих Депутатов» было вставлено «и Солдатских» ( . М., 2004. С. 241). Галушкин Н. В. СобственныйЕго Императорского Величества конвой
78
«Как бы там ни было, но ни Государь, ни Государыня не могли с самого начала оценить ни характер, ни серьезность начавшихся в Петрограде выступлений. 24 февраля Императрица высылает Государю письмо в Ставку: «Вчера были беспорядки на Васильевском острове и на Невском, потому что бедняки брали приступом булочные. Они вдребезги разбили Филиппова, и против них вызывали казаков. Все это я узнала неофициально». То же самое она писала в письме 25 февраля: «Это хулиганское движение, мальчишки и девчонки бегают и кричат, что у них нет хлеба, – просто для того, чтобы создать возбуждение, и рабочие, которые мешают другим работать».Из писем видно, что Государыня также не была проинформирована о подлинных событиях. Иначе почему она, Императрица Всероссийская, узнает о них «неофициально»? Николай II также не придавал большого значения петроградским событиям, полагая их незначительными и неорганизованными. […] Как верно пишет О. А. Платонов «В это последнее пребывание Государя в Ставке было много странного: в Петрограде творились страшные дела, а здесь царила какая-то безмятежная тишина, спокойствие более обычного. Информация, которая поступала Государю, шла через руки Алексеева. Сейчас невозможно сказать, в какой степени Алексеев задерживал информацию, а в какой степени эта информация поступала искаженной из Петрограда. Факт тот, что фактически до 27 числа Государь имел искаженное представление о происходившем в Петрограде» ( … М.; Е., 2008. С. 44—45). Свидетельствуя о Христе до смерти Мультатули П. В.
79
– «Лили» – (1885—1963), ур. Селим-Бек Смо (у) льская, одна из самых близких подруг Государыни Императрицы Александры Федоровны. Дочь потомственного дворянина Гродненской губернии, военного инженера Александра-Фридриха Адамовича Смульского (1858—?) и Екатерины Леонидовны Белецкой (ур. Хорват). Род Смульских был утвержден в потомственном дворянском достоинстве по личным заслугам владельца имения Головик Бельского уезда, отставного полковника Адама Силезиевича Смульского по Гродненской губернии в 1892 г. По материнской линии принадлежала к известному дворянскому роду Хорватов. Правнучкой Кутузова была ее бабушка Мария Карловна, ур. баронесса Пилар фон Пильхау (дочь Кутузова Екатерина Михайловна (1787—1826) в первом браке была замужем за князем Н. Д. Кудашевым (? —1813), на их дочери Екатерине Николаевне Кудашевой был женат барон Карл Магнус Пилар фон Пильхау, и от этого брака родилась Мария Карловна (1839—1922?). Мать Юлии Александровны была родной сестрой управляющего Китайско-Восточной железной дорогой генерал-лейтенанта Д. Л. Хорвата. Ее первый брак оказался неудачным, и после развода в 1904 г. с отцом Лили, военным инженером Смульским, она вышла замуж за ротмистра Белецкого, который погиб на фронте в 1915 г. В 1907 г. Юлия Александровна вышла замуж за Карла Иоакимовича (Карла Александровича) фон Дена (1877—1932), в ту пору старшего лейтенанта Гвардейского Экипажа. 27 июля 1908 г. у них родился сын Александр (1908—1974), крестник Государыни Императрицы Александры Федоровны. Отличалась глубокой преданностью Императорской Семье. Государь писал Императрице из Ставки 26.2.1917 г.: «Видайся чаще с Лили Ден – это хороший, рассудительный друг». Находилась рядом с Государыней в тяжелые для Царской Семьи дни в конце февраля – начале марта 1917 г. Оставив восьмилетнего сына на попечение отца и прислуги, она помогала Императрице переносить обрушившиеся на Августейшую Семью нравственные и физические испытания. 21 марта по приказу Керенского была арестована вместе с А. А. Вырубовой. Почти двое суток провела в заключении в одной из комнат Министерства юстиции, а затем была отпущена домой под подписку о невыезде. Летом 1917 г. установила контакт с монархической организацией Н. Е. Маркова, которая занималась подготовкой освобождения Императорской Семьи. Однако их деятельность не принесла результата. После высылки Царской Семьи в Тобольск уехала в свое имение Белецковку под Кременчугом, где жили ее бабушка и мать. Предполагала оставить сына на их попечение и следовать в Тобольск, однако после большевистского переворота юг России оказался отрезан от центра, и вместо Сибири была вынуждена бежать в Одессу. Оттуда благодаря покровительственному отношению к России французских властей перебралась в Константинополь. Из Константинополя попала в Грецию и Гибралтар, а оттуда в Англию, куда прибыла вместе с сыном 19 июня 1919 г. и после трех лет разлуки встретилась с мужем. В 1922 г. написала и издала свои воспоминания: . London, 1922. Через некоторое время семья перебралась в восточную Польшу и жила в маленьком имении Holowiesk, которое принадлежало брату Карла Александровича. В годы Второй мировой войны находилась с сыном в Европе, а сразу по окончании войны они переехали в Южную Америку, в Венесуэлу. Жила в Каракасе вместе с сыном. Скончалась в Риме. Похоронена на кладбище Тестаччо. Ден Юлия Александровна, фон Madame Lili Dehn. The Real Tsaritsa
80
Речь идет о двух Высочайших телеграммах, написанных собственноручно Государем Императором Николаем II для председателя Городской думы Родзянко: « „Председателю Государственной Думы. Петроград. Нет той жертвы, которую Я не принес бы во имя действительного блага и для спасения родной матушки России. Посему Я готов отречься от Престола в пользу Моего Сына, с тем, чтобы Он оставался при Мне до совершеннолетия, при регентстве Брата Моего Великого Князя Михаила Александровича. НИКОЛАЙ“; „Наштаверх. Ставка. Во имя блага, спокойствия и спасения горячо любимой России, Я готов отречься от Престола в пользу Моего Сына. Прошу всех служить Ему верно и нелицемерно. НИКОЛАЙ“. Эти телеграммы не успели послать, как было получено извещение о выезде „для переговоров“ с Государем Императором делегатов от „Временного Комитета Государственной Думы“ Гучкова и Шульгина. „Не зная, какие условия будут поставлены Думским Комитетом, Государь потребовал составленные Им телеграммы обратно. Генерал Рузский отказался их вернуть, и лишь задержал их отправление“. Позже Государь Император изменил свое решение передать Престол своему сыну» ( . М., 2004. С. 243). 1. 2. Галушкин Н. В. СобственныйЕго Императорского Величества конвой
81
Имеются в виду два депутата Государственной думы А. И. Гучков (1862—1936) и В. В. Шульгин (1878—1976).
82
Около часа акт отречения в двух экземплярах и указы были напечатаны, и Государь подписал их. В слезах, едва смог от волнения скрепить их своей подписью граф Фредерикс. Акты с указами отнесли в вагон генерала Рузского и сдали под расписку депутатам. Вскоре поезд с депутатами отбыл в Петроград, а по телеграфу пошли донесения в ставку и в Петроград и даже был передан по проводу сам акт» ( . Мн., 2004. С. 690—691). «Совершенно понятно, что ни с юридической, ни с моральной, ни с религиозной токи зрения никакого отречения от престола со стороны Царя не было. «Мир не слыхал ничего подобного этому правонарушению. Ничего иного после этого, кроме большевизма, не могло и не должно было быть» ( … М.-Е., 2008. С. 61). « Спиридович А. И. События в феврале-марте 1917 года были ничем иным, как свержением Императора Николая II с прародительского престола; незаконное, совершенное преступным путем, против воли и желания Самодержца лишение его власти. Мультатули П. В. Великая война и февральская революция 1914—1917. Воспоминания. Мемуары Свидетельствуя о Христе до смерти
83
«В два часа ночи „Поезд ЛИТЕРА А“ отбыл из Пскова в Могилев. Перед отъездом Государь передал Воейкову следующую телеграмму: „Его Императорскому Величеству МИХАИЛУ. Петроград. События последних дней вынудили меня решиться бесповоротно на этот крайний шаг. Прости меня, если огорчилтебя и что не успел предупредить. Останусь навсегда верным и преданным братом. Возвращаюсь в Ставку и оттуда через несколько дней надеюсь приехать в Царское Село. Горячо молю Бога помочь тебе и твоей Родине. НИКИ“. Телеграмма была передана из Сиротина» ( Мн., 2004. С. 692). Спиридович А. И. Великая война и февральская революция 1914—1917. Воспоминания. Мемуары.
84
«Трудно встретить более благородное, более сердечное и великое в своей простоте прощальное слово Царя, который говорит только о счастье оставленного им народа и благополучии Родины. В этом прощальном слове сказалась вся душа Государя и весь его чистый образ»,– писал генерал Дубенский. […] «Демократическое» Временное правительство побоялось довести последний приказ Царя до армии. Специальной телеграммой Гучкова на имя Алексеева категорически запрещалось передавать приказ в войска. Алексеев, столь недавно рыдавший при прощании с Государем, немедленно исполнил этот приказ, хотя он не был даже в подчинении военного министра. «До Государя,– пишет Дубенский, – на другой день дошло известие о запрещении распубликовывать его прощальное слово войскам, и Его Величество был глубоко опечален и оскорблен этим непозволительным распоряжением» ( . М., 2004. С. 69—70). СобственныйЕго Императорского Величества конвой Галушкин Н. В.
85
Вдовствующая Императрица Мария Федоровна прибыла в Киев на свидание со своим Сыном 4 марта 1917 г. В своем дневнике Она записала: «В 12 часов прибыли в Ставку в страшную стужу и ураган. Дорогой Ники встретил меня на станции. Горестное свидание! Он открыл мне свое кровоточащее сердце, оба плакали. Бедный Ники рассказал обо всех трагических событиях, случившихся за два дня». Четверо суток Императрица находилась рядом с сыном. Последняя их встреча состоялась 8 марта, затем Вдовствующая Императрица вернулась в Киев, а Николай II должен был следовать в Царское Село. В своих мемуарах Великий Князь Александр Михайлович вспоминал: «Мы завтракали вместе. Ники старается подбодрить свою мать. Он надеется „скоро“ увидеться с нею. […] Без четверти четыре. Его поезд стоит на путях против нашего. Мы встаем из-за стола. Он осыпает поцелуями лицо матери. Потом поворачивается ко мне, и мы обнимаемся. Он выходит, пересекает платформу и входит в свой салон-вагон […] Поезд Ники свистит и медленно трогается. Он стоит в широком зеркальном окне своего вагона. Он улыбается и машет рукой. Его лицо бесконечно грустно. Он одет в простую блузу защитного цвета с орденом Святого Георгия на груди. Вдовствующая Императрица, когда поезд Царя скрывается из вида, уже не сдерживает больше рыданий». […] Вечером того дня Императрица записала в дневнике: «Ужасное прощание! Да поможет ему Бог! Смертельно устала от всего… Все очень грустно!» (. М., 2004. С. 306). Боханов А. Н. Судьба Императрицы
86
«По отпускным дням осенью и зимой 1916 г., когда Наследник бывал в Царском Селе, к Нему приезжали его могилевские приятели кадеты, братья Макаровы [Женя и Леля], состоявшие уже в 1-м кадетском корпусе. На вокзале их встречал боцман Деревенько и привозил к Наследнику; начинались прогулки и игры. Заметив во время первых свиданий некоторое смущение своих друзей, Наследник сказал, как вспоминает один из этих счастливцев-кадетов, «…если мы одни, называть Его «Алешей», если же есть поблизости кто-нибудь из генералов, то «Алексей Николаевич», а в присутствии Папы – «Ваше Высочество». Затем смотрели картины кинематографа, а после обеда Наследник показывал в детской Свои игрушки, играл на балалайке. Тот же кадет вспоминает трогательные подробности об отношении к нему Наследника: «На следующий день, проснувшись, я лежал и думал о прошедшем дне, как вдруг прибегает ко мне Наследник в одной рубашечке, прямо с кровати, и радостно объявляет, чтобы я скорее одевался, потому что едем в церковь…» В начале февраля 1917 года у Наследника опять были в отпуску кадеты. По воспоминаниям дочери лейб-медика Боткина, «в корпусе уже была эпидемия кори, и мальчика, жаловавшегося на недомогание, отпустили в Царское Село; через 10 дней корь появилась среди Царских Детей: 17 февраля, за несколько дней до последнего отъезда Императора, заболели Великая Княжна Ольга Николаевна и Наследник» (. Нью-Йорк, 1999. С. 17—18). Еще один друг Алексея Николаевича был кадет из Симбирского кадетского училища Василий Агеев. Впервые о нем упоминается в дневнике Цесаревича 22 июля 1916 г. Также одним из любимых товарищей Наследника был Коля – сын лейб-хирурга доктора В. Н. Деревенко. Савченко П. Светлый Отрок
87
Михаил Владимирович Родзянко (1859—1924).
88
(Леопольд Иоганн Стефан; 1853—1921), граф, из рода графов Бенкендорфов. Сын генерал-адъютанта графа Константина Константиновича Бенкендорфа (1817—1858) и Луизы Филипповны (ур. княжны де Круи). Приходился племянником шефу жандармов графу А. Х. Бенкендорфу. Принадлежал к ближайшему окружению Царской Семьи. Получив блестящее домашнее образование, в 1871 г. был определен на службу в Лейб-Гвардии Конный полк, в 1872 г. получил чин корнета. В качестве ординарца главнокомандующего действующей армии Великого Князя Николая Николаевича (старшего) участвовал в русско-турецкой войне 1877—1878 гг. В 1878 г. пожалован во флигель-адъютанты к Е. И. В. В июне 1893 г. произведен в полковники и назначен исполняющим должность гофмаршала Высочайшего Двора, а в октябре того же года утвержден в должности. С 1896 г. – Свиты Е. И. В. генерал-майор. В 1905 г. назначен генерал-адъютантом. В 1907 г. произведен в генерал-лейтенанты. В 1912 г. получил чин генерала от кавалерии и назначен обер-гофмаршалом Высочайшего Двора. Заведовал гофмаршальской частью Министерства Императорского Двора и Уделов. В 1916 г. назначен неприсутствующим членом Государственного совета. Будучи католиком, состоял ктитором римско-католической Мальтийской церкви в здании Пажеского корпуса в Санкт-Петербурге. Кавалер ряда высших российских орденов. Состоял в браке с кавалерственной дамой, бывшей фрейлиной княгиней Марией Сергеевной Долгоруковой (1846—1936). Его брат – Александр Константинович Бенкендорф (1849—1916), гофмейстер, посланник в Копенгагене (1897—1902), чрезвычайный и полномочный посол в Англии (1903—1916). По свидетельству генерал-лейтенанта А. А. Мосолова, «Государь и Императрица относились к нему с большим доверием и дружбой. Все бывшие в России высочайшие особы и главы государств хорошо знали и ценили нашего гофмаршала. Бенкендорф не последовал с Государем в изгнание, как этого хотел, лишь по совершенно расстроенному здоровью. Большевики его долго не выпускали из России» (М., 1993. C. 109). Выехал в Эстонию, скончался в январе 1921 г. в г. Нарве в маленьком госпитале на эстонской границе, подхватив простуду во время бегства из России. Граф не владел английским языком, но в совершенстве знал французский. Оставил воспоминания, которые сначала печатались на французском языке в парижском журнале «Revue de Deux Mondes» (1927—1928), а затем вышли отдельным изданием: London, 1927. Бенкендорф Павел Константинович Мосолов А. А. Benckendorff P. При Дворе последнего Российского Императора. Last Days at Tsarskoe Selo.
89
(1883—1956), родилась в Санкт-Петербурге, дочь российского посланника в Дании барона Карла Карловича Буксгевдена (1856—1935) и дворянки Людмилы Петровны Осокиной (1858—1917). Вдовствующая Императрица Мария Федоровна назначила ее фрейлиной летом 1902 г. В ноябре 1902 г. Людмила Петровна и ее дочь были представлены Марии Федоровне в Аничковом дворце, а затем Государыне Александре Федоровне и Императору Николаю II в Царском Селе. В ноябре 1904 г. была впервые приглашена на дежурство в Александровский дворец. Первый период службы продолжался шесть недель. После этого она уехала в Данию к своему отцу помогать на различных служебных мероприятиях и не состояла на службе вплоть до лета 1911 г., когда ее пригласили поучаствовать в круизе на императорской яхте «Штандарт» в финских водах. В марте 1912 г. Государыня попросила баронессу приехать во вновь отстроенный Ливадийский дворец на два месяца с пребыванием на ее половине. В ноябре 1913 г. в знак доверия и особого почета она была официально принята в штат личных фрейлин Императрицы вместо уходившей с этого поста Лили Оболенской. Получила шифр фрейлины (бриллиантовую брошь «А») лично от Императрицы Александры Федоровны. Тогда же она вошла в группу личных фрейлин вместе с Анастасией Гендриковой, Соней Орбелиани и Ольгой Бюцовой. После февральского переворота находилась под арестом вместе с Царской Семьей в Александровском дворце. Добровольно последовала за августейшими узниками в ссылку в Тобольск. «Фрейлина баронесса С. К. Буксгевден приехала в Тобольск незадолго до Рождества со старушкой англичанкой (Miss Mather), другом детства ее матери. Она задержалась в Петрограде из-за операции аппендицита и, как только поправилась, добилась от Керенского разрешения присоединиться к Царской Семье. Однако Солдатский комитет Отряда особого назначения, от которого фактически зависела вся жизнь Царственных узников, не допустил ее к Царской Семье и даже потребовал ее удаления из Корниловского дома, где была размещена свита» (СПб., 1998. С. 179). Сопровождала царских детей в Екатеринбург, где была с ними разлучена и отправлена в Тюмень. Позже баронесса Буксгевден и пожилая англичанка были вынуждены снять квартиру в городе и жили там на средства от преподавания английского языка частным лицам. После убийства Царской Семьи решила присоединиться к Вдовствующей Императрице Марии Федоровне. На поезде Британской военной миссии добралась до Владивостока и в феврале 1919 г. покинула Россию. Через Японию и Соединенные Штаты добралась до Лондона. Встретившись в Дании со своим отцом и Императрицей Марией Федоровной, переехала снова в Англию, где была назначена неофициальной фрейлиной при маркизе Милфод Хэвен (принцессе Виктории Баттенбергской), старшей сестре Императрицы Александры Федоровны. После ее смерти в 1950 г. стала близким другом и доверенным лицом ее сына Людвига (1900—1979), лорда Маунтбеттена. Проживала в Лондоне в доме, где жили разные члены английской королевской семьи, расположенном через дорогу от парка Кенсингтон, в пяти минутах ходьбы от Кенсингтонского дворца. Скончалась в Лондоне в госпитале принцессы Беатрис 26 ноября 1956 г. Похоронена на кладбище Олд Бромптон. Написала три книги воспоминаний: . Лондон, 1928; – Лондон, 1929; . Лондон, 1938. Полностью изданы в России в 2012 г. Буксгевден Софья Карловна Алферьев Е. Е. Письма Святых Царственных Мучеников из заточения. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России Минувшее. Четырнадцать месяцев в Сибири во время революции: декабрь 1917 февраль 1919. Перед бурей