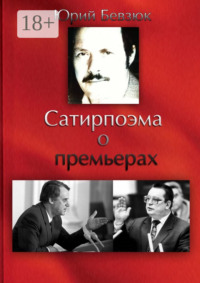Полная версия
Дневник школьника 56—57 года
Вскоре за Надеждинcкой мне пришлось обогнуть невысоким, но крутым подъемом, заросшим невысоким дубняком, железнодорожный туннель, за которым линия несколько километров шла в том же дубняке, затем показалась речная протока, довольно широкая, свежий северо-западный (я смотрю по карте расположение той протоки) ветер гнал по ней частую рябь, набегавшую на отлогий болотистый, в кочкарнике, берег. В отсутствие солнца пейзаж был безрадостный, мало-помалу, но довольно быстро я убеждался в неосуществимости своих намерений, однако мне не оставалось ничего, как топать дальше по шпалам. Сейчас бы было весьма муторно, но тогда, в 10 с половиной лет, расстояние между шпалами как раз равнялось моему шагу… Еще к одной, взъерошенной ветром протоке подошел, спустившись с насыпи и преодолев кочкарником метров с полсотни. Что-то в этих частых набегающих волнах было созвучно моему настроению – я все же, несмотря на удрученность и как бы нереальность своего состояния все же безлюдьем упивался – несмотря на почти отчаянье. Я понял, что мал еще, никак не подготовлен к уединенной жизни, что мне следует покориться обстоятельствам, вернуться домой, как это ни ненавистно. Как бы ни не хотелось! …К закату подходил к Кипарисово, два солидных кирпичных здания станции первоначальной дореволюционной постройки как стояли, так и стоят теперь, но больше ничего не было, халупки какие-то не запомнились. Перед станцией в опасной близости от путей бегала стайка обшарпанной, одетой в рвань – бросилось тогда в глаза и до сих пор стоит! – ребятни, сильно бедностью от даже Чуркинской отличной Дети кричали, бегали друг за другом, играя в простейшую игру «пятнашки», на меня проходящего никто не обратил даже внимания, и я потопал в сумерках в наступившей вскоре густой тьме в недалекое уже Раздольное – до него от Кипарисово 6 км, но оно, известно, весьма длинное, от южного края до северного, где станция, еще 6—7 км. Пришел к 22-м, к тете зайти не было и помысла, понимал, что только встревожу ее, в столь необычное время заявившись Есть тоже не хотелось (возможно, съел те полбулки, что купил в городе). В тот день я отмахал более 30-ти км по шпалам, то был мой первый большой переход. Я понимал, что родители без ума и не стоит свои провинности усугублять
Сел в последний пригородный поезд, тогда еще на паровозной тяге, обычные жесткие вагоны. В одном купе со мной была пышная молодая ослепительная блондинка, такой красоты женщин не встречал до тех пор на Чуркине, а в городе бывал редко. Видно, была отобрана для какой-то конторы, а скорее всего жена офицера. Именно к ней, на пике своей удрученности, почти отчаяния ощутил тогда первое чувство…
Случившаяся со мной передряга ему наверняка способствовала, потому и пришло тогда первое половое чувство, что помогло мне одолеть отчаянье: жизнь сулит впереди много еще хорошего, раз есть красавицы такие…
Словом, редкой тогда красоты блондинка очень для меня счастливо под конец тот мрачный денек осветила…
…Едва успел на последний катер через бухту; взошедшая только к полуночи луна освещала кладку водоотводного коллектора, выложенного из притесанного гранита. Об эту каменную невысокую стенку, что тянулась, если от катера, вправо впритык к шоссе – хотелось разбить голову – так не хотелось домой идти …Постучался не в дверь, а в окошко, обойдя дом, в спальне родителей. Отец открыл форточку и тихим голосом, почти шепотом спросил: «Юра, ты один?» Отец боялся, как бы за мной не было грабителей, проникавших в дома через детей. Ничего, естественно, даже ругани, мне не было – отец был рад, что хоть за полночь, но я вернулся домой. Ничего мне не было и в школе за ту порванную стенгазету…
* * * * *
Переход в 5 классе на многопредметность («многоучительность») дался мне болезненно: надо было приспосабливаться к 5-6-ти преподавателям вместо одного. Нечего говорить, что каждый предметник старался заявить о себе строгостями, чтобы получше вели себя на его уроках. Появились у меня и двойки в дневнике, без которых все же обходилось в начальных классах даже в начале учебного года (к концу – одни 4-ки и 5-ки). Первые двойки вызывали у меня панический страх: как же взыщет на них отец, если не давал житься за «тройки»? месяца два в начале пятого класса прошли под этим страхом, «терял» дневник с «двойками» в карьерчике выше шоссе, перед оврагом, на нижнем со школы пути
Мрачное было время – полтора года оставалось жить Сталину, в полной силе был еще репрессивный дух 30-х и всей послереволюционной эпохи; недавняя война оказывала свое особое гнетущее последствие, как бедностью и разрухой, так еще больше «остаточной подлостью» уцелевших, – и испытавшим об этом трудно судить, а не испытавшим вряд ли возможно. Авторитарность, репрессивность времени усугублялись в школе и семье моей врожденной неспособностью «подчиняться» – на улице больше сказывалась моя открытость и наивность, мешавшие приспосабливаться. Из этих трех сред самым тягостным было угнетение в семье – через школу, где тоже поначалу (учебного года) сказывалась моя слабая приспособляемость, но потом проявлялись все же способности и знания в сравнении с другими. В семье же, как упоминал, сравнение было не в мою пользу: брат был с первого класса круглым отличником и отец, конечно, неоднократно мне этим пенял. Но никакой зависти или каких-либо недобрых чувств к брату у меня не возникало, так как я даже с первого класса меру своих способностей ощущал, -даже и в сравнении со взрослыми. Как уже упоминал, фатальное значение имел фактор не генетический, а средовой; именно что отец, будучи младшим сыном в семье, причем с большим отрывом от старшего брата – 18 лет! – совсем не испытал в детстве отцовского гнета, да и братского – он, конечно, был на попечении старших сестер. И представить ему мои печали в детстве было трудненько уже по причине слабой способности к рефлексии, отвлечения, воображения
Имело и то значение, что мать была 7-8-ю годами моложе, -отец, конечно, её подавлял – и от него она невольно переняла и манеру обращения неласковую, по крайней мере со мной, прибегая нередко даже к матерной брани, что переняла от отца или даже еще раньше. А меня мат травмировал с самых ранних лет, и до сих пор, правда, теперь я допускаю его в необходимых случаях для пущей экспрессии, но всю жизнь ни-ни!.. До внезапного овладения, на 66-ой уже зиме!, – рифмой: здесь уж главенствует наивысшая экспрессивность… В конце концов, я мать от мата к старости (ее) уже здесь отучил, по три дня с нею не разговаривая, где-то уже упомянул об этом в своих растянувшихся на много лет воспоминаниях – где-то с конца 80-х вспоминаю те или иные эпизоды, но разбросано в дневниках, из них трудно извлечь, приходится повторяться, но каждый раз другими словами, в другой связи, с другими оттенками …и в лучшем качестве…
…И все же мать старалась защитить меня – она-то в полной мере испытала угнетение в семье мачехи и могла мне сочувствовать – от неистовств отца, сочетавшего по части воспитания детей предрассудки патриархальщины с самоуверенностью некоторого выдвиженца из селянств. Сюда, к упомянутой неспособности к сочувствию, – добавлялась мнительность и опасливость – тогда нередко за детей провинности привлекали к суду родителей. …Отец даже как-то попытался применить на практике завет старшего из упомянутых Сидоренок: «пори пока можно уложить поперек скамейки». Или, может быть, он вычитал у Горького описание субботней экзекуции над ним и прочими детьми его дедом Пешковым. Но я уже был лет 10-ти и мигом понял что к чему, да и они с матерью, видимо, смутно ощущали неуместность подобной экзекуции из-за моего возраста, – вырвался с криком и убежал, а братишка, двумя почти годами моложе, подвергся, о чем долго позднее с обидой вспоминал… Тот случай с попыткой экзекуции говорит о самом дремучем невежестве среды, из которой отец происходил, и хотя вскоре, через три всего года я смог воспрянуть методами отчасти тоже репрессивными, – все это годам уже к 20-21-му внушило мне отвращение от людей вообще, особенно от семейной жизни в последующем и стало неодолимым препятствием – по знаниям и способностям – моего адекватного участия в делах общества. Конечно, валить все на среду нельзя, в той дичайшей попытке экзекуции со снятием штанов многое объяснимо робостью, даже трусостью отца от природы, что сочетаемо со «взрывами» смелости, а так же – осмелюсь предположить – его ограниченной сексуальностью, которой он вот таким варварским способом пытался восполнить дефицит …во всяком случае как его преследования за «тройки» вместо поощрений за «пятерки» (тоже ведь были, и побольше!) в ранние годы внушило невольно недооценку собственных способностей в критически важные годы после школы, – так и его мнительная сверхозабоченность как бы его дети не оказались хуже детей старших брата и сестер – почти вовсе запретила мне заниматься своими. Словом, все сошлось: и гнет патриархальщины, и суровость послереволюционного и послевоенного времени, и синдром «младшегобрата» со стороны отца, и мое первенство, на котором он родительскую оскомину сбивал, и глубокая характеров несовместимость – отцова въедливого, ограниченного, мнительного, робкого и потому вспыльчатого, – и моего спозаранку склонного к рефлексии, принимаемой отцом за лень, – критичности, отцом никак не понимаемой: злобность ведь не есть критичность, ибо ведет к умножению зла… Еще нас глубоко разделяло то, что отец был в общем закрытым человеком, его попытки откровений, вроде вот той скамьи сидоренковой, были как бы вылазки изнутри во вне и не от себя, а от неких авторитетов, – я же с детства, чуть не с младенчества был открыт, наивен, медлителен в реакции на требования среды, что не удивительно: моя реакция на взаимоотношения людей не была автоматической, как физиологическая реакция на опасность, которая была мгновенной (мое детство обошлось без травм по этой причине, как и последующая жизнь), – что вскоре в драках проявилось, – отцом эта замедленная реакция на требования принимались за лень, даже глупость (не понимает, мол, чего от него требуют)…
Эпоха требовала послушания, подчиняя самолюбия отдельных личностей высшей общественной цели, и использовала то, что имелось – патриархальщину*, которой коллективизацией был нанесен удар, но не окончательный, – да совсем она исчезнуть – и не должна. Эпоха была великой – но и во многом (в быту) мелочной
Отца еще долго вспоминали в Рыбном порту по работе, он стремился верно служить стране, одной женщине, ее детям – потомству, в конечном счете. Это были черты величия – но вот описание мелочности, сравнимой по неразумию с той самой корыстью Тараса Бульбы, из-за которой он лишился жизни, возвратившись при погоне подбирать утерянную люльку, – дешевенькую курительную трубку из древесного корневища
Вот случай, когда ничтожный повод имеет тяжелые, далеко идущие последствия. Таковым для меня в конце 5-го – начале 6-го класса явилась книга Натана Рыбака «Переяславская Рада». Отец, начавший ревностно собирать библиотечку, эту пухлую пропагандистскую книгу очень ценил. И надо было мне отдать ее красивой однокласснице Алле Блиновой (отчасти похожей на блондинку, с которой возвращался домой после неудачной попытки побега). Она была и старше года на два, тогда после войны много детей пошли в школу переростками из-за оккупации, да и увлекались необоснованным оставлением на второй год (чего не избежал и Ельцин, сидевший в школе 12 лет) – Великая эпоха с мелочностью – по причине бедности – сочеталась, как уже сказано. Не помню, с разрешения отца дал Алле ту книгу или без оного, но отец вскоре о ней вспомнил …А у меня не хватало духу затребовать книгу назад – я робел расцветавшей женственности Аллы, считал мелочностью востребовать книгу – у какой-нибудь ровесницы, может быть, и спросил: сказывалась неблагоприятность неравенства возрастов (через год скажется еще больше моим конфликтом с переростками Левченко и Кравченко, но уже не с такими удручающими последствиями – в конце концов, я тогда, познав интриганство и предательство, морально победил). А Натан Рыбак мне дорого обошелся. Отец каждый день, только придет с работы, с порога: «Принес книгу?» А я все стыжусь книгу затребовать. Нашла коса на камень! Тогда впервые проявилась вся моего характера непреклонность и вся мелочность отцовского, повлекшая драматические последствия уже вскоре. Наконец, то ли он погнал, то ли я сам пошел на Поселковую, где в обшарпанных, но многочисленных бараках почти под Змеинкой жила Алла Блинова (из-за книги я ее фамилию в числе немногих одноклассников на всю жизньзапомнил!) Убогость тех бараков бросилась мне в глаза даже по сравнению с двумя другими, ближайшими скоплениями бараков, мимо которых приходилось часто ходить, – на Кипарисовой и Запорожской. Но зайти к Блиновой я и там не решился, подумав, что книги там просто может и не быть, отдала кому-то в свою очередь, и я, совсем понапрасну, унижусь перед Аллой и кто там еще будет в комнате. Удивительно, что эта простая мысль не пришла к отцу, – куда уж там ему было понять, что у меня уже появилась стыдливость перед противоположным полом, боязнь проявить мелочность, скаредность. В годы его детства таких ситуаций и не могло быть – книг попросту не было! Ну нет книги – не доводить же 6-классника до невроза!
И вскоре появился невроз Нечто вроде частичного аутизма: не мог начать «отвечать» урок, если фраза начиналась с твердой согласной – те, дэ-до, пэ, рэ и т.д., – это произошло в начале 6-го класса или немного погодя, к ноябрю, как раз в разгар травли меня отцом из-за пресловутой книги. Жизнь моя школьная сильно осложнилась, мне приходилось заранее придумывать начало фразы с гласной – о, а, и, е, э – но все равно при заминке опять эти п-п-п-проклятые т-т-твердые согласные и совсем замолкаю А к шестому классу мне уже было что сказать, начало честолюбие пробуждаться в связи с половым созреванием, и надо же! В обычном разговоре, в спокойных, непринужденных условиях никакого заикания не было. Только на уроках. Может быть, сказалось сотрясение мозга почти за год, перед новым, 52-м годом? Тогда мы в полутьме коридора (в 3-ю смену) носились по коридору на переменке, столкнулись, – и я отлетел на радиатор парового отопления, ударился переносицей, потерял «сознание», кое-как довели до парты, там очнулся, но, идя домой, чувствовал тошноту и рвоту. Но могла ли та травма сказаться заиканием чуть не через год? Вряд ли, почти год прошел – скорее взросление, в неблагоприятных обстоятельствах долгой удрученности, на фоне морального террора в семье. Встревоженный отец отвел меня в поликлинику к невропатологу, красивой женщине (похожей на Александру Коллонтай), участливо меня расспросила, сказав: «А ты пессимист!» – «А что это такое?» – «Ну, видишь все в черном цвете»…
Нет добра без худа – в порядке компенсации я приналег на задачки, к новому году искрой проскочило умение их решать сначала по геометрии, потом и по другим предметам, требующим применение математики. Лестно решить одному из класса задачку, это давало уверенность и «отвечать», кроме того, во втором полугодии вообще происходит сближение с учителями, непринужденностъпоявляется Да и готовиться поневоле пришлось к «ответам» лучше, чтобы не запинаться.
А с началом весны 53-го произошло событие чрезвычайное: 5 марта умер Сталин! Помню сплошной гуд по Чуркину – кроме заводов, будивших на работу, в обед, и с него, после работы, включили, наверное, мощные сирены ПВО. Скорби особой не припомню и печали, но смерть Сталина означала вскоре массовый прием в комсомол всех старше 14-ти лет, и тут акции мои поднялись: я разъяснял всем, кто спросит, где какая страна, кто там премьер-министр или президент, какие партии, какая форма правления. А принималось много, только в нашем 6-м (а их было до пяти-шести!) не меньше десятка, подал заявление и я, хотя и не хватало до 14-ти более полугода. Какое это было священнодействие – заполнение «анкеты вступающего в ВЛКСМ»! подумать только – приобщаешься к миру взрослых, к славной организации, в которой состояли Павел Корчагин (Николай Островский), молодогвардейцы, многие прочие герои!
…Большая толпа теснилась перед дверью, где принимали в комсомол на школьном комитете, все, особенно девчонки, страшно волновались и наперебой спрашивали меня по уставу, политике, международному положению. Я мог ответить на любой вопрос, задававшийся на комитете. То же повторилось и в еще большей тесноте перед дверью бюро райкома комсомола. Я уже считал себя членом комсомола, бойко ответив на заданные мне вопросы, но меня-то как раз не приняли. Я ответил на все вопросы, но кто-то из членов бюро спросил: «Юра, а в каком месяце ты родился?» Пришлось сказать правду, и меня не приняли – не хватало возраста слишком много, более полугода. Не понять сегодня глубину моего отчаяния, не передать словами! Подобного не было ни до, ни после. С горя я накупил по копейке полные карманы коробков со спичками, сковыривал серку с их головок в дуло «поджиги», трамбовал, потом газетный пыж, кусочек свинца сверху – и раз за разом бухал, целясь в консервную банку, уединившись в овражек, впадавший в основной чуркинский распадок слева, если вниз со стороны улицы Олега Кошевого, где сейчас шоссе по Калинина взбегает на взлобок Окатовой площади. Через лет 6 на месте того овражка, уже засыпанного, была как раз времянка и наш огород – большой шлаколитой дом стоял на твердом мыску между овражками, срезанном бульдозером.
В комсомол меня не приняли, затем последовало «боевое лето 53-го», уже неоднократно описанное, в 7-й класс я пошел как-то вдруг выросшим, раздавшемся в плечах, окрепшим – меньше чем за год я физически превзошел своих однолеток, но в классе было до пяти переростков годами тремя-четырьмя старше, то есть в возрасте, когда Аркадий Голиков (Гайдар) уже полком командовал Первым учеником с 6-го класса считался Левченко Павлик, коему было лет уже 17. На родительском собрании классная как-то сказала, а отец потом рассказал «Паша Левченко такой аккуратист!» (с тех пор у меня к аккуратности определенное презрение, хотя, конечно, в том нет плохого, напротив). В 6-м классе ему еще не трудно было первенствовать, тем более что где-то на западе уже прошел 6-ой класс, но не успел сдать экзамены. Но уже к концу 6-го я стал поджимать его, а в 7-м уже явно оттеснил на второе место по всем предметам, за исключением скучной алгебры, по которой первенствовал тоже не Паша, а Кочетков, на полгода моложе меня и ростом не вышедший, но бойкий, сын капитана 1-го ранга. Этот Кочетков вскоре, то ли перед новым годом в декабре, но не позже января 54-го проявил и реакцию, и наблюдательность, и высокие моральные качества – он один выступил в мою защиту, когда я подвергся неожиданной (для себя – Кочетков кое-что заметил) обструкции вплоть до организации избиения со стороны великовозрастных. Нелады мои с ними начались еще с сентября – я стремился поприсутствовать на комсомольских собраниях, считая к тому же этих переростков недостойными быть в комсомоле из-за мещанской склонности к пересудам, сплетням и резонно полагая, что на их собраниях особых секретов быть не может. Они ж меня гнали вместо того, чтобы приветствовать мою тяготу к комсомолу, воспринимая комсомол лишь как средство выделиться, поважничать перед одноклассниками, -то есть противоположно его демократическому духу организатора молодежи. Я уже тогда все это понимал и негодовал, видя их полнейшее равнодушие и непонимание этой роли комсомола. Зато малейшее проявление полового их сильно интересовали. …В первой своей попытке воспоминаний я об этом последнем даже не упомянул, считая малосущественным. От того мое тогдашнее описание попытки избиения меня переростками неполно, к тому же выпадает важный персонаж, притом относящийся к потом так и не встреченному прогрессивному женскому типу, – и, главное, отношение той уже девушки ко мне меня тогдашнего характеризует, – что совсем было упущено в 1956 году, хотя прошло всего менее трех лет… Это пример того, что кое-что важное вблизи не видится – только по прошествии лет многих…
К началу 7-го к «старому» составу класса прилилась свежая и я бы сказал, прогрессивная струя – это упомянутый Кочетков, для своего возраста даже маленький но развитый – умственно и морально, и девушка, может быть слишком даже развившаяся. Она могла быть и моих лет, и не более года старше, тоже из семьи, наверное, военных, которых судьбина через год погнала дальше, возможно, ближе к центрам страны. Забыл и имя ее и фамилию – польская на «…ская» и весьма редкая, что-то вроде «Целиковская», но не так, еще откровеннее – не могу вспомнить, хоть убей*. Уже фамилия ее редкая и странная вызвала усмешки вышеупомянутых переростков, но еще более ее, как бы поточнее сказать, слишком нескрываемая влюбленность в меня чуть ли не с первых чисел сентября. Я был совершенно не готов к этому вдруг свалившемуся на меня предпочтению почти уже развившейся девушки. Она была даже симпатична, но не совсем в моем тогдашнем вкусе – позднее, возможно, признал бы ее даже красивой, во всяком случае, оригинальны были тонкие черты ее треугольной формы, с высоким и широким лбом, лица каштановолосой шатенки со светло-карими глазами, – за всю последующую жизнь не встретил более женщину или девушку такого типа, еще более редкого чем тот, к коему относилась моя вторая (и последняя) жена Людмила – на нее похожих я дважды встретил в 90-е, а уж способность к типизации женщин у меня развилась!
*Пучкова! Вспомнил с полгода назад, наткнувшись на эту фамилию в какой-то книге
Были еще подобные влюбленности в меня: в 21 Тани Румянцевой, которая будет описана, в 65—66 аж двух девушек из студенческой группы на истфаке ДВГУ, о коих упомяну, – те уже вполне могли обрести реальность, если бы отвечали моим предпочтениям. Так что свое счастье я упустил – или оно уплыло! – слишком рано, когда не могло еще осуществиться
Я был, словом, не столько польщен, сколько озадачен. Девочка почему-то сильно влюбилась в меня, стремилась сесть за одну парту, просила другую девочку пересесть, льнула ко мне на переменах, совершенно не умея скрыть своих чувств, абсолютно безразличная к пересудам. А я по отсутствию опыта и отвлекаемый пробудившимся честолюбием, совершенно не мог ее редкое чувство оценить. И качества! Конечно, там играли гены – в той девочке, она чувствовала, возможно, что уже не встретит подобного мне, хотя моя наружность к оригинальным не относится, разве тогда уже рост и сила, да определенная смазливость, которая у девушки тяги не могла вызвать …она учуяла, возможно, что-то во мне нечто необычное
Я не только не мог тогда, будучи совершенным «телком», оценить свалившееся на меня неожиданное счастье, но даже смущался им, тем более что великовозрастные Павлик Левченко и сверстница его Кравченко, угловатая некрасивая девица с бельмом на одном глазу, высмеивали всячески увлечённость девушки мною. Их фамилии запомнил, а любившей меня не помню!
Мне мало утешения, что и она, возможно, не встретила потом мне подобного…
И вот к декабрю (черновик писался 4 года назад, так что примем декабрь) дошло до того, что против меня составился заговор, о котором никак не подозревал… Мы ходили во вторую смену, темнеет в декабре рано, на последних уроках включали свет. Конечно, этим баловались, выключали внезапно, и вот как-то раз сразу вслед за выключением света, как закончился урок, я, еще сидевший за партой, ощутил тяжелый в затылок удар – так мог меня наградить только Максим (Максименко), годом всего старше меня, но кряжистее, более массивной комплекции, вечный обитатель «Камчатки», последних то есть парт. Свет тут же включился, и меня еще кто-то слегкапо плечу ударил – только прикоснулся едва – этого я успел увидать: Гена Тарасенко, который был со мной на ноге приятельской …я несколько раз у него на дому бывал, – на северном, к Мальцевской, склоне Двухгорбовой, выше шоссе нынешнего Гена был парень покладистый, на два с небольшим года старше меня, учился неважно, я помогал ему решать задачи. У него было бельмо на одном глазу, был он высок, кудлат и похож в моем представлении на Алексея Пешкова (писателя Максима Горького) в молодости Он тоже – из-за своего роста – был вечный обитатель «Камчатки», только на крайнем от двери ряде, а крепко приложившийся к моему затылку Максим (я еще успел инстинктивно подать вперед голову, сработала моментальная реакция) сидел на среднем ряде. В крайнем от окон ряде на последней парте сидела «одноглазая» (тоже с бельмом) великовозрастная девица Кравченко, на первой парте того же ряда, прямо у учительского стола, сидел столь же великовозрастный (17 лет!) Павлик Левченко, заслоняя от учителя сидящих за ним на четыре года младше.
Как только свет включился, маленький Кочетков закричал от двери:
«Это Левченко подстроил!» Он, видимо, заметил, как тот шушукался с экзекуторами, и не побоялся крикнуть, причем с негодованием – он ко мне не слишком-то льнул, даже конкурент я был ему по алгебре: нисколько не убоялся тех дядей, из которых Максим был тяжелее его вдвое! К этому амбалу Максименко у меня не возникло никаких из-за его тупости враждебных чувств, Гену Тарасенко я сразу простил, понимая его несамостоятельность (у меня тогда и мысли не возникло, что и в Гене, хотя он пользовался моей помощью, мог быть мотив зависти и, главное, что мне – «пацану» – было выказано половое предпочтение; кстати, не «положил» это и на Левченко, когда писал в 56 свои первые воспоминания), – еще менее могло мне тогда придти в голову, что и Максима и Тараса Левченко мог попросту подкупить? Словом, малой ценой всего лишь одного, хота и увесистого удара по затылку, не повлекшего никаких последствий, я получил ранний опыт интриганства по отношению ко мне, наемничества со стороны Максима, предательства со стороны Тараса – и бескорыстное проявление благородства маленького Кочеткова, имени которого даже не запомнил. Ошеломленный ударом, я в числе последних из класса покинул в тот вечер школу, а на следующий день негодование против Левченко помешало расспросить Кочеткова подробности подстрекательства великовозрастного Левченко против меня. Очевидно, он сам выключил свет, сразу Максим ударил меня – и сразу они смылись, а Кочетков, сидевший на первой парте среднего ряда, встал-вскочил раньше меня и увидел Павлика у выключателя – и немедленно разоблачил его. Тарас же «прикоснулся» ко мне уже при включенном свете, и я видел его, но сразу понял «формальность» его прикосновения. «Мстить» Максиму я и не думал, хотя к тому времени имел уже опыт успешных ударов – никто ведь из шпаны летом прошедшим не устоял! Но я уже чувствовал, что такому амбалу нужен особо сильный удар, а упадет – может разбиться насмерть. Я уже после осеннего удара по Карасю – не со всей силы, кстати, – уже познал силу своего кулака (об этом, кажется, в воспоминаниях 56-го года распространяюсь) … Я не то что подумал, а чувствовал, что с Максимом одним ударом может не ограничиться и сам мог пострадать, словом, не пошел на эксцесс, да это было бы ниже моего достоинства. А Павлику спустить я не мог. В полдень следующего дня я подскочил к нему в толпе собравшихся перед входом в школу – там была узкая, шириной метров с 8, бровка ровная между школьным крыльцом (которого не запомнил, как ни странно и широкой лестницей, выложенной из песчаникового дикого камня, спускавшейся на площадку пошире, где играли и в футбол, а в глухом конце была стенка из бревен, подпиравшая склон, – на тех бревнах вывешивались мишени, и десятиклассники со ста метров стреляли по ним из малокалиберок, а мы, младшеклассники, потом кусочки смятого свинца выковыривали) … Перед этой лестницей вниз из дикого камня я подскочил к Павлику, изобразил пару боксерских выпадов – причем оба раза он трусливо уклонился, будучи женоподобным по натуре, – если б я хотел ударить, он, конечно бы, не успел уклониться Он был тремя годами старше, конечно, сильнее меня, только 14-летнего, и ростом выше среднего, но тонок, узок в плечах. Его лицо красноватое, узковатое, голубоглазое, красивое даже – с изящными чертами, маленьким ртом* (*Как у бюста Цицерона на обложке сборника его речей, изданных в начале 50-х) – побледнело, он растерялся, струсил, – чем я и удовлетворился вполне. Он учился последний год – по окончании семилетки поступил в мореходную школу и стал, как вроде бы слышал, неплохим судовым механиком, но, думаю, при своих способностях интригана, не замедлил вскоре пробраться во власть, – о чем у меня лишь предположения. Возможно, все же, женоподобие в характере помешало.