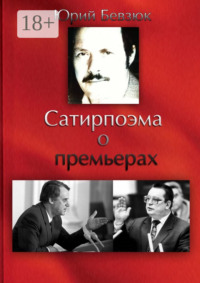Полная версия
Дневник школьника 56—57 года
Летом года 52-го светлым завершилось позднее детство и отрочество раннее …Лето 53-го началось нелепостью: отсмотрев в клубе бригады подлодок на Улиссе фильм о партизанах, в отряд которых затесялся провокатор, – наутро мы, до 4-5-ти ровесников, – на желдорнасыпи собрались, где кончается завод 602 – и метров триста до Тэобразного пирса, – и стал я дурачиться, того провокатора мимикой изображая …И вот узнал, что похож лицом на того симпатичного гитлеровского агента, – и, главное, – какую у ровесников вызываю зависть: не запомнил кто крикнул из них: «Провокатор!»; на первый раз не стал паршивца бить …не сохранив, однако, невозмутимости, – да и вряд ль помогло бы: учуяла слабость стая завистников: на другое же утро начала меня травить, из неё выделившегося. Это было сродни древней инициации, проверке на прочность – прошел, значит, чтобы вожак, как и произошло в масштабе уже школы и даже в чем-то и района
Мы пасли тогда последнее лето своих коров, потом был пастух уже. До этого серьёзных ссор не было, хотя меня стали ранодразнить – сначала «головастиком» из-за большой круглой головы, «корейцем» из-за прищура, потом голова стала нормальной, вытянулась, подрос под неё и не щурился больше. Дразнили и матерным словом, созвучным с фамилией, но я «проглатывал», что ж тут поделаешь, и не прицеплялось. А тут прицепилось. А я был тогда страшным патриотом, 53-й ведь год шел, я поступал, но не был принят в комсомол после смерти Сталина в начале марта. «Толпа» почуяла слабину и стала донимать, поддразнивать – когда трое их или даже пятеро – поодиночке или даже вдвоем-втроём остерегались. Самому первому я пустил юшку Гришке Рыбалко, он самый вредный был [и умер рано, в 40] Затем Юрку Тимофеева, с которым раньше дружил (оба были начцехами в Диомидовском заводе), сбил одним ударом в воду на бухте Улисс, и тоже окровенил. «Толпа» пугалась моей внезапной ярости и не пыталась даже ответить. А я и сам не знал, что в следующий момент взъярюсь, но бил прицельно и резко, – и всегда сразу, одним ударом кулака сбивал с ног. До этого никогда – и даже не думал, что могу …к концу лета отведал моего кулака и Кисилёнок, они жили рядом, но не близко, через два огорода. Тот угодил вниз головой в глубокий кювет дороги на большой Улисс, где она на взблоке поворачивает чуть дальше того места на железке, где завод кончался и мне вдруг взбрело передразнивать злополучного того провокатора из фильма. На тот раз их было много, не меньше пяти-шести. Они окружили меня, держась на расстоянии, и мы поднялись метров на 200 по склону вверх, да, Кисилёнок сразу же выхватил ножик, как выбрался из кювета, они взялись за камни, палки, я тоже ухватил хороший каменюк. Так и сидели мы с полчаса вооруженные, я в центре, а они метрах в 10-ти каждый пока нервы у меня не выдержали, и я с рыданием «прорвал блокаду». Никто меня не преследовал, но поскольку Кисилёнок был блатной [его старший брат Кисель (от фамилии Киселев) сидел и сгинул в тюрьме потом, и многие мои ровесники на трёх улицах Двухгорбовых], – меня стала «ловить» шпана не только с Двухгорбовой, но и Окатовой и даже с Улисса. Хорошо, что нашелся у меня товарищ – Генка Писанко, которого дразнили «жирой», он был приземист и силён, единственный сынок у мамы с папой. Простые его родители надеялись на его способности к рисованию, только у него на всех Двухгорбовых был велик, и ещё кое-что, потому шпана тоже его недолюбливала как кое-что имущего. Он в то лето огрел велосипедной цепью Маркона, верзилу года на три старше, но тоже обозвавшего его «жирой». Ровесников он вроде бы цепью не угощал, а Маркона не стерпел, его стали тоже ловить, так и ходили мы вдвоём, он с цепью в кармане, я же надеялся на камень, которых на Чуркине везде полно, не таскал с собой ничего. Так и звали нас Донкихотом и Санчопансой, однако побаивались. Злобы особой не было, но ловили, раза два или три меня предупредил братишка Саша, который со шпаной ладил, он гулёна был, хотя учился хорошо – всё давалось ему слёту в младших классах, словом, он понятен был, я уже переставал и улица это ощущала. Так и ходили мы, и к поздней осени перестали и ловить, но вздумалось мне в начале ноября пойти одному, Генки почему-то не было, в Бригаду [подводных лодок], где после ужина бывало кино для матросов, на которое ходила вся округа, дети и взрослые. На последних я и надеялся, но их никого, поздняя была осень, а шпана стояла в тени на углу клуба тесной толпой, грелись друг от друга в ожидании конца матросского ужина. Я расхаживал от крыльца с высокими колоннами в древнегреческом стиле туда – назад, не доходя метров пяти до шпаны. Сначала она была ошеломлена моей наглостью, затем слышу тихо-тихо: «провокатор». Раза два пропустил, [не зная, кто вякнул] расхаживая и закипая – и надо же было вякнуть Карасенку, ровеснику, пацану совершенно безобидному, но именно на него «спустилась» моя ярость: я раздвинул толпу числом 15—20, стоявшую плотной кучкой, бедно все одетые (я получше), взял одной рукой Карасенка за грудки, подтянул к себе, и другой «вварил» так, что сразу он на моей руке наземь осел. Я – из толпы, оглядываюсь – его подняли, зажгли спичку: громадный наливается синяк под сразу оплывшим глазом. Я – быстрее от толпы, она медленно сначала за мной, я еще быстрее – полетели вслед камни, палки. Я бежать, они за мной, но скоро отстали… Перелезши через сеть противолодочного загряждения, я сел на землю, подождал Ваньку: – Чего бежишь? Еще хочешь? —
– У тебя пятак есть накрыть синяк …а то отец бить будет…
Разжалобился я, и очень расстроенный пришел домой и встревоженный, [Тогда ведь было строго, чуть что – и посадили даже и в 14 лет, лишь бы придраться было к чему, по глазу все же «вварил»]…
Следующим летом брат Карасика, большой Карась на побывке из армии встретившись на подъёме с Улисса, спросил: «Ты Ваньку бил?», и не дожидаясь ответа смазал меня чуть-чуть двумя пальцами по щеке. [Вовка Пилипчук, парень годами двумя-тремя постарше стоял в стороне, да и слишком быстро большой Карась ушел дальше вниз].
С той поры никого не бил, и лишь однажды, в 9-м классе уже, как-то боксировал в честь покупки боксерского снаряжения с одним амбалом из класса младше, но явно тяжелее и сильнее меня, и заметил, что он закрывает глаза. Я задел его перчаткой слегка, он отлетел всей тушей на гимнастическую стенку, аж задрожала, я ещё – он снова спиной на стенку, а потом разозлился, размахался ручищами и меня тоже задел слегка, голова загудела – выйдя вниз из школы обнаружили, что он забыл сумку с учебниками, я шапку, или наоборот.
В 10 классе у нас объявился чемпион края среди юниоров Каплан, первый год в школе, перворазрядник по боксу. Занимался их 10-й класс в актовом зале, на сцене они устраивали турниры, две пары боксёрских перчаток так там и висели. Каплан всё уговаривал меня побоксировать с ним, я отнекивался, но тогда и долго ещё потом уговорить меня было не трудно – согласился. И вот Каплан прыгает вокруг меня, я в глухой защите, руки то есть прижаты в перчатках к подбородку, голова лбом вперед. А сам он приоткрылся, и я слегка зацепил его в подбородок, сам не помню как [сработала, видно реакция, которая не подводила меня и потом все 11 лет в тайге, когда работал штатным охотником, да и до охоты походов было не мало. Привычка похваляться не оставляет до старости], а тогда, свалив чемпиона, оторопел: вдруг вскочит и выдаст мне по первое число! Но лежал он все положенные до нокаута секунды, я тем временем ретировался, выходя из зала оглянулся (чемпиона поднимают с пола вялого очень). Тогда я всерьёз задумался о том, что легко и убить человека кулаком, грохнется на камень головой и всё – и ты пропал [тогда не разбирались что к чему: лагеря алкали непрерывного пополнения. Это я понимал уже и в 53-м, а в 56-м тем более: не о лагерях, – почему были они, конечно, а что очень легко сажали. Но вернёмся к тогдашнему дневнику]
Надо сказать только, что меня не бил, кроме пощечин от отца, никто, тем более не сбивал с ног Только однажды получил увесистый удар по затылку.
В конце декабря 53 года, перед самым новым годом, вдруг кто-то выключил сразу после окончания последнего урока свет, я несколько помедлил за партой и получил тяжелый удар сидя по затылку, свет включили и я увидел как Тарас, мой вроде бы приятель, тоже слегка стукнул по плечу на пути выхода со своей «Камчатки». Кто бил, сразу объявил Кочетков, недавно прибывший некрупный паренёк, преуспевавший по алгебре, сын капитана 1 ранга, смелость, видимо досталась ему от отца: он был вдвое меньше Максима. А подговорил Левченко. Ну, что от него этот удар, нетрудно было догадаться – Павлик Левченко великовозрастный, четырьмя годами старше меня, он в шестом твёрдым хорошистом был и притом «аккуратистом», как классная на родительском собрании сказала, а отец мне, – а тут в седьмом я вдруг всплываю на первое место. Он хорошего роста был, соразмерный и даже бы красивый, с румянцем на щеках, слегка рыжеватый, – а поведение бабье было, любил шушукаться, сплетничать, особенно со своей ровесницей Кравченко, интриган от природы был. Он и подговорил – и наверняка подкупил! -туповатого, но шкапистого Максима «отметелить» меня, приложить свою тяжкую длань к моему затылку; аж у меня «искры посыпались» из глаз, хорошо, что моментальная реакция, не весь удар голова моя приняла, подалась книзу. А Тарас за ним лишь слегка меня по плечу, его я уже видел сбоку.
На следующее утро у входа в школу подскочил при толпе к Павлику, изобразил ярость, замахнулся – он побледнел со страху, отшатнулся. Он трусоватая такая цаца был; конечно, он и с двумя такими подростками, как я тогда, справился бы, не будь бабистым таким.
Так я познал сразу и интриганство и предательство: это необходимые к дневнику добавления, чтобы можно было представить, какой же отдушиной стал для меня колхоз летом 1954-го. Но вернёмся к дневнику]
Несмотря на все эти баталии, в которых я ощутил тяжесть своей длани, сердце у меня было мягкое, обиды прощал быстро и подлости всякие, и был влюбчив, правда слегка, так себе, то одна нравилась, то другая. Не на ком было остановиться.
Несмотря на малость лет, я уже думал по-взрослому и жаждал знаний и свободы. Вместе с тем твёрдости не было, силы воли, излишняя стыдливость мешала и наивность ещё. В 6-м классе я начал преображаться. Преодоление заикания потребовало воли, надо было подавить волнение при выступлении перед классом, конечно, для этого надо было твёрдо знать о чём говоришь. Во-вторых, стал усиленно читать политические, экономические брошюрки и уже во 2-й половине уч. года делал доклады о международном положении. В 3-х, уже к декабрю 52-го вдруг стал понимать геометрию и без труда решать задачки по ней, правда, алгебра ещё затрудняла, а по геометрии просто видел решение. К концу года стал гораздо лучше говорить [Надо сказать, мне очень помогла наша классная, по русскому и литературе. Такой внимательной учительницы до того не было. Да и потом не встретил: она похожа была на «Кружевницу» Кипренского, яркий очень румянец, круглое лицо и полноватая ладная фигурка, весьма, как теперь говорят, сексапильная, а попросту она восполнила пробел женственности в моём детстве: сестёр не было, на улице почти все пацаны – восполнялась убыль мужского пола в недавней войне. Но доброты её хватало на многих, я в ней тогда нуждался и она уделила, – а я тогда, в 56 году не записал даже её имя-отчество-фамилию, считая, что не забуду никогда! Забыл. События колхоза, секретарства и конфликта с учителями в 10 классе, фамилии предыдущих учительниц зачеркнули, но не их образы. Математичка тоже была красивая, но в другом роде – высокая, стройная, ноги вместе как-то особенно, сдержанная, цвет лица ровный, золотистый слегка, кожа матовая. На контрольных она подходила и заглядывала в тетради тех, от кого ожидала решения. Ко мне чаще всего. Как-то подошла, стала рядом и заглядывает, наклоняясь через плечо, а я ещё не решил по алгебре, у меня от страха и видимо от пробуждавшегося пола случилась вдруг поллюция – вот тогда то и приналёг на математику и геометрия стала ясна] и выделился из ученической среды, и в других классах – и даже в 8-х почему-то стал известен [видимо, учителя говорили; и в 7-м меня поначалу преследовали тройки и даже двойки случались по причине врождённой неуслужливости, и это была удача, что по русскому-математике оказались хорошие учительницы, обе, кстати, «овчарки», жены то есть офицеров, года 2 всего были, видимо мужей перевели куда-то] Это подогревало моё самолюбие.
Сразу после смерти Сталина я в числе многих шестиклассников поступал в комсомол, не приняли меня одного, хотя все вступавшие у меня спрашивали по политике, где кто премьер, в какой стране и где эта страна. Но меня спросили на бюро после того, как чётко ответил на все вопросы, в каком месяце родился – не хватало до 14-ти почти полгода! Не приняли, это сильно расстроило меня, но утвердили уже в августе заочно, но не знал до января 54-го. А всё лез на собрания комс-группы класса, где верховодили Левченко и Кравченко, на 4 года меня старше.
Они в оккупации были, не учились, тогда много таких понаехало. У Кравченко, настоящей уже тёти, любившей посплетничать с Левченко на пару, было бельмо на одном глазу. И вдруг я узнал в январе, что комсомолец! Скольких с Павликом Левченко б неприятностей избежал, если узнал сразу. И дома гнёт к тому времени, к началу 54-го, ослаб с успехами в учёбе – отцу лишь бы троек не было, раньше бы ему отстать от меня и не мешать. За зиму с 53 на 54 я как-то быстро подрос, стал лишь на полголовы его ниже, а он выше среднего, а по силе, пожалуй, сравнялся, хотя он далеко не слаб был. Мешки с соей таскал запросто по 30 кг в крутую гору для скота и птицы, как ранее он. [От магазина на «Чайке»] А с 5-го по 6-й он меня донимал, угнетал, заикание, возможно, было как раз от того
Он младшим был братом в большой семье крестьянской под Благовещенском, в которой рано, в 1915 году умер отец, старший брат Степан был лет чуть не на 20 его старше, грамоте в армии научился. А отец родился уже в 1913-м, и между ним и Степаном – ещё три сестры. У них у всех как раз дети институтов понаоканчивали, Степанов один сын лётчиком был, другой, белобрысый Федя, даже инженером-атомщиком в Челябинске, и у старших сестер отца дети хорошо учились, способные были, в начальство повыходили – они все постарше меня и я, тревожился отец, как бы балбесом не оказался, как он заранее обзывал меня в младших классах при получении троек (а уж за двойки… Я прятал дневник в карьере перед оврагом, боялся, как бы не убил)…
Почти каждой учительнице с первого класса казался почему-то очень самоуверенным, хотя никакой ни шалун я был, не вертелся, молчун как раз – они сами прицеплялись и мне говорили, и родителям жаловались на мою «самоуверенность», хотя откуда в первом классе? Маска просто была защитная. И хотя я ещё год назад, в Кропоткине, [шести лет] читал бегло даже газеты [и расплакался, прочитав о Владивостоке …чего сам не помню: запомнилось взрослым], – они мне в начале года во всех начальных классах тройки ставили почти по всем предметам, потом разбирались – и к концу года уже – одни четвёрки и пятёрки и похвальный лист, и книжка. …Брат же младший, почти на два года, но шел в школе следующим за мной классом, напротив, сразу очаровал учительницу, сразу у него одни пятёрки, и хотя шалун и вертится на уроках, – ему одни похвалы, потом отец его успехами меня «балбеса» тыкал. Правда, эта учительница братнина хорошая оказалась, очень даже, повезло ему, и вела его по четвёртый класс, а у меня в первом классе сменилось их с десяток. 1948 год, как видно даже из этого, гораздо полегче был 1947-го…
Отец семилетку ещё в 30-е годы окончил, тогда это в редкость было под Благовещенском, образованным себя считал, в армии лейтенантом, маленьким, но начальником – начхимом полка во внутренних войсках. И хотя высмеивал «службистов», от них многого набрался. [Почти начисто лишен был рефлексии, «чисто всё конкретно». Но честный. В Рыбпорту уже и тогда тащили солёную рыбу в основном, да и не по одной. И помнят отца там до сих пор, хотя 22 года после смерти, с выхода на пенсию аж 32. Младший брат у меня и племянник от другого брата там работают, недавно подтвердили, помнят в Рыбпорту отца. И на похоронах в 1982-м, полутора неделями раньше похорон Брежнева, один из руководства порта очень взволнованно, проникновенно об отце говорил. Конечно, нетерпимость к глупости и нерадению у меня и от отца, от кого же ещё, а рефлексивность не знаю от кого – не от матери, она тоже сугубо конкретная, работящая – от отца её, Давида Дьяченко вряд ли или может, от кого-то из рода Шульга. Оттуда и ген блондиноидности – младший брат и один из сыновей моих чистые блондины.
Отец, конечно, много неприятностей по работе нёс, как старший стивидор, вот дома и вымещал на мне, как на первом. Ещё, может быть, он дочки хотел, а тут все пацаны, аж четверо. Но на младенцах не выместишь; да я ещё не услужлив, непреклонен был по натуре. Хватали горечи мы друг от друга когда я мал был – и [лет до моих 26-ти вплоть …когда меня, ветерана-сержанта, служившего два года на капитанской должности, – в 65-м году кандидат юрнаук Елисейкин и Овчинников, доктор оных, – лишили стипендии повышенной мракобесно при поступлении из армии в ДВГУ: об этом книга: «Благодарность Родины»]
Словом, светлым у меня ко времени колхоза в 54-м в отношениях с людьми была только материнская доброта учительницы русского, но тогда я об этом не задумывался и даже не записал её имени. Ну, природа была, рыбалки – и книги, фантастика, приключения – «Как закалялась сталь» прочитал рано и запомнил – классе втором, как лежал с неделю у сестёр Шульга из-за кори, там и вкусил впервые уединения, и хороши были обе сестрички около за 20-ти лет, высокогрудые, ладненькие, запомнилось даже с тех нежных лет]
Судьбоносным воистину мне 1954-й год явился; недели две бродил один я на каникулах, на школьный двор забрёл по случайности чистой …а там с полсотни старшеклассников назавтра собираются в колхоз (нам, бывшим 7-миклассникам повестки не присылали); я, младше всех, приписался гамузом
…Раньше мне никогда не приходилось бывать в таком коллективе. Главное, там девочки хорошие были, среди них две оказались красивые, даже три …но Ольгу я сначала не заметил, больно мала тогда была, скромна, как мышка …но именно в неё потом влюбился
…Среди же девочек некрасивых очень хорошие были, особенно Надя Павлятенко, красотой не отличалась, но очень у костра голосистая как и из 9-а, кроме Ольги, остальные… После ужина мы шли к костру, не все, а кто любит попеть или послушать. «Горят костры далекие…», «Вот кто-то с горочки спустился…», «Цветёт, цветёт пшеница полевая…», ну и «Степь, а степь кругом…» и другие, много хороших песен знали девочки [которые и посейчас греют душу, а то всё нытьё, хрип и визг поросячий], я любил слушать, хотя сам не пел, медведь мне, как тогда казалось, на`уши наступил [а не совсем оттоптал слух, способность вывести голосом мелодию выявилась совсем недавно] …Мы ужинали в школе, потом шли к костру в сумерки, Ольга Макарова сама брала меня под руку в этих стометровых переходах, раза 3—5, и даже поначалу позволяла моей голове полежать у неё на коленях, даже сама, кажется, первая положила. Но я был тогда такой телок [да и долго потом], что не придавал этому никакого значения, а потом увлёкся трудовыми подвигами и уставал. [И только когда стал перечитывать дневники уже в 80-х, резануло вдруг 40 лет спустя …Макарова и походила на артистку-однофамилицу, только у неё было лицо и женственнее, мягче и – поскромнее она по натуре была, тише той артистки, ну и 17 её лет Блондиночка была даже с веснушками слегка, кажется; не такого мил-друга ей бы тогда, как я, еще телок, – хотя ростом рано вымахал, были в группе и постарше меня парни года на два, и озабоченность уже у них была, как подмечено потом в дневнике, но фона нынешней помешанности на половом не было – неужто не ответят развратители, губители молодых душ! – не тонули утончённые души в животности омуте …а животные всегда ведь в нём
Критически важной для роста моего миропонимания школьная была зима 53—54 гг. Для лучшего представления происшедших со мной сдвигов следует отступить на несколько лет назад, до 51
Младшие классы, как уже говорил, были для меня темным временем, мало что и запомнилось. Ни в октябрятскую, ни в пионерскую иерархию меня не выдвигали, вся моя жизнь сосредотачивалась внутри, в мечтаниях, – под влиянием, конечно, прочитанных книг. Мне импонировали описания уединенности, когда, допустим, партизаны оставляли мальчика одного в избушке, и он развлекался видом сучка в свежеструганных досках потолка, меня такие подробности умиляли. Или устройство земляной печурки на первых страницах «Подпаска» Петра Замойского (вот запомнил даже имя!). Еще больше меня впечатлили описания холодной прозрачной струящейся воды ручья, в котором начали вылупляться мальки кеты в «Тайне маленькой речки» Трофима Борисова – приморского писателя 30-х годов (вот бы переиздать большим тиражом!). Позднее сильнейшее впечатление оказал на меня роман его же «Сын орла» – о борьбе нанайцев с хунхузами китайскими, песню Плеуна из романа я распевал в упоении («…Пиля-Кхерха (Сихотэ-Алиня) горы там…» – как будто в предвкушении того, что и мне в тех горах уже придется походить и пожить) … Зачитывался я и описанием путешествий В. К. Арсеньева в начале века по Приморью, тогда лежали еще в книжных магазинах небольшие томики его собрания сочинений в темнозеленой картонной обложке, выпущенные в 1948—49 годах (давно не видел те томики, дорогую память о детстве, издать бы их надо именно в таком же виде! Не залежатся). Но наибольшее влияние на меня оказал, конечно, «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. Это, по-моему, самая великая книга для детей, подлинно образующая и даже психотерапевтическая. Из книг Жюля Верна, долго восхищали меня увлекательные описания свободной коллективной жизни с «нуля» закинутых воздушным шаром на необитаемый «таинственный» остров участников гражданской войны в США, – но в своих разнузданных мечтаниях я представлял себя одним, по «Робинзону», в наших, конечно, условиях, то есть комбинированно с «Тайной маленькой речки». Живу в землянке на берегу маленькой реки, строю ее воображемо, ловлю осенью кету, солю, делаю туески из березовой коры, заполняю их икрой, собираю картошку по огородам, не хозяевами докопанную, как мы и практиковали осенями, пекли ее в золе от той же картофельной ботвы (до 10% картофеля остается недокопанным). Интересно, что и женщины, репрессированные из-за мужей в 30-х, по O. Л. Адамовой-Слиозберг тоже «мечтали о том, как они отбудут свой срок, встретят мужей и в хижине, в лесу будут жить вдали от людей»…
Мне тогда не надобилось еще присутствие другого пола, интерес к нему появился впервые как раз во время драматического возвращения домой после провала попытки осуществления первой своей робинзонады в 51-м году (потом была еще вторая успешная – 1971-82-м, и вот третья, – здесь уже с 1984-го осени, 20 лет будет осенью, – и это уже последняя)…
Все произошло случайно. Мы «бесились» на большой перемене, это было в начале апреля 1950-го года. Я толкнул кого-то на лестничной площадке, он отлетел на стенку, где висела школьная стенгазета, и разорвал ее, к моему неописуемому ужасу, за столь тяжкий поступок мне мерещились самые тяжкие кары, когда дойдет до отца. Тогда-то я и решил осуществить свою мечту: убежать в тайгу, вырыть землянку. Ушел сразу после инцидента на лестничной площадке, прогулял где-то пару часов, мать послала меня за хлебом и дала сравнительно крупную для меня купюру в 25 рублей (описано 4 года назад, и достоинство купюры исчезло из памяти, как будто держалось до той поры, пока не поверил бумаге! Надо спешить и с последующими воспоминаниями). Переехал на катере на Мальцевскую, – пройдя по базару, увидел небольшой ножичек в чехле на прилавке базарчика и принял окончательное решение! Купил тот ножик, полбулки хлеба, проехал трамваем до вокзала, взял билет до Надеждинской – дальше пригородный поезд не ходил. В Надеждинской сошел и двинулся по шпалам дальше. Денек был пасмурный, холодный, какие выдаются в начале апреля (в такой же бродил с другом Валентином по свалкам 20 лет спустя, собираясь переселяться в Совгавань). Дул навстречу мне пронизывающий северняк, шел я по шпалам, не думая ни о чем, вожделенного в мечтаниях леса поблизости не было, а когда показался и темнел в отдалении за кочковатым болотом, то уже не манил: у меня не было лопаты вырыть землянку, не было топора, никакой посуды (все же, смутно помнится, купил еще и котелок), никаких припасов. Довольно быстро тогда я постиг разницу между мечтаниями и реальностью, и мало-помалу росло отчаянье. Решил идти пока в Раздольное, где жила тетя Надя, сестра отца и где я неоднократно бывал, и от этих побывок сохранились хорошие воспоминания – из самых лучших от детства. Года за два до моего злополучного бегства из дому отец косил сено на островах Суйфуна, жили в большом шалаше – балагане, я ходил по кромке воды, собирал ракушки и камушки. На берегу стоял еще старый балаган, к его крыше прислонялись несколько удочек разной длины, одна так метров 6. По вечерам у костра собиралось несколько косарей, пили вкусный чай, заваренный местными травами (вкус того давнего чая запомнился на всю жизнь), пели песни потом, среди косарей было две-три молодые женщины. Жили в шалаше дней 5—7, для меня то было самое сильное воспоминание раннего детства, – но у отца – узнал от матери прошлым летом – подобных воспоминаний не осталось: накошенное тогда сено конфисковали – совхоз не выполнил план по сену – сразу за мостом через Суйфун на трассе. Я до прошлого года этого не знал. С тех пор отец уж сам сено не косил, а несравненно худшее покупал