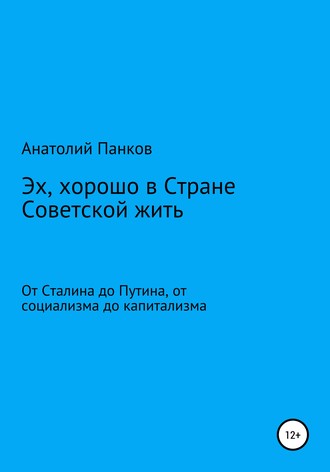 полная версия
полная версияЭх, хорошо в Стране Советской жить. От Сталина до Путина, от социализма до капитализма
Возле станции Перово, где я провёл большую часть детства и отрочества, через все железнодорожные пути (а их там десятка полтора!) был перекинут длиннющий пешеходный мост. Очень высокий, поскольку под ним ещё ходят и пассажирские поезда по насыпи. Ну, зачем же залезать на мост? Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт… И это притом, что на этих стальных нитках постоянно курсируют поезда. Причём в таком порядке, что и не знаешь, откуда он может появиться. В том числе и задом – так, как им и положено идти на сортировочную горку. Вот народ и повадился ходить не на мост, а через сортировочную горку. Поезд задом пятится, все вагоны у него уже заранее расцеплены, и с горки каждый вагон с ускорением скатывается самостоятельно по заранее выбранному диспетчером пути. Пока не подогнали следующий вагон, можно успеть перейти, а дальше пути посвободнее, или, по крайней мере, поезда проскакивают быстрее. Но на горке постоянно переключаются стрелки. И одной женщине на стрелке зажало ногу. Несчастная кричала: «Спасите меня, отрубите ногу!» Поезд остановить не успели. А кто же решится рубить ногу, да и чем? Женщину задавило.
Я об этом случае знал, и никогда нигде не наступал на стрелки: автоматика сработает, и не успеешь среагировать.
Более того, я перестал ходить на горку, а, экономя метров сто, просто на ходу медленно ползущего расформировывающегося поезда запрыгивал на переходную площадку с одной стороны и спрыгивал с другой. Но однажды мне преградил путь еще один поезд. Он тоже шёл не быстро. Когда я уже спрыгивал с переходной площадки, я почувствовал, что мои ноги уезжают… с поездом. Мои ботинки прилипли к ступеньке, замазанной смолой, а я уже наклонился, чтобы спрыгнуть. Я падаю вниз головой, быстро-быстро перебираю руками по земле. По шпалам. По разбегающимся во все стороны рельсам. И смотрю, чтобы не удариться головой о низкие синие светофоры. Обошлось. Ботинки отлипли, я свалился на рельсы благополучно. Но с тех пор перестал ходить и под мостом. Только тогда до меня дошла серьёзность предупреждения железнодорожников: сэкономишь минуту – потеряешь жизнь.
Но теряли жизнь, и не пересекая «железку». В те времена у электричек входные двери были не автоматическими. В часы пик столько набивалось народу (как ныне в метро), что люди хватались за поручни и почти навесу ехали до ближайшей станции. Однажды и я рискнул поехать так же. То есть я посчитал, что вот сейчас народ в тамбуре умнётся, и я протиснусь, уверенно встану обеими ногами. Но народ не умялся. Я держался за поручень лишь одной рукой и стоял лишь на одной ноге, всё остальное висело над быстро замелькавшей землёй. Спрыгнуть было поздно, и я держался из последних сил, молил бога, чтобы не поднажали изнутри, истошно вопил, и пять минут езды до следующей станции мне показались вечностью.
Но, несмотря ни на что, страха перед железной дорогой у меня не было – я вырос рядом с ней. И когда однажды я очень спешил домой, а электричка вместо того, чтобы остановиться на станции Перово, сначала сбавив ход, затем стала ускоряться, я прыгнул. Платформу уже миновали. Дело было ранней весной, ещё лежал снег, сильно набухший, рыхлый. Я несколько метров проскользил на четвереньках по грязно-снежной каше. В одной руке я держал свёрнутый кусок ватмана с моим очередным курсовым проектом. Чертёж разломился вокруг моей руки. Вся работа пропала.
Почему я рассказал об этих опасностях юной жизни? Обо всех этих трагических случаях мама, конечно, узнавала. Если не от меня, то по «сарафанному радио». А если и не узнавала, то всё равно переживала, боялась за меня, страшилась неизвестности, когда я, не предупредив, задерживался.
Повзрослев, я стал давать ей повод для новых переживаний. Я мог до трёх часов ночи гулять с девчонкой (а она жила как раз по ту сторону железнодорожных путей!), не предупредив о позднем возвращении – телефона-то не было. Мог по месяцу не писать писем из армии, занятый своими армейскими проблемами… Она переживала, плохо спала, и без того мучаясь по ночам от боли в суставах. При этом она никогда меня не укоряла, лишь просила быть осторожным…
Но только, сам став отцом, я понял, как тяжело переживать отсутствие информации о ребёнке. Когда в этой жизни столько опасностей. А, видя сейчас муки людей от артроза, только теперь понял, как мужественно вела себя мама, которая терпела практически непрерывную боль на протяжении долгих лет, при этом не жалуясь. И лишь, когда совсем было невмоготу, просила помассировать её суставы. И я массировал…
Какие грехи она замаливала в кругу баптистов?
Безграмотная, мама не могла проконтролировать мои домашние задания, посоветовать что-то почитать. Сама она стала регулярно читать лишь тогда, когда болезнь уже совсем одолела её, и мама всё больше сидела на диване или лежала в постели. Читала она очень толстую и мудрёную книгу – «Библию»!
Одна из наших соседок оказалась баптисткой, стала к ней часто захаживать, беседовать… Мама, когда покрепче была, особенно и не интересовалась церковными делами, праздниками, не очень-то знала православные каноны, никогда не соблюдала их и в церковь ездила только раз в год, если силы позволяли, чтобы освятить куличи. Правда, меня, ещё голопузика, родители окрестили. Но это – скорее дань русской традиции, чем верование (тем более что отец был далёк от религиозных убеждений). А тут ежедневно – «Библия»! И не только. Отдельно было «Евангелие». А ещё – изумительно иллюстрированная старинная книга «Потерянный рай» Миллера. Наверно, за картинки с богом и ангелами эта книга тоже воспринималась как священное писание.
Мама читала по слогам, вслух произнося их и складывая в слова и фразы. Пользовалась лупой. Иногда просила меня, безбожника, почитать ей. Читал.
Библейские мудрости меня не заинтересовали, а вот «Потерянным раем» зачитывался. Ну, и история сотворения мира богом была мне любопытна, хотя, конечно, я не верил в эту чушь: «В первый день Бог создал…» Смешно читать это в двадцатом веке, тем более в двадцать первом, когда про Небо, то есть про Космос и про Вселенную, цивилизованному человечеству стало многое известно (хотя, конечно, ещё далеко не всё). Про всякие дела Христовы, особенно про его волшебство (шёл, аки посуху, накормил одним хлебцем, вылечил…) любопытно, но не более: не реалистично это. Хотя и допускаю, что две тысячи лет назад жил человек, обладавший какими особыми физиологическими способностями.
Даже подростком я ощущал, что в действиях бога и его сына немало противоречий. Ну, хотя бы такой пример. Чтобы спасти человечество от неразумного поведения, бог потопил почти всех людей, выбрав для спасения лишь «экипаж» Ноева ковчега. Да ещё разместив на этом судне представителей всего живого мира: каждой твари по паре. Пытаясь быть документальной «Библия» даёт точные размеры в локтях. Приняв «локоть» за полметра, вычислим размер Ноева ковчега: это примерно с современный четырёх-пятиподъездный девятиэтажный дом. Как разместить в таком пространстве «всякой твари по паре»? Как смогли оставшиеся после божественного геноцида два человека собрать в одном корабле слонов (пара) и носорогов (пара), китов (пара) и осьминогов (пара), крокодилов (пара) и антилоп (пара), львов и овец и т. д. и т. п. И откуда они взяли на борт столько еды (разнообразной и не скоропортящейся)? Ну, ведь несусветная чушь!
А христианская мораль? Она меня не то, что не увлекла – раздражала. Она никак не согласовывалась с реальной жизнью. Даже самих попов: «с первого щелчка поп прыгнул до потолка…» И тем более я противился этому уничижительному обращению – «раб божий»… Нас учили с первого класса: «мы не рабы, рабы не мы». Конечно, по факту советские люди стали рабами наземно-партийного «бога». Однако это понимание у меня пришло позже. А с детства верил: «мы не рабы»! И не хотелось быть рабом… Правда, только много лет спустя я понял: рабство бывает разным, в том числе и добровольным, по идейным соображениям.
Религиозность мамы усилилась не только из-за болезни и одиночества, не только потому, что муж открыто загулял на стороне, – она хотела замолить свои грехи. «Да какие, мам, у тебя могут быть грехи?» – удивлялся я. «Нагрешила я, Толь, ой, нагрешила…», – упорствовала она. Чем? Когда?
Помню, в Москве, во время войны, к нам приходил какой-то мужичок, электромонтёр. Сначала он поколдовал с электроплиткой. Газа, конечно, не было. На дровяной печке готовить некогда. Поэтому пользовались электроплиткой. Это примитивное устройство состояло из металлического корпуса с ножками, термостойкого керамического «блина», в ложбинке которого лежала спираль. Однажды я, стоя на полу, протянул руку на стол, где стояла эта плитка. Хотел что-то взять, дотронулся до мокрой клеёнки, и меня тряхануло током. Как это могло случиться, что и где законтачило? Вот электромонтёр и разбирался.
А потом он подарил нам «жулика». Вряд ли современный потребитель электроэнергии догадается, что это такое. Дело в том, что тогда за электричество платили не по счётчикам, а по числу потребительских точек: лампочек, розеток. И, чтобы скрыть лишнюю точку, обычный патрон светильника меняли на специальный, у которого были отверстия для вилки. Жульничали. Чтобы снизить коммунальные расходы.
Потом электромонтёр стал захаживать и без вызова и нашей бытовой надобности. Мама, виновато улыбаясь мне, уходила с ним. Можно ли её осуждать за эту связь? Муж ведь уже несколько лет как «пропал без вести» на фронте. Ей было-то лишь чуть больше тридцати лет. А «жизнь проходит стороной»… Тогда она согрешила?
Помню также, что на селе, ещё до возвращения отца, стали поговаривать, будто за ней ухлёстывает один мужик. Глава огромного семейства! И якобы моя мама потворствовала той порочной степной связи. Может, где-то в поле и согрешили они. По крайней мере, дети этого мужика, с которыми я всегда играл, вдруг стали злобно ко мне относиться. Однако я не верил в эту порочную связь, уж слишком неправдоподобной она мне казалась. В отличие от той, городской, с электромонтёром. Хотя чужая душа – потёмки…
Но, думаю, не это мама считала своим грехом – в конце концов, мужа она практически похоронила. Подозреваю, что она делала аборты. Более того однажды она почти проговорилась об этом.
При большевиках аборты сначала были легализованы. И наша страна стала чуть ли не первой в мире в этом отношении. Но затем, пытаясь волевым способом повлиять на повышение рождаемости, в 1936 году наложили запрет. Допускалось лишь в редких случаях – по медицинским показаниям. Поэтому миллионы советских женщин избавлялись от ненужной, неплановой беременности подпольным путём. Часто даже без врача, которому надо было немало платить. Решались провести операцию самостоятельно, скажем, используя подручные средства, например… вилку. Ужас! Отсюда и гибель от кровотечения или заражения, и бесплодие…
Аборт – не просто насильственное прерывание плода, это – убийство, грех, считают многие. Вероятно, этот грех мама и замаливала всю оставшуюся жизнь.
По-прежнему в мире идут жаркие споры: разрешать или не разрешать аборты. Церковники практически во всех странах – за запрет. Врачи, социологи, либеральные политики – против запрета. И дело не только в «грехе». И не в споре: это – новый человек в материнской утробе или всего лишь эмбрион, часть женского организма? Конечно, аборт, как любое хирургическое вмешательство опасен. Он может привести к тяжёлым последствиям для здоровья женщины, к бесплодию (особенно если аборт совершён до первых родов). Но аборт зачастую вынужденная мера: из-за физического состояния женщины, её тяжёлой наследственности, из-за беспросветного материального положения, из-за насилия, из-за внебрачной связи (а как иначе скрыть, если «залетела»!)… По-моему, главное в решении этой проблемы – права человека, который сам делает осознанный выбор (если не считать эмбрион полноправным человеком). И в этом смысле запрет абортов, так же, кстати, как и их обязательность в перенаселённых странах, на мой взгляд, недопустимы…
Грехи молодости, замкнутость в домашних стенах из-за болезни, разлад семейной жизни – что из этого или всё вместе повлияло на вовлечение мамы в религию? Не знаю…
В отличие от ортодоксов баптистам-евангелистам церковь как здание для молебен не так обязательна, да и священник менее нужен. Человек напрямую обращается к богу, без живых посредников и без намалёванных изображений никем не виденного всевышнего и не запечатлённых на фотографиях или фресках Христа и его матери. В этом смысле протестантские вероисповедания, на мой атеистический взгляд, разумнее, демократичнее. И просто человечнее. Но к тому времени я уже стал комсомольцем, и решительно спорил с мамой по воду её религиозности. В моей памяти эти споры не слишком отложились, но вот что неумолимо (и не в мою пользу) свидетельствует пожелтевшая бумага дневника за 1955 год:
«12 апреля. С мамой ссоримся ещё чаще и жёстче… Ссоры обычно возникают из-за «господа бога». Мне становится не по себе, когда я вижу унижение верующих перед своим «всевышним». Как это гадко! Споры переходят на бытовые случаи. Если я окажусь прав, то меня обвинят в том, что я… ещё мал, и больше никаких доказательств в свою защиту. После каждого спора я ещё больше укрепляюсь в своих рассуждениях, но мне горько, что мама не понимает, что я хочу ей не зла. Я привожу жизненные факты, вред религиозных предрассудков, рекомендую побеседовать с образованными и партийными людьми, например с нашим классным руководителем Аллой Александровной, но мама ни что не желает (и для себя хуже!)».
Я, конечно, не был по своей морали Павликом Морозовым, доносить на маму в соответствующие органы о сборах баптистов в нашей квартире даже и подумать не мог, но всё же желание вынести наши споры на религиозную тему в третейский суд – «партийным людям», это уж слишком. Я этого не сделал, но само предложение этого меня сейчас бросает в дрожь: до какой степени мы были изувечены пропагандой! И как в нас воспитывали двуличие: с одной стороны, по Конституции – свобода вероисповедания, а с другой, – жестокое противодействие «религиозному дурману», вплоть до общественного порицания, исключения из партии и комсомола, наказания по работе.
Я не могу сейчас уточнить, из-за чего конкретно мы ссорились с мамой. Она не пыталась принудить меня, комсомольца, к вере. Не заставляла штудировать религиозные книги. Полагаю, что главной причиной были богослужения в нашей квартире. Мне не нравилось, что у нас дома, когда там не было ни меня, ни отца, собирались баптисты, молились, пели, читали… Если заставал – требовал уйти. Вежливо, но твёрдо. Мама не обижалась, но просила: «Но я ведь никуда не могу сходить…» И, в конце концов, я уступил: без меня – пожалуйста. И мама предупреждала: «Сегодня придут…». Это чтобы в этот день я, честный комсомолец, не спешил домой.
Позже за эту мою уступчивость я чуть не пострадал. Бывшая моя родственница донесла на меня моему редакционному начальству в АПН (а это идеологическая организация!), что я потворствовал тайным сходкам баптистов. И хотя баптистские секты не были запрещены, но это могло сказаться на моей карьере и партийном членстве. Однако главный редактор был удивлён, что пожаловались на меня уже через несколько лет после… смерти моей мамы. И тема была закрыта.
Да и как же я не мог уступить просьбе мамы, если эти невинные христианские посиделки были её единственной связью с миром, отдушиной в затхлой жизни, и если баптисты, со слов мамы, меня боготворили: парень не пьёт, не курит, не хулиганит (а это в то время было такой большой редкостью!), к тому же, как женщина, абсолютно всё делает по дому: в магазин ходит, воду и дрова приносит, печь топит, сам стирает, ходит полоскать бельё, вывешивает его на уличных верёвках, сушить и гладит!!!
Да, так вот сложилось, что уже с двенадцати моих лет не мама за мной ухаживала, а больше я за ней.
Открытая форма из-за закрытого пространства
Мама до последнего дня своего пыталась что-то делать по дому. И очень огорчалась, что не в состоянии помочь по уходу за появившимся внуком. Но у неё не хватало сил стать няней. К тому же был нежелательным постоянный контакт с ребёнком из-за маминого туберкулёза. В общем, за бедой ходит беда…
Из-за затворнического, малоподвижного образа жизни, из-за того, что она большую часть времени проводила в глухой каморке без окна, возле печки, у неё развился туберкулёз.
Определили это не сразу. У мамы постоянно держалась слегка повышенная температура – чуть больше тридцати семи, и она слегка подкашливала. «Я простудилась», – отмахивалась она. Я отлучился на пару недель в отпуск. Когда вернулся – мамы нет. Испугался. Но соседки «успокоили»: её положили в больницу на обследование. Участковый врач, много лет следившая на её здоровьем, заподозрила неладное. Жестокий диагноз подтвердился – туберкулёз лёгких. Причём в открытой форме, то есть опасный для окружающих.
Её каждый год на несколько месяцев направляли в какую-нибудь туббольницу, которая, как правило, располагалась в зелёной зоне – на окраине столицы (в Люблино) или вообще в Подмосковье, например в Мытищах. Лечение частично помогло: открытую форму больше не диагностировали. Потом наш опытный участковый врач, очень внимательно относившаяся ко всем подопечным, знавшая все подробности о каждом нашем заболевании, предложила вообще её оставить за городом на постоянное проживание. Я был вынужден согласиться. Моя активная профессиональная деятельность уже не позволяла мне столько же времени уделять маме, так же ежеминутно заботиться о ней, как раньше, а она уже и до туалета не могла самостоятельно добираться, пользовалась уткой. К тому же всё-таки оставалась потенциальная опасность для маленького сына.
Дали направление на проживание в двенадцатой туберкулёзной больнице. Адрес туманный: Ногинский район, местечко Берлюки. Как это местечко найти? Сказали: где-то за городом Щёлково. На карте это название я не нашёл. Через знакомых договорился с парнем, у которого был собственный «Москвич», отвезти маму в эти Берлюки. Но он тоже не знал, где это. Решили, что в Щёлкове уж кто-нибудь из местных подскажет путь. Но там никто и слыхом не слыхивал о таком необычном поселении. Наконец, местный милиционер вспомнил, что где-то на реке Воре есть что-то похожее, там монастырь.
Мы подъехали к станции Чкаловская. Отсюда шоссе ведёт в Черноголовку – как раз в нашем направлении. Выехав на мост через Ворю, мы увидели справа на крутом речном берегу высоченную колокольню. Монастырь! Но село-то называется Авдотьино! Даже местные жители не все догадываются, что это также и Берлюки. Но это уже не важно. Потратив часа четыре, мы достигли цели.
Как хорошо иметь знакомого с машиной. Тогда, в 60-е годы, владельцы легковушек, к тому же молодые парни, были редкостью. На такси мы бы сильно потратились. Да и согласился ли московский таксист ехать туда, не знаю куда, и искать то, не знаю что?
Больница действительно располагалась в бывшем монастыре (Николо-Берлюковский). Этот живописный берег был освоен монахами ещё в средние века. Потом на месте скромных обиталищ соорудили эту крепость с мощными стенами. То, что он имел оборонительное значение, доказывало наличие подземного хода, ведущего прямо к реке. Узнав потом о нём от столичных спелеологов-любителей, я попытался исследовать его. Однако далее нескольких метров побоялся углубиться. Деревянные опоры подгнили.
Советская власть экспроприировала монастырь у церкви, предназначив его для лечения. Для ходячих место хорошее – вокруг, прямо за стенами растут вековые сосны, ели, липы, клёны… Райский уголок.
Для ходячих. А для тех, кто прикован к постели?
В маминой «келье» были очень толстые стены, а небольшое окно-амбразура усиливало впечатление изолированности от внешнего мира. И было ощущение не благости и покоя, а тюремной камеры.
Я старался раз в неделю наведываться. Поскольку, как я уже отметил, своей машины у меня тогда не было, то пользовался велосипедом. И сорок с лишним километров пилил на нём, рискуя на узком загородном шоссе попасть под грузовик. И однажды попал… Под шуструю бабку. Она меня сбила. Возле Измайловского рынка. Видимо, она была огорчена ценами продуктов и, задумавшись, не обращая внимание на дорожное движение, буквально вонзилась в меня. Да так неожиданно, что я очнулся только в машине скорой помощи… Хорошо, что удалось потом разыскать мой шикарный полуспортивный велосипед.
Избавившись от болезненных ощущений после сотрясения мозга, стал экономить на передвижении до мамы: часть пути, до Балашихи, преодолевал вместе с велосипедом на электричке. Если весь путь преодолевать на общественном транспорте, то на это ушло бы очень много времени: пока доедешь только до автовокзала на Щёлковском шоссе – часа полтора потеряешь.
Старался не пропускать очередную неделю. Понимал, как маме не сладко жить в затворничестве, да ещё прикованной к постели и без общения с родными и вообще с людьми, за исключением одной соседки. Мама никогда не жаловалась. Хотя я знал, что нередко все её косточки ломило от непогоды, а массаж сделать некому. Казённой еды ей хватало, привозил только фрукты.
Но однажды у неё навернулись слёзы: «А всё равно жить-то хочется…» Как не хотеться, если ещё и жизни-то настоящей, в своё удовольствие, так она и не видела? Только-только я стал взрослым – ей бы возрадоваться, понянчить внука, а тут – келья…
Умерла мама не от ревматизма. Не впрямую от ревматизма. Неподвижный образ жизни привёл, как объяснила врач, к тромбу в кровеносном сосуде. Вероятно, в те годы от такой беды сложно было избавиться (если вообще это возможно), а может, просто врачи и не стремились к излечению лежачей больной и ничего не предприняли. Мне сообщили из больницы: «Срочно приезжайте…»
Я так и не понял тогда, узнала меня мама или нет. Она ещё могла даже сидеть в постели, но находилась в полуобморочном состоянии: блуждающий взгляд обесцвеченных серых глаз, нечёткие движения рук, вроде бы пыталась что-то сказать, но звуки уже не выходили из ослабевшего тела. «Она очень тебя ждала, – сказала мне её соседка по келье. – Ещё вчера вечером говорила: вот, мол, Толя приедет…» Даже если бы я приехал накануне, чем бы я смог помочь? Врач подтвердила мне, что мама безнадёжна.
На следующий день к маме поехала бабушка. Вернулась и как-то буднично, без слёз и дрожи в голосе, произнесла: «Наташа отмучилась». И в этой короткой фразе вся боль мудрой женщины, долгие годы видевшей муки своей старшей дочери. Лишь посеревшее лицо выдавало её очередное переживание. Сколько же горя выпало на материнскую долю моей бабушки: пережить, похоронить большинство своих детей! К такому испытанию не привыкнешь, но она понимала, что её дочь, моя мама, прикованная к постели, борясь с болями, многие годы страдала. И вот вердикт: «Отмучилась…» Жестокий, но жизненный…
Да, мама отмучилась, но как же было горько сознавать, что её уже нет, никогда не будет и не благословит она тайным от меня крестом слабой руки, как она всегда делала, когда я уходил из дома. Я знал об этом её жесте, но, несмотря на мой атеизм, я всегда желал этого её молчаливого пожелания. А может, он и правда охранял меня?
Похоронили маму там же, на местном сельском кладбище, рядом с монастырской стеной, под гигантскими вековыми деревьями.
А в девяностые годы с её могилки украли металлическую оградку. Кстати, вскоре оградку украли и с могилы тёщи, которая похоронена на более цивилизованном и вроде бы охраняемом московском кладбище – Хованском.
Эпоха виновата в этом разгуле воровства? Режим виноват? Элементарной совести у людей нет, чести, человечности… Оградка не кусок хлеба, который может воришку спасти от голодной смерти. Нет у тебя сейчас денег на оградку? Могилка может и подождать. И как же надо не уважать ни своих родных, для кого воруют с чужих могил, ни тех, кого обворовывают, ни себя, ни страну, в которой ты посягаешь на святое – на память об умерших… Брр-р-р, омерзительно. Какой тут «патриотизм»? Какая тут – «великая страна»???
Восстанавливать оградку я не стал. По соседству, в овражке, куда сваливают кладбищенские отходы, мы с женой взяли выброшенный кусок ограды. Установили его, покрасили. Рядом положили толстенный кусок давно спиленного дерева – получилось сиденье.
Поставленный отцом деревянный крест через несколько лет подгнил. Я заказал металлический, с маленькой фигуркой Христа. Пусть я – атеист, но мама-то – христианка.
В последние годы на некогда тихом сельском кладбище новая напасть. Стали очень уж активно хоронить. И не только молодых, погибших в борьбе за свои блага в период первичного накопления капитала после советского застоя. Много похоронено людей пожилых. Похоронено с размахом, богато, с показным уважением к предкам. Видимо, туго стало с местами на других погостах Ногинского района, вот и стали осваивать это глухое примонастырское пространство.
Что ж, дело житейское – хоронить-то умерших надо. Но зачем отхапывать кусок чуть ли в половину нашего дачного участка?! И почему, сгребая дёрн, кустарник, молодую поросль деревьев, надо перекрывать проход к другим могилкам? Ведь буквально в десятке метров начинается овраг, куда и так сваливают сгнившие венки, проржавевшие куски ограды, тару от пития и закуса. Нет, надо завалить тропу, ведущую вглубь кладбища, – лишь бы какому-то хамлу было удобно сидеть и распивать горячительное, заливая своё горе. Про чужое горе им невдомёк. Если и своё-то горе на самом деле испытывали?

